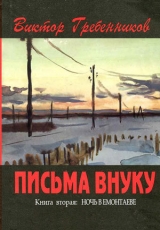
Текст книги "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве"
Автор книги: Виктор Гребенников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Письмо сорок третье:
НА РОССЫПЯХ
I.У читателя второго тома моих к тебе писем, дорогой внук, может сложиться впечатление, что автор этих писем шибко горазд на выискивание недостатков и всяких пакостей у других, даже достойных людей, и любит сквалыжничать, смаковать только плохое; ты же знаешь, что это не так – и по всем предыдущим моим книгам, списочек коих я приведу в конце этого тома, а здесь ещё раз скажу, что в жизни меня окружало очень много хороших, добрых, славных и честных людей, но в эту вот пачку писем они не попали только лишь потому, что описываемый отрезочек моей отроческой жизни был краток, беден на приключения, встречи и тем более на обретение друзей – мы всё ехали да ехали, превращаясь в некую странствующую бездомную семью, нищую, в коем ярыжном состоянии особенно ценится людское сострадание и всякие добрые дела. Но всему своё время, а сейчас, изрядно натрясшись в кузове грузовика между тюками и ящиками, я с матерью и отцом прибываю в конечный пункт нашего этого путешествия – в село Солдатское Нижне-Чирчикского района ташкентской области для участия в широком внедрении отцовского изобретения – вибратора для сухого отделения золота от песка. Село было хоть и небольшим, но состоявшим из чётко разграниченных двух поселений – узбекского, и, как я немало тому удивился, корейского; русских тут не было вовсе. Отец, а это был уже вечер, выбрал корейскую «половину», где не без труда нашёл жильё (трудность заключалась в полнейшем отсутствии такого элементарного средства общения как язык); ночь ушла на разгрузку машины и на затаскивание ящиков в жилище, а с рассветом шофёр Золоторедмета Ерёмин распрощался с нами и укатил в свой далёкий теперь от нас Ташкент. Я не буду здесь описывать укоры и слёзы матери, брань отца и всякие прочие вздоры по случаю данного переезда на эти неведомые кулички, ибо о взаимоотношениях членов нашей семьи и о характерах каждого из нас я предостаточно написал в первом томе своих этих писем; зато опишу подробнее здешний мир, в который я вдруг попал.
II.Первое, что меня весьма приятно поразило в Солдатском – это тишина; в тёплой южной ночи слышались лишь мелодичные тихие песни очень милых и таинственных насекомых – стеблевых сверчков, удачно названных энтомологами трубачиками; их песни сразу же напомнили мне родной Крым, где они тоже водились. Дом, часть которого нам сдал кореец (увы, короткое трёхбуквенное имя этого доброго человека я не запомнил), состоял из двух помещений. Второе из них, комната метров на двадцать, куда нас поместили, ничего особенного не представляла; зато первая комната, дверь коей открывалась прямо на улицу, была очень даже замечательной; в ней жил хозяин с женой и двумя детишками. Комната состояла из двух частей: около середины её вторая половина помещения была приподнята относительно первой сантиметров на двадцать-тридцать. Эта приподнятость была сплошь устелена циновками, весьма искусно сплетёнными из тростника в виде самых разнообразных тугих плоских узоров; никаких стульев тут не было, ибо хозяева и дети сидели на полу на этих вот сказанных циновках. Названная приподнятая часть пола имела прямо напротив входной двери отверстие топки, куда вставлялся длинный, метра в четыре, пучок сухого местного тростника; по мере его сгорания сноп сей вдвигался в топку; если то требовалось, то за первым комплектом топлива следовал второй, из запасов, находившихся тут же на дворе за дверью. Над топкой в поднятую часть пола был вмурован большой полусферический котёл, в котором готовилась пища, кипятился чай, нагревалась вода для хозяйственных нужд, разумеется, поочерёдно, ибо котёл был один. Пламя и горячий воздух после топки поступали в горизонтальный дымоход, кирпичный, идущий под приподнятым полом; у стены этот тоннель поворачивал назад, затем снова вперёд, и так, змееобразно, подо всею системой, которая называлась коротким корейским словом, тоже о трёх буквах: кан. Последний отрезок дымохода присоединялся к вертикальной печной трубе, торчавшей над крышей дома самым обычным образом, Кан нагревал всю площадку, обмазанную глиной, побеленную и устланную циновками, тут было тепло и уютно; на кане и спала вся семья. Питалась эта семья очень скромно: немного риса, побольше зелени; в ход шла и зелень одуванчиков, и даже такая знакомая мне травка, как дикие калачики, что из семейства мальвовых, по-научному просвирник; мы с пацанами в Крыму лакомились их зелёными соплодиями, действительно похожими на крохотные калачи, а эти ели их листья, нашинковав и вкусно приготовив.
III.Однажды у хозяев на дереве я увидел распяленную шкурку их пёстрой домашней собачонки; как мог, жестами спросил, что с нею такое случилось. Хозяин сообщил мне, тоже жестами, нечто совершенно удивительное: помнишь мол, мы угощали тебя вчера зеленью с тушёным мясом? Так вот это и была та самая собачка… Блевать от брезгливости было поздно: ведь прошли почти сутки; зато я понял, почему это регулярно, в какой-то из дней недели, люди ведут поутру на местный небольшой базарчик привязанных на верёвках собак, иногда по нескольку штук, больших и малых, ничего плохого не подозревающих. Впрочем, дело не только в традиции, а в величайшей бедности, и можно было понять этих обездоленных людей: огромные сады, примыкающие к каждому дому и способные с лихвою прокормить семьи, были «поотрезаны» государством таким образом, что хозяевам оставался лишь строго ограниченный клочок (не помню какой площади, но крохотный) лишь с несколькими деревьями; остальное добро зарастало буйной травой, виноградные лозы толщиной с мою руку по-дикому обвивали яблони, абрикосовые, грушевые деревья, высоченные тополя; всё это, даже неухоженное, запущенное, давало громадный урожай плодов, но заходить за отмеченную законом черту хозяин не имел права, даже затем, чтобы подобрать валявшиеся на земле истекающие сладким соком плоды. Зато тут, в этих ничейных садах, общая площадь коих была огромной, мне было полное раздолье и истинный рай в отношении объектов моего познания – насекомых; кроме них, тут водились огромные безногие ящерицы желтопузики и разная другая живность, что подробно описана и нарисована мной в книге «Мой мир», которую мне пока так и не удалось издать. Своеобразная природа этих мест меня заинтересовала, увлекла, и чуть-чуть пригасила тяжкую патологическую тоску по моей южнороссийской родине Крыму; а вот перекинуться хоть единственным русским словом тут было не с кем; школа же была только начальной, узбекской, и над моим дальнейшим образованием нависал большущий и совсем несправедливый, по моему разумению, крест. Придётся ждать сколько-то лет, пока отец не наработает на своём замечательном вибраторе столько денег, чтобы мне податься куда-нибудь, уж не до хорошего, в техникум или училище, как то сделал мой старший брат Анатолий, поступивший в авиаучилище в Севастополе, но вскоре, за неимением средств, перешедший там на судоремонтный завод; а может мне тогда просто взять да и удрать в Симферополь, где меня ждала божественнейшая карьера на биофаке?..
IV.Наконец, один из малых полевых «походных» вибраторов, привезенных отцом, собран, испытан, положен в рюкзак, и мы отправляемся на ждущие нас песчаные золотоносные брега широкого (по сравнению с моим Салгиром) Ангрена, притока Сыр-Дарьи. Золотоносный песок тот был замечательным: светло-охристого цвета, песчинка к песчинке, промытый рекою до лабораторной чистоты. Пока отец устанавливает-налаживает аппарат, углубляюсь в заросли высоченного, в два-три моих роста, прибрежного тростника, которым топят здесь печи, толсто покрывают все крыши корейских жилищ, в том числе и нашего, и плетут из него вышесказанные циновки разнообразной красоты. Песок меж растениями усеян превеликой массою следов – птичьих, ежиных, змеиных, жучиных, черепашьих, и я чувствую себя счастливым, что попал-таки в одно из любимых мною царств – царство малых живых существ, с коими я упоенно общаюсь в этих прибрежных тростниково-песчаных дебрях, пока отец трещит на брегах Ангрена своим вибратором. Но вот однажды ветерок потянул в другую сторону, и нас обдало невероятной, ни на что не похожей препакостной незнакомой вонью, которая не исчезала, вызывая слезы, кашель; а когда дело дошло до рвоты, нам пришлось спешно собрать свои причиндалы и отступить, в село, от коего мы отошли вниз по Ангрену на три километра. Происхождение зловонного облака было таковым: здесь выращивали какое-то растение, название коего я забыл (не то кунжут, не то кенаф, не то ещё что-то подобное на букву «к»), из высоких стеблей какового растения извлекали волокно, шедшее на изготовление верёвок (их вручную вили неподалеку на полукилометровых пустырях), грубой мешковины, каких-то матов; и ещё из семян этого растения давили горьковатое пищевое масло. Но для лёгкости извлечения волокон из стеблей требовалось сгноить всё остальное растение, что и производилось в огромных искусственных озёрцах на берегах реки; смердящая вонь эта была крутой и ужасающей: представь себе аромат дохлятины, гнившей на солнце не один день, и мысленно же приправь её изрядным количеством мелконарезанного укропа – так вот и получится запах тамошнего волокнисто-верёвочного производства тех лет; такая вот, брат, экология. Так что отцу пришлось совершать свои золотоискательские вылазки подальше отсюда, то есть вверх по Ангрену, тем более, что, по слухам, золото было найдено где-то там. В самом же селении узнать об этом было решительно не у кого, хотя на одной из дверей в сельсовете имелась вывесочка приемного пункта продукции золотодобытчиков; дверь эта всегда была на замке, сколько ни околачивался подле неё отец и как ни пытался узнать что-либо у немногих здешних чиновников-узбеков, изредка появлявшихся в сельсовете и либо не понимавших ни слова по-русски, либо прикидывавшихся, что не понимают; так что отец вынужден был плюнуть и действовать самостоятельно. До одурения крутили мы колесо его вибратора, загорели до узбекской черноты, а вечерами, дома, когда отец пропускал обогащенный концентрат через последний настольный микровибратор, и в щепотке концентрата оказывался только шлих (черноватые частицы соединений железа), он приходил в недоумение, а потом и в ярость, изрыгая поносные трёхэтажные ругательства неизвестно в чей адрес.
V.Мы ещё и ещё раз проверяли качественность его аппаратов на крохотных пылинках свинца, кинутых в песок – точные весы показывали, что весь свинец прибором добросовестно отлавливается; но нескончаемые наши походы на пресловутые приангренские золотые россыпи кончались, как правило, ничем. Обследовав таким способом многие километры береговых песков, отъезжая вверх по течению ещё на десятки километров на паромообразной посудине, курсировавшей изредка по реке, переработав вибратором многие тонны песка, мы не обнаружили даже мельчайшей чешуечки столь желанного металла на этих треклятых россыпях, прославленных прошлогоднею газетой. Не знаю какими путями, но отцу кто-то передал вещественное доказательство негодности его вибратора, который дескать вовсе не задерживал золото, и потому мол ему тут делать нечего и надобно побыстрее уехать; «вещдок» этот представлял из себя щепоть мелкого золотишка, добытого-таки старателями на Ангрене обычным способом промывки водою. Здесь и пригодилась моя биологическая оптика: при разглядывании золотинок в микроскоп я увидел явно рукодельное их происхождение: это были опилки, полученные строганием золота напильником, потом сплющенные молотком на наковальне, а не сложной округлой формы самородочки или округлые волнистые же чешуйки, каковые залегают в природных песчаных и иных россыпях. Мы с отцом смоделировали этот процесс, напилив опилок с кусочка меди и потюкав таковые молотком; получились точно такие же, как и золотые «образцы». К тому же времени оказалось, что за вышеназванной дверью с вывесочкой творились совсем уж непонятные дела, где фигурировали большие количества бонов – талонов за сданное «старателями» золото, кои боны менялись тут на денежные ассигнации, дорогостоящие товары и продукты; обороты эти были громадными, соответствующими десяткам и сотням килограммов сданного «старателями» такого золота. Не оставалось сомнений в том, что для этого шли в ход золотые банковские слитки, сюда доставляемые; весь труд золотодобычи заключался в превращении сих слитков в опилки и их расплющивание.
VI.Возмущению отца не было границ; из Солдатского полетели телеграммы и письма в Ташкент и Москву с жалобами на крупное жульничество, отцом почти раскрытое, и сообщениями о том, что никакого природного золота здесь нет вовсе. По истечении некоего небольшого времени к нам в комнату, снятую у корейца, ввалились двое, один узбекской внешности, другой, к удивлению нашему, русский; оба весьма гнусного бандитского вида; каковые прямо при нас с матерью сказали отцу примерно следующее: вот что, дед, пока ты и вот эти твои целы, убирайся отсюда из нашего Солдатского подобру-поздорову, и не вздумай куда-нибудь звонить или писать, иначе убьём вас тут всех, утопим в Ангрене, и никто никогда концов ваших не найдет да и не будет искать. Отец пытался было что-то возразить или спросить о причинах ультиматума, но в ответ тот, что в узбекской одежде, посмотрев на отца этакими своими зверскими глазами, молчаливо поднёс к его носу преогромный нож, на невиданно широком лезвии которого, как сейчас я хорошо помню, волнисто отразилась часть отцовского лица. Замечательный нож этот был затем спрятан сказанным ублюдком в глубь халата, и оба эти негодяя не торопясь удалились, дав сроку на сборы всего сутки для нашего отбытия, – надо отдать этим жуликам и мерзавцам должное – «персональную» грузовую машину. Вот так и закончилась, осенью 1940 года, наша «солдатско-золотоискательская» эпопея, когда мы были изгнаны из этого самого Нижне-Чирчикского района Ташкентской области с превеликим треском и унижением.
Письмо сорок четвёртое:
ИЗГНАНИЕ
I.В Узбекзолоторедмете, посещения коего в Ташкенте в первый наш тот сюда приезд мне ещё тогда смертельно надоели, уже, разумеется, знали об отцовском разоблачении фиктивности золотых россыпей на Ангрене, а потому дорога в сказанное учреждение, к моему удовольствию, была разумеется, заказана, а может даже и опасна. А что? Одного-двух толстенных, и, как правило, усатых блюстителей ташкентской тогдашней законности, то есть, милиционеров (к слову: они все тогда были тут при саблях!) вполне бы хватило, чтобы нас, знавших слишком много, увезти прямо из «Редмета» в милицейском «чёрном воронке» туда, откуда нет возврата; поэтому отец проявил-таки осмотрительность, и наши ящики-мешки-чемоданы были сгружены в каком-то другом, незнакомом мне, районе города, состоявшим из новых одноэтажных особнячков из сырца-кирпича, и все эти особнячки были частные. Мы с матерью остались караулить груду нашего багажа, а отец отправился искать пристанище и тому багажу, и нам самим. Какой-либо концепции насчёт нашего дальнейшего местожительства и отцовской работы в его голове ещё не родилось: слишком внезапным было наше изгнание из Солдатского. Кое-чего мне было уже и жаль: запущенных «отрезанных» властями садов с множеством насекомых и дармовых вкуснейших плодов, добродушных хозяев-корейцев, с коими я уже вполне сносно объяснялся на совместно изобретённом во время взаимообщения языке наподобие языка глухонемых; базарчика, не только с собачьим «мясным» рядом, но и с вкуснейшим кисломолочным напитком домашнего приготовления, продаваемом тут в сосудах типа античных амфор, но это были оболочки специально выращенных посудных тыкв; одиночества, в смысле отсутствия сверстников, которое тогда почему-то мне очень понравилось; сухой-пресухой погоды, которая, как ты знаешь, лучше всего воздействует на мой организм и на настроение; и ещё жаль было какого-то особого своеобразия тех мест – а я, как ты знаешь, приживаюсь к любого рода местам и местечкам весьма сильно, стоит лишь тут совсем немного пожить и самую малость сделать; однако лопнул и этот мирок, скорее всего к лучшему, так как там я наверняка бы остался абсолютным недоучкой. И вот он снова – громадный Ташкент… Отец порешил так: где-нибудь пока остановимся – дело уже бывалое! – затем подыщем домик, купим его на остаток денег (у отца на аккредитиве оставалось тысяч двадцать пять рублей из сорока тысяч, за которые он продал последний кусочек моего симферопольского огромного Дома), ну а кем и где ему работать, и работать ли – будет видно, и вообще мол это не наше с матерью дело, ему и без наших причитаний тошно. Приютил нас с багажом некий сравнительно молодой ташкентец, вроде бы из интеллигентов – владелец такого вот кирпичного особняка, недавно выстроенного, и жившего в нём с семьёй.
II.Кое-как устроившись наскоро в отведённой нам комнатке, мы отправились по городу по объявлениям типа «продаю дом». Всё что было мало-мальски подходящего, оказывалось почти или даже совсем не по карману, поэтому пришлось опуститься как бы на порядок ниже и искать продаваемое жильё на каких-то дальних заташкентских куличках. Мне-то всё предлагаемое нравилось: глинобитный немудрящий домишко, садик с арыком, а над тем садиком-двором высоко в воздухе, представь себе, ещё чей-то арык, но не вырытый в земле, а текущий в жёлобе из досок; сей акведук, опираясь на длиннющие ноги-жерди, проходил над многими дворами, и из него сюда, вниз, падали иногда большущие хрустальные капли. С едою тоже вроде не было бы проблем, ибо знаменитые ташкентские чайханы были даже в таких захолустных кварталах; в такой чайхане, устланной коврами, подавали не только чай в фарфоровых чайничках и пиалах к ним, но и вкуснейшие свежие чуреки, зелень, а то и что-нибудь мясное; трапеза, смотря по погоде, совершалась либо в самой комнатке, очень уютной и какой-то домашней, либо, чаще всего, на воздухе под навесом или под сенью кроны густого чинара. Гостеприимность таких заведений обогащалась и поведением самого чайханщика, необыкновенно вежливого вплоть до угодливости, даже если ты заказал ему всего лишь чайничек холостого чая. Уютно устроившись на стареньких коврах, клиенты чайханы седобородые узбеки вели неторопливый мирный разговор, изредка подливая в пиалы по маленькой порции чая, наверное, чтобы растянуть удовольствие. Мы с отцом частенько перекусывали в этих милых заведеньицах, устав от мотаний по кварталам в поисках продающегося подходящего жилья.
III.К этой сказанной многодневной бестолковой «работе» я уже начал было привыкать, как вдруг разразился страшный скандал: утром в нашу комнатку вошёл хозяин, глянул на нас пренедобрым глазом, и изрёк, что, поскольку наша семья, извини за натурализм, завшивлена, то мы немедленно, сию же минуту, должны покинуть его дом. Никакие уговоры-просьбы-клятвы привести себя и всё наше добро в надлежащее санитарное состояние не помогли: мы были и отсюда с треском выставлены вон, прямо на улицу. Куда деваться трём горе-путешественникам с ящиками, тюками и «живым инсектарием» на самих себе? «Да будь он проклят, этот Ташкент, – изрёк, наконец, отец, – едем обратно в Крым, купим хоть крохотный домишко, а там будет видно». А пока, чтобы передохнуть, помыться-постираться, заедем мол к его брату, моему дядюшке Димитрию, о котором я тебе уже писал – всё равно поездом ехать через этот самый Исилькуль. Наши с матерью, уже утраченные было, мечты в целом совпадали с этим новым отцовским проектом; так мы опять оказались на Ташкентском железнодорожном вокзале, «третий зал» коего для долго-едущих пассажиров размещался прямо под открытым небом. Мать была оставлена тут караулить наши громоздкие путевые чемоданы, а груз в тюках и ящиках, для отправки его в тот самый Исилькуль «малой скоростью» был доставлен на товарную ташкентскую станцию; все предыдущие надписи на нём нас заставили тщательно соскоблить, и обозначить новые данные на фанерных таких бирках. Весовщик, принимавший багаж, вцепился в ящик, с силой тряхнул-покачал его, и сказал по-ослиному со здешним акцентом: «Нэ приму! Бальтается. Перпакуй!» Легко сказать «перпакуй», когда, согласно инструкции, ящики уже плотно окантованы со всех сторон железной полосой на толстых гвоздях. Но чиновник был неумолим. Сутки ушли на «перепаковку», и, конечно же, у нас не обошлось без кровяных царапин от этой стальной окантовки, без отбитых пальцев и заноз: несподручно такую пренедобрую работу делать без инструментов на галдящей улице; я то и дело бегал к матери в «зал номер три», где между рядов спящих людей, обнявших свои узлы и чемоданы, дефилировали субъекты с надрюченными до бровей кепками и поднятыми воротниками, нагло, на глазах у всех, высматривающие воровскую свою добычу. Выбрав чемодан поинтересней, блатнюга удалялся, и вроде бы всё успокаивалось; через небольшое время где-нибудь рядышком некие посторонние люди затевали то ли ссору, то ли что-то другое, шумное; владелица чемодана на миг поворачивалась туда, и добыча в мгновение ока перелетала через невысокую ограду как раз в ту точку, где её ждали заботливые руки напарников, так что «угол» (блатное название чемодана) не долетал до земли, а тихо растворялся в толпе. Плач, вопли, вызов милиции были бесполезными, ибо, как нам рассказали, милиция была тут повязана с ворьём накрепко, ибо им, усато-мордастым блюстителям порядка, шёл от этой всей работы определенный немалый процент.
IV.Наши «углы» сия участь миновала, зато беда была с ящиками на товарной станции: сменивший вчерашнего весовщика мускулистый дородный узбек подверг их сверхдикой тряске, втрое сильнейшей, чем это делал вчерашний весовщик, который, несомненно, «передал» нас своему сменщику, чтобы тот забраковал нашу упаковку. Кое-как вся эта история кончилась тем, что эти железнодорожные скоты и мародёры выудили у отца большущую взятку, в то время как нам было уже ясней ясного, что оставшиеся деньги надо теперь очень и очень экономить. Багаж был наконец сдан; а вот с билетами на Исилькуль (с пересадкой в Новосибирске – о будь он неладен!) было настолько туго, что за несколько суток сидения в «зале № 3» отцу удалось-таки взять билет на Новосибирск, но с пересадкой в некоей Арыси, ибо тот поезд сворачивал за сказанной станцией куда-то направо. С превеликим трудом дождались этого проклятущего поезда, втиснув в вагон узлы и чемоданы, и через какое-то тоже немалое время высадились в этой самой Арыси. Здешние мытарства-очереди-взятки-посадки описывать уж не буду – они длились несколько дней. Не говоря уже о долгом, нудном пути в грязном душном вагоне, многодневной, ещё более безнадёжной, пересадке в Новосибирске, в результате коей мы вконец и густо обовшивели, а я впервые понял, что значит духовная усталость и к чему может привести бездумный авантюризм (впрочем, если забежать далеко вперёд, а именно в следующий том, то некая долька сказанного отцовского авантюризма перешла по наследству и мне). Здесь, в Сибири, уже была зима; на станции нас встретил дядюшка Димитрий, помогший дотащить до своего дома наши дорожные причиндалы, настолько мне осточертевшие, что я в душе готов был променять всё это, плюс к тому и то, что идёт «малой скоростью», за даже небольшой кусочек спокойного оседлого житья хоть где-нибудь. Резкий мороз вмиг обжёг лицо и руки, а затем и мои бедные ноги в продырявившихся уже ботиночках. Этот поселок Исилькуль состоял, в основном, из приземистых избушек и землянок, весьма убогих; мы миновали морозный рынок, где я заметил казахов в таких самых лисьих малахаях, о которых когда-то мне рассказывал отец в Степняке; сразу за базаром мы вошли в улочку, называвшуюся Омской. Что ж, поживем, раз такое дело, немножко у дядьки, на этих убогих прегадких куличках – и домой, в Симферополь!








