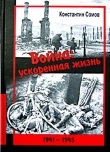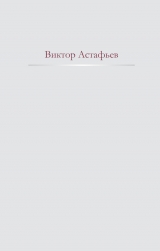
Текст книги "Нет мне ответа..."
Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Посылаю тебе слайд, может, не сейчас, так потом где-нибудь пригодится. Маню два дня как из реанимации перевели в палату – выкарабкалась и на этот раз. Молодец! Без неё мы совершенно беспомощны. Ладно, Тамара Четникова из Вологды прилетела и вот уже более месяца выручает нас, торчит на кухне и в ванной, варит еду да стирает. Иногда я её вывожу «дохнуть воздухом». Вчера вот в театре были, смотрели здешний «Вишнёвый сад», убогий, конечно, сад-то, унылость и безликость Чехова в драматургии и выдающиеся театры и актёры вывозят с трудом, а уж провинция...
Сдавал я повесть в «Знамя», прилетала редакторша и помотала ж мои истрёпанные нервы – старость автору не в упрёк, но и редактору не награда, въедливость и буквоедство заменили в старушке советчика и помощника.
Затем делал ксерокопии, вычитывал, складывал, паковал, завёртывал (Мани-то нет, даже и обматерить некого, на ребят зыкаешь, а с них, как масло с гуся (постное). Поля, правда, стала лучше учиться, больше следить за собой (бегает даже по лесу утром) и тёте Тамаре помогает. Сейчас вон приходила чванилась: «Деда, я прибираюсь». – «Ну и прибирайся!» – «А я как пол вымою, дашь мне денег на мороженку?» – «А сколько стоит мороженка?» – «Тысячу четыреста рублей». Ох-хо-хо, что делать-то! «Если, – говорю, чисто вымоешь пол – будет тебе мороженка».
Витя учится на курсах шофёров. Если не проспит занятия, ездит куда-то. А курсы-то – дороже денег. Просит компьютер купить, говорит, уже умеет с ним управляться, станет бабке помогать с рукописями. Придётся покупать, всё занятие, может, в будущем пригодится.
Сейчас я думаю передохнуть и попишу комментарии, а то всё было недосуг. Почты на столе сделалась – гора и всё не просто письмо иль там записка, а послания, анкеты и формуляры какие-то. которые и не хотел бы, да начнёшь заполнять. Боязно!
Обнимаю – звони, да с казённого телефона, свой разорителен, у меня гости и редакторша поговорили всласть с домом и столицею, едва рассчитался...
Поклоны всем. Ваш В. Астафьев
3 марта 1998 г.
Красноярск
(Р.Белову)
Дорогой Роберт!
Не успел я ничего с чусовлянином существенного отправить, а вот письмо это тебе отправлю с Секлетой, она послезавтра уезжает (я тоже отдам письмо на машинку, ибо тоже почерк свой усовершенствовал до крайности, а Маня начинает оживать после болезни, и незагруженной её видеть как-то непривычно).
Значит так, чусовскую серию С Миши начнёте, а продолжите Марьей, а меня чуток помедлите. Кого-нибудь впереди меня высунете, если время не терпит.
Когда напечатается «Весёлый солдат» – май-июнь в «Новом мире» – сегодня я жду звонка, чтобы прочесть по телефону правку в вёрстке, то сложится книга из трёх повестей: «Так хочется жить», «Обертон» и «Весёлый солдат». Это примерно 25-28 листов – единый цикл. Чтобы полегче вам было с изданием (прямо возрождение какое-то!), гонорара ни мне, ни Марье платить не надо никакого. Что касается Селянкина – что-то отбирать надо, иначе народ вас не поймёт. Кстати, я недавно прочёл повесть Ольховикова – чусовлянина, совсем недурная повесть, хотя и называется «Камень», написанная уже уверенной рукой. Его знают в «Чусовском рабочем», он там прежде работал.
А письмо президенту мы писали в позапрошлом году, мы – это члены комитета по премиям, писали насчёт провинциалов: Бориса Екимова, Алексея Решетова и ещё кого-то, не помню. Не уверен, что письмо то до президента дошло – такая хевра его окружает, со стороны культуры в частности, что не приведи Бог.
Марья моя, повидавшись с Секлетой, ожила. И слава богу. У нас уже тепло, тает, авось и настоящего тепла дождёмся, до весны ещё одной доживём.
Ребятишки наши живы и резвы. Витя дело своё маленькое налаживает, стал серьёзным, к нам приветливым, но российская бюрократия, лучшая в мире, терзает его. А я говорю: «Как иначе-то? Чтобы понимал, где живёшь, да ещё и делом пробуешь заниматься. Тут у нас только бездельнику климат».
Словом, пока живём и надеемся на лучшее, чего и тебе, и всем пермякам желаем. Кланяюсь. Виктор Астафьев
15 марта 1998 г.
(А.Бондаренко)
Дорогой Алёша!
Только что улетела от меня моя редакторша – добили мы собрание сочинений, сдали три последних тома. Если бы не Марья Семёновна и не Агнесса Фёдоровна, мне бы самому этот адский труд не одолеть. И она, редакторша, сутки спала, в Москву улетевши, а я тут почти в обмороке сутки отвалялся, но всё равно встал с больной головой, однако почты выше головы накопилось, так вот хоть сверху что лежит – отвечу.
Зарисовки, Алёша, ничего, но не торопись ты печатать всё, что напишешь. Эти зарисовки можно и спустя годы напечатать, желательно, когда героя не станет. Кстати, мне прислали журнал «Муравейник», и там два твоих этюда напечатано. Журнал, если не купишь, возьми у нас. Нонче весной мы с тобой сможем увидеться только в середине мая. В начале мая, здоров буду, улечу в Италию, в Миланском университете читать лекцию о сибирской литературе.
А пока попробую отдохнуть, одолеть почту и кое-что полистать о сибирской литературе, подготовиться к чтению лекции. Я, правда, уже читал в Амстердаме, Женеве, Греции, Японии, но обновить кое-что в памяти всегда не лишнее.
В Овсянке давно не бывал. Пожар там опять был, сгорела изба, правда, не до основания, пьяницы Витьки Рошкова, а Володя, что на берегу всё ковырялся, дрова ловил, корчажки и сетёнки ставил, со страху помер, так вот и тут смерть подбирает путёвых стариков, а пьяницам, им ни хера не делается.
Ну ладно, голова чугунеет совсем.
Алёша! Будешь в лесу – наруби иль наскобли килограмма два пихтовой коры, читательница одна просит для больного сына. Не забудь, пожалуйста, или лесника какого попроси и пошли с попутчиками, ладно?
Люде поклон. Переправил мать-то с обменом квартиры. Ещё одно деревенское гнездо опустеет. О-о Господи, когда же наоборот-то будет?
Обнимаю. Виктор Петрович
26 марта 1998 г.
Красноярск
(А.В.Астафьевой)
Дорогая Ася!
Прости меня за долгое молчание. Совсем тут закрутило меня с новой повестью, собранием сочинений и множеством хлопот, да и суеты.
По получении от тебя почты сдал я твои сказки и рассказы в наш журнал «День и ночь», и они там, в редакции, всё читали и читали, а я всё ждал и ждал, а время бежало и бежало. Потом я поорал маленько и прочли они, злодеи, рукописи и, как я ожидал, сказали, что не ихнего профиля эти творения, однако ж рассказ или два пообещали дать, если выживут. С деньгами плохо, как и везде, и каждый номер журнала выходит, как бы последний.
Повесть я сдал, уже и вёрстку прошёл, идёт она в майском и июньском номере, сдал и все тома собрания сочинений, что стоило мне полной, смертельной усталости, и я отъехал от дома маленько, в местный лесной профилакторий. Поскольку не сезон, живу уже неделю в половине деревянной дачи один и впервые за много лет отдыхаю и начинаю понимать, что такое отдых! Тишина, никого нету, в соснах ветер пошумливает, птички поют, а главное, писать ничего уже не надо. Хотя и привез с собой полный «дипломат» скопившихся писем, но и даже их писать неохота.
Осталось ещё дня четыре мне здесь вольготно пожить, а там домой, там телефон, люди докучливые, тяжба с выборами, но главное, совсем ослабшая от хворей Марья Семёновна. Плохи дела её, собралась опять умирать, сердечные дела её давят, и нога, разрушенная туберкулёзом, отказывается ходить. Давно она уже из дома не выходит и в доме от кровати до кухонного стола кое-как добирается, но чуть полегчает, уже за машинкой, уже бумажками шуршит. Ну, никто, как Бог.
Поля растёт, перевалила за 15 лет, помогает по дому, но и хлопот-забот бабушке от неё много исходит. Слава Богу, что не пьёт, не курит и наркотиками не занимается. Один раз заставил я её руки показать, ревёт, возмущается: «Дед! Да ты что?!» А я говорю, что лучше сейчас маленько поревёшь, чем потом горько плакать, и пригрозил, что зашибу, если чего замечу. Возраст-то переходный во времена ломаные, приходится построже быть.
Скоро должны мне выплатить деньги за собрание сочинений, и тогда я смогу послать и тебе, а пока тянемся на то, что получаем мои случайные гонорары. Жду с нетерпением мая, чтобы в середине его уехать в Овсянку, если М. С. окончательно не сляжет. Не дай Бог, оставить её не с кем, а без житья в Овсянке мне быть невозможно.
Ну, опять же, никто, как Бог.
Передавай поклон Зине и матери. Кланяюсь, целую. Виктор Петрович
29 марта 1998 г.
Красноярск
(Г.А.Солуяновой)
Дорогая Галина Анатольевна!
Рад Вашему письму и особенно рад, что кто-то ещё шевелится и почитает память Саши Вампилова и хлопочет о книге, доступной читающим людям. К сожалению, сейчас я приехать не могу. После сдачи последних томов своего собрания сочинений находился почти в обморочном состоянии. Ещё и сдача, доработка новой повести («Новый мир» № 5—6), да и суета, и хлопоты по дому и хозяйству.
Вторую неделю нахожусь в профилактории неподалёку от города, отоспался, отдохнул, ничего не делал (мне понравилось!), а то сам себя в гроб загнал.
Завтра я уезжаю из этого рая и начинаю оформлять поездку в Италию, должен в Миланском университете провести беседу о сибирской литературе. Вернусь, займусь огородом, в середине лета поездка по краю с обществом «Мемориал» по местам гулаговским, осенью, в сентябре, у нас должны пройти вторые «Провинциальные чтения» на тему «Современная литература и библиотечное дело». Я готов, если Вы согласитесь, пригласить Вас, Ларису Геннадьевну и Свету Асламову на это мероприятие, на пять дней. Всё оплачивается – дорога, проживание, питание и пр.
Первые чтения, проведённые два года назад, собрали много народа, но времени не хватило всем выговориться – всего три дня, так на этот раз мы намечаем пять дней. Все хлопоты по организации встреч берут на свои плечики бабёнки из нашей замечательной овсянской библиотеки.
В прошлый раз из Иркутска смог приехать только Гена Машкин, расспросите его хоть по телефону и он Вам расскажет, что это такое.
Единственное, в чём Вас заверяю – политики и рассуждений на тему «кто за кого» не будет, а разговор настоящий будет.
Кланяюсь Вам, желаю доброго здоровья. В. Астафьев
4 апреля 1998 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!
Уж какая там у вас война происходит, да ещё «вокруг меня», мне неизвестно. У нас тут тихо и пристойно, выборная борьба поглотила всю энергию народную, да, кажется, и творческую. Одна лишь пащенковская газета исходит воплями, что случается при запоре в прямой кишке и в башке, устроенной единожды по пещерному ещё чертежу и коммунистической схеме.
Я всю зиму работал, стараясь разделаться с новой повестью и собранием сочинений. Последние тома выдались особенно трудоёмкие: 12-й – публицистика. 13-й сборный – новая повесть, восстановленный рассказ «Ловля пескарей в Грузии» и послесловие к нему более самого рассказа, где позволил себе сказать всё, что было, всё, что я думаю по поводу сего времени, и попутно и о гнусных воспоминаниях Викулова и не менее гнусном поведении журнала «Наш современник», его нонешнего редактора и авторов вроде Василия Белова, который совсем сдурел иль лучше сказать по-хохляцки «с глузду зъихав», и никто не смеет ему суперечить. Два последних тома – письма.
Если б не мои самоотверженные бабы – моя жена и Ася Гремицкая – редакторша, бросил бы я последние тома, остановился бы где-то в районе 13-го. Весь мой пар вышел, все силы и терпение иссякли.
Отправил Асю в Москву, сдавши все тома в издательство, и отправился в недалёкий профилакторий, где спал почти трое суток беспробудно, а всего пробыл в одиночестве и тишине почти полмесяца, но у М. С. случился очередной приступ (они у неё всё чаше, всё тяжелее), и я вернулся домой. Пытаюсь разделаться с почтой и текущими делами. М. С. из дома не выходит, бытовая часть на Польке – магазин, почта, аптека, а коммунально-коммерческая – на мне. И только вплотную соприкоснувшись с ними, начинаешь понимать, как крепка и вечна русская бюрократия, при посредстве компьютеров и прочих машин достигшая небывалого совершенства.
Вообще-то, я уж никого к себе не пускаю в качестве корреспондентов, одна морока и досада от них, но «Смене» отказать не могу и тебе тоже. Середина июня – время хорошее. Я нонче не собираюсь творить. И вообще на бумагу и чернила смотреть не могу, хочу отдохнуть как следует, вот и ты у меня в избушке отдохнёшь. Она цела, прохладна, вымыта и ждёт пациента, а избу малость ремонтировать надобно, и огород к той поре посажен будет, и жарки как раз в самом распаде будут, и я в Италию не поеду. Звали в Миланский университет рассказать о сибирской литературе. Я невольно задался вопросом – сколько же сибирских университетов интересуются литературой Италии? Нет мне ответа.
Ну, обнимаю тебя, кланяюсь жене и парням. Преданно кланяюсь. Виктор Петрович
7 апреля 1998 г.
(В.Михайлову)
Дорогой Володя!
Рад был узнать, что ты жив, да ещё и работаешь. А то ведь все письменники Прикамья повымирали, один Алёша Решетов остался, да и тот на старости лет оженился, и жена его якобы увезла в Екатеринбург.
Писать тебе всяческие воспоминания я не буду, ибо устал от писаний до того, что на бумагу и чернила смотреть не могу. Только что, в марте, закончил сдачу своего 15-томного собрания сочинений, а это такая работа, что всё в организме будто катком переехано.
В № 5-6 «Нового мира» идёт моя новая повесть «Весёлый солдат», вот там тебе всё про нашу с Марьей Семёновной житуху, а ещё почитай мою повесть «Зрячий посох» и многое, что тебе нужно, найдешь, а ещё я попрошу родословную Марьи Семёновны, и про неё ты всё узнаешь.
На Урале я в обшей сложности прожил 24 года, с 1945 по 1969, из них в городе Чусовом 18 лет, до конца 1969 года – в Перми. Писать начал в 1951 году, именно начал, а не «родился как писатель», как писатель я родился в 1924 году, и селе Овсянка, а вот в Союз был принят в 1958 году. Сейчас же в наших Союзах не состою, а вот в академии творчества состою и в обществе рыбаков и охотников тоже, хотя ружьё в руки беру только в деревне, чтобы разогнать ворон... Много раз бывал и на Украине, много по ней ездил, и ныне связей не порываю с украинской землёй, ибо воевал в Киевско-Житомирской дивизии, земля украинская полита и моей кровью, и кровью друзей моих, а это не так просто соскоблить с лика земли – прилипчиво, да и ребята-однополчане не все ещё обалдели от свободы, есть и разумные, изредка перебрасываемся письмами.
Главы из повести твоей прочёл с удовольствием, они выдержаны в благородном тоне старой русской мемуаристики, которую читать всё равно, что из святого родника воду пить.
В Перми и Чусовом я был прошлой осенью, много ездил, многое вспомнил, в г. Чусовом, где я чуть не сдох с семьёй в послевоенные годы, затевается музей в моей избушке. Ограду возле избушки возвели, как в питерском Летнем саду и даже не заметили, что они – избушка и ограда, книжно говоря, не гармонируют друг с дружкой. Ну да Бог с ним, пусть будет, как будет...
Будь по возможности здоров, работоспособен и. если выйдет книжка, пришли, пусть и наложенным платежом. С ещё одной весной тебя и твоих близких! Низко кланяюсь. Твой Виктор Петрович
23 августа 1998 г.
Овсянка
(А.В.Астафьевой)
Дорогая Ася!
Я давно уже собирался тебе написать, да тоже в депрессию угодил и ничего не могу делать, даже писем не пишу.
Заболел по весне, думал в Овсянку исчезну и все хвори пройдут, ан не тут-то было. Пришлось ехать в местный санаторий, где мне помогли с сердечными делами, но открылся диабет, модная нынче, но очень подлая и нудная болезнь. И вообще, когда меня обследовали ультрасовременной машинкой, оказалось всё кроме селезёнки дефектное, и я сказал, что буду жить на селезёнке, а доктор мне сказал, что у меня был колоссальный жизненный запас, и жить я буду остатками его. Вот и живу, соблюдая диету.
Помогала погода держаться хоть немного на плаву, но вот и она сдаёт. Кончилось лето. И что я буду делать в городе, долгую зимнюю пору как перемогать – не ведаю. Болеет Марья Семёновна, ей всё хуже и хуже, выглядит ужасно, а я как кончил все дела, составил 15 томов (вышел двенадцатый), на выходе остальные, напечатал новую повесть в «Н. мире» №5—6, так и почувствовал, как устал за эти годы и за всю жизнь, нашла на меня опустелость. безразличие ко всему. Ладно, ещё огород, цветы и деревья выросшие радуют, в лес не хожу – не ходят ноги, помаленьку расхаживаюсь – это диабет, сраная болезнь, хуже тихой тёши, бьёт по всем частям тела, но вроде бы помаленьку я её избываю.
Приезжали Андрей с Таней, порассказали, какая у вас погодушка. Вот из-за такой погоды и лета поганого однажды решил я было застрелиться в деревушке, но потом перерешил, что лучше уехать домой, и ладно сделал, всё же здесь, в горах, хоть и переменчиво, да сухо. Зимой, правда, бывает тяжело из-за незамерзающего Енисея.
Готовим вторые Провинциальные чтения. Подготовка идёт туго из-за денег, которых всюду нынче недостаёт. Но боремся, и с 14 по 19 сентября, дай Бог погоду, мы всё же соберём народ. Может, и я на людях оживу, а пока апатия, какой ещё не знавал. На бумагу смотреть не могу.
Книжку твою я отдал в библиотеку, там лучше сохранится.
Поклон маме твоей. Зине, тебя обнимаю и целую. Виктор Петрович
3 сентября 1998 г.
Овсянка
(Адресат не установлен)
Уважаемая Татьяна Фёдоровна!
При последнем посещении Перми горькое чувство охватило меня оттого ещё, что в городе, где ранее била ключом литературная жизнь, шумела культурная нива, на меня повеяло пустыней.
Когда-то Тимур Гайдар, часто бывавший в Перми вместе с семейством своим, а в ту пору работавший корреспондентом газеты «Правда» в Югославии, хорошо и точно сказал, что культурный тонус Прикамья определяют двенадцать неувядаемых стариков и в голове их Борис Никандрович Назаровский.
Не стало «неувядаемых», истовых служителей и патриотов местной культуры, но движение в духовном направлении, начатое и поддержанное стариками, было неостановимо и набирало силу, как казалось партийной номенклатуре, благодаря её чуткому руководству. На самом же деле это чуткое руководство сводилось к надоедливой опеке и назойливому досмотру, то есть дополнительному цензорству, и цензура явная, высокооплачиваемая, казённая и партийная была в Перми всегда на должной высоте.
Но вот потихоньку, полегоньку ветры времени, переменчивые, но пока ещё небурливые, начали обдувать листья с дерева прикамской культуры, и прежде всего с литературного дерева, не совсем ещё глубоко вросшего корнями в почву, которую рыхлили для неё такие самоотверженные люди, как Клавдия Васильевна Рождественская, Борис Никандрович Назаровский, Саввотей Гинц, Александр Моисеевич Граевский, Людмила Васильевна Римская. Не стало их, и вслед за ними как-то незаметно, часто и тихо начали уходить прежде срока на тот свет взращенные стариками писатели. Литераторы начали падать, пожалуй, с Ивана Байгулова ещё молодого, только-только развернувшегося, и пошло, поехало. Я не уставал, живучи в Вологде, горько вздыхать и откликаться на слишком уж частые, слишком уж неожиданные потери: Евгения Трутнева, Борис Ширшов, Борис Михайлов, Александр Спешилов, всё это старшие писатели, а вслед за ними Лев Давыдычев, Николай Крашенинников, Алексей Домнин, Виктор Болотов и самая для меня горькая потеря – Михаил Голубков и Владимир Радкевич. Какое унылое, какое полное горькой страсти письмо в предчувствии смерти написал мне Владимир (для меня Володя) Радкевич (я включил это письмо в том писем моего собрания сочинений), открывшись мне той стороной глубокой души, которую в нём многие пермяки и собутыльники даже не подозревали, считая его забулдыгой, повесой и неисправимым гулякой.
Ах, как он был красив! Какой владел прекрасной поэтической жизнью и внутренней культурой! Небрежность в одежде, некая расхристанность в жизни как бы дополняли его образ, они шли ему, «личили», как говорят в приблатнённом мире. Но всяк, кто пытался подражать ему, был просто грязен, был просто нелеп бездарно. Обаяние это тоже Божий дар, и он даётся индивидуально человеку, но и для руки, тоже индивидуальной, тоже только этому и никакому иному человеку не предназначенной. Пусть спокойно спится Володе в жёсткой уральской земле, которую он любил и пел, справедливо зовясь – певцом Прикамья».
В последний приезд в Пермь я ходил на могилы моих друзей и соратников, с которыми входил в литературу, которых опекал и которые меня опекали. Среди них увидел и могилу Ивана Яковлевича Киреенко, всё пытавшегося меня перевоспитать и направить на правильную дорогу. И кабы только меня, то и горя б было мало: я спереду костист, сзади говнист – не вдруг скушаешь, и породы морозостойкой, сибирской, не вдруг повернёшь на свою дорогу, но сколько ж он «помог» тем, кто разместился подле него в могилах, скольким сократил жизнь, как заморочил головы молодым талантам, затормозил творческую мысль, скольких просто напугал иль остервенил, сделав навсегда непримиримыми с ним и с партидеологией, которую насаждал, впихивал, внедрял в сознание людей. Он был не самым тёмным, не самым тупым среди идеологических руководителей его ранга. Бывший рабочий, бывший лётчик-истребитель на войне, он пытался, что-то понять и однажды горько посетовал в нашей беседе, которыми он меня довольно часто удостаивал: «Вот я, бывший рабочий и воин, ты – бывший рабочий и воин, так что же нас разделяет?» – «Непреодолимая пропасть». – ответил я ему, и он шибко огорчился.
Теперь уж совсем непреодолимая пропасть разделила нас, но зёрна, им и ему подобными партсеятелями брошенные, проросли, иссосав душу, соки и русской культуры во многих местах, и в том числе в Прикамье.
Ох не зря, ох не все «по своей вине» поселились вокруг Ивана Яковлевича, судя по тому, что «правильно» воспитанные сверхидейные товарищи в Перми и до се пытаются вразумить неразумных, направлять культуру в привычное для их глаза и нюха русло, заставить писателей писать так, как они хотят, и соответствовать их уровню миропонимания и слова, и сказать им, как пушкинскому герою «суди, мой брат, не выше сапога», в Перми ныне некому. Вот они и гуляют, под боком писатель вывелся, а больше всё-таки его вывели, так они и на стороне найдут, достанут, чтоб только «указать и наказать». Письмо против моего романа «Прокляты и убиты» в газету «Ветеран» сверхидейный Пермский совет ветеранов даже печатью заверил, и вообще активный этот совет, как я понял, не прочь не только местным властям, но и любому и каждому «писаке-бумагомарателю» мозги вправить, воспитуя его на собственном героическом и благопристойном примере.
Ко мне дошли газеты с материалами о том, как заочно в Перми меня избирали почётным гражданином Пермской области (будто мне это нужно и я просился в гражданины те). И я ещё раз похвалил себя за то, что уехал из этого в идейной затхлости задыхающегося города и края, иначе давно бы уж лежал со своими друзьями на пермском кладбище и вёл уже вечные тихие беседы (а в земных спорах мы с Иваном Яковлевичем иной раз доходили до матюков) и не занял бы я своего места в нашей нынешней русской многомучительной литературе.
Но находясь в стороне, в Вологде, на родине ль в Сибири, я никогда не переставал «болеть за Пермь» не только в хоккее и футболе, но и в культуре, и допрежь всего в литературе, всегда рад помочь им всем, чем могу.
А пока лишь порадуюсь вместе с вами и со всеми пермяками тому, что вы «оживаете», что возобновляется родной мне альманах «Прикамье», в котором я когда-то. кажется, в другой жизни, начинал печататься, что пришёл в организацию не дежурный, а деятельный секретарь, который пытается расшевелить и объединить разбредшиеся по сторонам всё ещё немалые, надеюсь, и крепчающие творческие силы Прикамья.
С низким братским поклоном Виктор Астафьев
5 декабря 1998
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!
Мне из Москвы прислали «Литературную Россию» с твоей статьёй. Спасибо на добром слове. Надорвали меня последние труды – эта повесть и работа над собранием сочинений. Болел лето, перемогался осенью и зимой, которая сразу у нас круто взялась за свои дела, успел похлюпать. И М. С. перемогается, у неё болят ноги, сердце, и вся она подрассохлась, но не сдаётся, тянет свою нитку на лекарствах. Я долго находился в прострации, не мог ничего делать, в незагруженную голову лезет чёрт-те что, а яркая наша действительность добавляет впечатлений. Пересилившись, начал копаться в бумажках, нашёл наброски «затесей», где лишь одно название, и царапаю потихоньку бумагу.
Жалко затихающего и затухающего в душе и памяти материала. Знаю, что он «мой» и никто его не увидит, не повторит и «не отразит», но в вольную, опустевшую башку наряду с другими «крамольными» мыслями влезла и та, что дело наше не только бесполезное, а и греховное. Обман с помощью слова. Как в церкви, превратив её в театр, блудными словами сотни лет обманывают – это называется «утешают» мирян, так и мы на бумаге творим грех, изображая и навязывая людям своё представление, в большинстве своём убогое, о таких сложных материях, как жизнь, душа, мир, Бог, бесконечность, смерть, любовь, бессмертие. Но люди читают и всё ещё верят лукавому слову.
Вот посылаю тебе письмо читателя, хорошего, честного перед собой – это как бы дополнение к твоей очень мирной и доброй статье. А стихотворение великого русского поэта, неизвестного русскому народу, посылаю, чтоб в письме не объясняться на тему «что со мною происходит?» И ещё рисуночек славный посылаю нашего красноярского забулдыжного художника. Нет предела в изображении человека на бумаге и полотне, а Пушкина тем более.
К 80-летию Солженицына попросили меня нацарапать несколько слов, попутно посылаю и их. Видал ли ты по телевизору фильм Сокурова о нём? По-моему, замечательно, поскольку безыскусно. Не знаю, как Александр Исаевич согласился подпустить к столу и рукописи людей с камерой и вопросами. Тяжкое это испытание, мешает оно не только творить, но прежде всего сохранять равновесие.
Девчонкам овсянским я велел отправить тебе стенограмму, фотографии и все бумажки, а сам после презентации собрания сочинении в краевой библиотеке 9 декабря уеду в санаторий «Загорье» и пробуду там до Нового года. Диабет донимает, ноги плохо ходят, да я никуда, кроме больницы, и не хожу, иногда сердце курлычет, надо побыть на режиме и диете, да и чужим воздухом подышать, у нас Енисей парит – сыро, пасмурно, зима уже надоела.
Обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович
1998 г.
(Н.А.Старичковой)
Дорогая Нэля! Нинель Александровна!
Спасибо за память, за присланные вырезки и книжечку Вашу.
Не сразу, очень уж со временем плохо было, но я прочёл Ваши воспоминания о Николае Рубцове и стихи. И то и другое меня порадовало отсутствием зла, предубеждений и отсебятины. Воспоминания получились сугубо «личные» и оттого совершенно точные, проникновенные и тоже, как и стихи Ваши, «тихие». Уж очень много нагорожено вокруг личности и необычной смерти Рубцова. Поскольку и то и другое мало кому доступно (личность-то загадочней и крупнее времени и окружения), то и уподобляют поэта, его дела и содержание души чаще всего себе подобным, и из страдающей, грустной души поэта выстраивают душонку мятущуюся и ничтожную.
Пишут чаше всего те, с кем он собутыльничал, при ком вольничал, кривлялся и безобразия свои напоказ выставлял. Люди-верхогляды, «кумовья» по бутылке и видели то, что хотели увидеть и не могли ничего другого увидеть, ибо общались с поэтом в пьяном застолье, в грязных шинках и социалистических общагах. Им и в голову не приходит, что он так же, как они, не писал, а «сочинял» стихи, и «стихия» эта органична, тайна глубоко сокрыта от глаза. Вы точно заметили, каким он аккуратным почерком без помарок писал стихи. А он их и не писал, он их записывал уже сложившиеся, звучащие в сердце. Он при мне однажды в областной библиотеке на вопрос: «Как вы пишете стихи?» ответил: «Очень просто, беру листок бумаги, ставлю вверху Н. Рубцов и столбиком записываю», и помню, что хохоток раздался, смеялись не только читатели и почитатели, но и поэты, присутствующие при этом. Смеялись оттого, что им эта стихия и тайна таланта дана Богом не была, они и не понимали поэта, бывало, и спаивали его, бывало, и злили, бывало, ненавидели, бывало, тягостно завидовали. И мало кто по-настояшему радовался. Радовались мы с Марией Семёновной, без оглядки, без задней мысли, и оттого он часто бывал у нас и часто читал нам «новое». Я первый, принеся в больницу ему пару огурчиков (огородных), купленных в Москве, услышал стихи «Достоевский», «В минуту музыки печальной», «У размытой дороги» и ещё какие-то, сейчас не вспомню уж, которые он тут, в больнице (с изрезанной рукой, об этом первом предвестнике беды отчего-то никто не пишет), сочинил и радовался им и тому, что я радовался новым стихам до слёз, и огурчикам первым он обрадовался, как дитя, и во второй мой приход сказал, что разделил огурчики «по пластику» со всеми сопалатниками-мужиками. Тогда же мы договорились, что по выходе его из больницы мы поедем на рыбалку, на речку Низьму, где уже бывали всей семьёй, и где он после чёрного запоя пришёл в себя, оглянулся окрест, ходил в лесок и в горсти приносил грибы, ломал на дрова коряги...
Увы, из больницы его раньше срока увели собутыльники, и я увидел его уже до бесчувствия пьяным, с грязными бинтами на израненной руке. На реку я всё же с ним попал, но в другой раз и на другую, о чём собираюсь написать, и ещё собираюсь написать о том, как он работал над моим самым любимым произведением «Вечерние стихи», и, верно, нонче напишу, потому как все дела свои заканчиваю и попробую отдохнуть и «пописать для души».
Есть у скульптора Клыкова, изнахратившегося многозаказными услугами, износившего душу в отливании бронзы и тесании камня (не своими руками) до того, что и вовсе жизнь исчезла из его фигур, одни скульптурные холодные знаки остались, так пока ещё была в нём душа жива, изваял он Сергия Радонежского и в середину его, будто матери, поместил ангелочка-ребёночка. Вот я всегда мысленно сравнивал Николая Рубцова с фигурой Радонежского – сверху непотребство, детдомовская разухабистость, от дозы выпитого переходящая в хамство и наглость, нечищеные зубы, валенки, одежда и белье, пахнущие помойкой, заношенное пальтишко. А под ним, в серёдке, под сердцем, таится чистый-чистый ребёнок с милым лицом, грустным и виноватым взглядом очень пристальных глаз. Этот мальчик и «держал волну», охранял звук в раздрызганном, себя не ценящем, дар свой, да не свой, а Богом данный, унижающем, чистый тон, душу, терзаемую, самим Творцом. Как мог, ручонками слабыми удерживал и ещё бы с десяток, может, и другой лет сохранял России поэта, посланного прославлять землю свою, природу русскую и людей её, забитых и загнанных временем в тёмный угол. Я думаю, что к шестидесяти годам он пришёл бы к Богу и перестал бы пить и безобразничать...