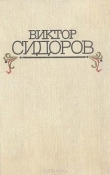Текст книги "Нет мне ответа..."
Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Пиши, ради бога пиши! Это ведь я так, раскис. Очень уж болит все, раны ноют. И как мне хочется жить возле вас, возле Енисея! Я бы, наверно, вышел на берег, и мне бы лучше стало, а может, наоборот? Может, всё уж в воображении только, но я умирать всё равно в Овсянку приеду. Я тут начал писать поэму! Да-да! И называется она «Прощание с собой». В стихах. И серьёзную. Мне её надолго хватит, до смерти, она так и задумана, чтобы прощаться с каждым уходящим днём и с дорогими людьми, которые всё падают и падают, как солдаты на марше.
Отправляю тебе вместе с пластинками «Оду русскому огороду». Я уже подготовил расклейку сборника для Красноярского издательства. Дело за «Пастушкой». Жду письма – не разрешат ли мне её издать в целом виде. Так хотелось бы всю целиком издать! Или всё же придётся по расклейке однотомника?
И ещё, Коля, просьба! Я в Томске покупал рюкзак орехов кедровых, но уже все исщёлкал. Судя по лету, нынче в Сибири должен быть урожай. Будь добр, пришли мне орешков. Привык к ним, и они как-то отвлекают и утешают.
Обнимаю. Ваш Виктор Астафьев
23 апреля 1973
(А.Войтецкому)
Дорогой Артур!
Вчерашний разговор не ободрил меня, наоборот – расстроил, и я почти до утра не спал. А тут работа над новой вещью идёт к концу, силы на исходе.
Знаешь, что мне не понравилось вчера, да и раньше не нравилось и настораживало? Вот это самое: «Витя, никому ничего не говори!..» Какие-то недомолвки, прятанье, хитрости и намёки – зачем мне всё это? Я ведь ещё во время разговора в комитете [ комитет по кинематографии. – Сост.]понял, отчего завалился в первый раз сценарий – ты намеревался, да уже и начинал ставить «Вишнёвый сад», а мой сценарий держал на всякий случай, потому и не знали о нём ничего и никто в комитете... Теперь опять какие-то секреты, увертки постоянные, снова разговоры о деньгах! Вероятно, ты так и не поверил мне, не захотел поверить из объевреенного Киева, что я не хочу получать никаких денег, боюсь быть ими связанным.
В доказательство своей искренности могу тебе сообщить: я так и не востребовал недополученную мной тысячу рублей со студии Довженко за «Ясным ли днём», и вполне может быть, её кто-то присвоил. Мне на моё житьё хватает заработка прозой, и поэтому я и сейчас не хочу ничего получать со студии, а если переведут деньги, я их верну в бухгалтерию, либо положу на отдельный счёт и буду держать на нём с надеждой, что смогу всегда вернуть их. Кроме того, 28-29-го я на месяц уезжаю на Урал и перевод могут вернуть на студию по причине неполучения (на почте).
И всё это потому, что нет у меня ни от тебя, ни от студии никаких гарантий на то, что вы готовы и можете сделать фильм на уровне если не повести, то хотя бы того сценария, который я, а не ты предлагал для съёмок. Ты же лишь обстрогал мой сценарий, и он сделался вроде щуки – везде проходимым. Побудь одну минуту на моём месте и посмотри моим глазом на всё. При печатании в журнале повесть претерпела выкидыши и кастрации. Предупрежденный и настроенный тобою, я многое обошёл и многое сам обстругал при переработке повести в сценарий, затем прошёлся по нему ты, уже с режиссёрским, а точнее, цензурным топориком. И теперь вот ещё предлагается мне: "подумать над этим", «заменить то-то», «выкинуть это»... Плюс к этому твоя твердая настойчивость поставить на главную роль 35-летнюю Аду Роговцеву, той осторожные намёки: «Вполне может быть, что я и вытяну», затем упорное стремление «украинизировать» героев, но так, чтобы это было «сладко». Отчего исчезли из сценария две хохлушки, имеющиеся в повести во время прощания, да и ещё кое-что...
Я живу не на Украине, и фильм должен делаться не только для украинцев. Мне на всю эту «национальную» гриппозную погоду начхать, и потому я не пойду ни на какие заигрывания по этому вопросу ни с тобой, ни со студией. Но... где гарантия, что ты, начавши снимать фильм и ставши его хозяином, не распорядишься во всём по-своему и не сделаешь такую штуку, что мне стыдно будет на люди показаться? Я хотел бы эту гарантию иметь хотя бы в письме от тебя и не хотел бы, чтоб темнили и хитрили вокруг первого моего фильма.
«Пастушка» – вещь долговечная, это-то я знаю твёрдо. И может ждать долго. Я – тоже. Подумай и ты: готов ли ты для работы над нею. Недавно один режиссёр, возжаждавший во что бы то ни стало снять что-нибудь из «Последнего поклона», отказался от этой затеи, признался, что «не созрел», и пошёл работать оператором к хорошему режиссёру, мол, «а потом уж... может быть...» – написал он в своём письме. Вот такая честность и прямота мне по душе.
И ещё. Я посмотрел «Ромео и Джульетту» не так давно. Шедевр. Шедевры и в мире снимаются не каждый день, но каждый должен к ним стремиться. А уж если и стремления связаны условностями работы, характером, жизнью и т. д., то наши киношники хотя бы должны понять после этого фильма, что молодых должны играть молодые, тогда половина успеха гарантирована. Вот такие мои мысли и соображения.
Со сценарием я ничего делать не буду и прошу не посылать мне никаких денег, пока не получу от тебя, желательно и от студии, на моё письмо прямого и внятного ответа.
Будь здоров! Виктор
1973 г.
(И.Соколовой)
Дорогая Ингрида!
Как раз сегодня, когда пришла от Вас телеграмма, я собрался Вам писать. Раньше никак не мог – второй год нахожусь в страшной запарке, нет никакого роздыха, и запарку эту сделал я себе сам – добиваю новую повесть «Царь-рыба», делал пьесу и массу других текучих дел, не отдыхал нисколько – болит контуженная голова, скопилась масса рукописей и почты.
Недавно, болея гриппом, я взялся читать Вашу рукопись, а читаю я медленно...
У меня очень сложное, если не сказать – растерянное состояние после прочтения её. Я совсем не был готов к такого рода чтению. Прочитав «моя», я полагал, что буду читать книгу «о себе», то есть о Вас, которая не может быть неинтересной, ибо сам «материал» не позволяет ей быть таковой. Но вышло всё не так, как ожидалось. Книга произвела на меня удручающее впечатление. Что это? Мемуары? Исповедь? Самодоклад? Для мемуаров слишком мало оснований. О себе писать мемуары, видимо, надо как-то иначе, какую-то форму надо искать. Лекция, исповедь? Но тогда личный материал в ней , выглядит оказёненным, случайным, часто – давно известным по газетам и мемуарам маршалов. Но такого жанра никогда ещё не было, да он и невозможен, ибо докладывающий о себе человек, хочет он того или нет, впадает в самовосхваление, а где и в бестактность по отношению к близким своим...
Часто Вами поминается Островский. «Как закалялась сталь» – эта книга уже набила мозоли на наших мозгах, но тем не менее, пусть она и плохо написана, да в ней найдена форма повествования от третьего лица, герой имеет отличную от автора фамилию (это уж стараниями всевозможных лизоблюдов, демагогов произведено полное, безоговорочное слияние героя и автора, что сам он едва ли согласился бы с этим живой да в здравом уме и памяти). У Вас, да и в любой вещи, где есть «я» – оно, это «я», ко многому обязывает, прежде всего к сдержанности, осторожности в обращении с этим самым «я» (главное, необходимо изображать, а не пересказывать. У Вас поначалу семнадцатая артдивизия находилась на марше... Но это именно наша бригада, вооружённая гаубицами образца 1908 года системы Шнейдера, выплавляемыми на Тульском заводе (гаубицами, у которых для первого выстрела ствол накатывался руками и снаряд досылался в ствол банником), оказалась на острие атаки немцев. Сначала нас смяли наши отступающие в панике части и не дали нам как следует закопаться. Потом хлынули танки – мы продержались несколько часов, ибо у старушек-гаубиц стояли сибиряки, которых не так-то просто напугать, сшибить и раздавить. Конечно, в итоге нас разбили в прах, от бригады осталось полтора орудия – одно без колеса и что-то около трёхсот человек из двух с лишним тысяч. Но тем временем прорвавшиеся через нас танки встретила развернувшаяся в боевые порядки артиллерия и добила вся остальная наша дивизия. Контрудар не получился. Немцы были разбиты. Товарищ Трофименко стал генералом армии, получил ещё один орден, а мои однополчане давно запаханы и засеяны пшеницей под Ахтыркой...
Был я и в Опошне, и в Катильве, и в Миргороде. Эти гоголевские местечки стояли в первозданной целости, с беленькими хатками, как и сёла вокруг них. Мы обжирались там фруктами и после страшного удара приходили в себя.
Были у Вас и ещё какие-то попытки хоть слабо изобразить, написать свою жизнь, потом они совершенно исчезли. Не знаю, возможно ли без изображения рассказать о чём-либо художественно вообще, а о войне и сложной бабьей доле на ней – в частности.
Очень гнетущее впечатление произвело на меня то, что рассказано о войне – виденье виденью рознь, как и память памяти, но какой-то привычный, газетный стереотип у Вас присутствует во всей книге, странно и, по-моему, нескромно названной.
Очень часто совпадали наши пути на войне: весь путь к Днепру почти совместный. Я был под Ахтыркой. Наша бригада оказалась той несчастной частью, которой иногда выпадала доля оказаться в момент удара на самом горячем месте и погибнуть, сдерживая этот удар. Ахтырку, по-моему, заняла 27-я армия и устремилась вперёд, оголив фланги. Немцы немедленно этим воспользовались и нанесли контрудар с двух сторон – от Богодухова и Краснокутска, чтобы отрезать армию, которую так безголово вёл генерал Трофименко вперёд.
Вы возносите до небес разведку. Я был один раз в разведке, ходил за «языком» – ничего похожего на то, что Вы рассказываете. Что это за разведка, где могут сразу погибнуть десять человек? Фронтовая? Но она ходит в глубокие тылы. Армейская – тоже. Дивизионная? Полковая? Так я и не понял: почему разведкой может распоряжаться, пусть и бездарно, какой-то хмырь, явившийся из тыла?
И вообще к концу войны чины всякие реже и реже появлялись на передовой – хотели выжить обзавелись бабами и комфортом, а на передовой их обманывали или пугали. За полгода я только раз видел газетчика на передовой, из нашей, дивизионной газеты «Сокрушительный удар», который, пощелкав фотоаппаратом, мгновенно смылся, хотя обстановка была далеко не смертельная. Никакого комиссара на передовой ни разу не видел, кроме капитана Мартынова из нашего артдивизиона, он был совестливым человеком и, зная, что солдатам не во что завернуть табак, иногда приносил нам газету. Комиссар бригады товарищ Сафонов или Сафронов, точно уж не помню, нажил на войне брюшко и румянец, имел две легковые машины и первым, даже вперёд комбрига, мирового мужика, получил боевой орден.
На встречу ветеранов нашей дивизии приезжала какая-то шушера, обвешанная орденами и медалями, хвалилась подвигами, жаждая о себе книг и кинофильмов, а хватились их спросить мы, четверо солдат, в конце концов угодивших на встречу, почти никто из них на передовой и не был, там ведь убивали, ранили, там орденов мудрено было дождаться...
Днепровские плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах (на двух из трёх). Ранен был там и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, «не щадя жизни», восславлял наши «подвиги». А мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счёта, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой хлынувшими в окопы.
Ох, не задевали бы Вы нашей боли, нашего горя походя, пока мы ещё живы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме – не могу: страшно, даже сейчас страшно, и сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтоб писать обо всём, как иные закалённые, несгибаемые воины!
Сейчас, когда я Вам пишу, по телевизору показывают спектакль «Из записок Лопатина» в исполнении «Современника». Этому автору [Константину Симонову. – Сост.] всё даётся, всё нипочем! У него сердце не останавливается и не болит! Экая тёпленькая, удобненькая всем демагогия! Экая рассудительная война! Экая литература! Задача которой – забыть, что счёт нашей Победы – десять к одному не в нашу пользу (это официально!), да миллионы, десятки миллионов калек и умерших сразу же от ран, болезней и голода. Правильно, хоть и нечаянно кто-то из националов назвал этакую стряпню – таратурой. Именно таратура – иначе не скажешь!
Не знаю я, что Вам посоветовать. Кроме всего прочего, вещь плоха по языку, изобилует выспренними отступлениями «по поводу искусства», а об этом надо бы в другом месте, в другой раз. Здесь же место лишь судьбе женшины на войне и изувеченной войною. Где она, та женщина? В книге всего лишь тень её, какая-то парадная вывеска. Надо, видимо, Вам написать о себе «для себя», вот тогда, глядишь, выйдет «для всех», а пока же всего лишь сумбурный набросок с претенциозным заголовком.
Я знаю, что Вам нелегко будет читать моё письмо, надо бы «повежливей» быть с женщиной, но литературу я ставлю на один шаг с тяжелейшей службой и мужской работой. Вы часто употребляете «фронтовики», «солдаты», а солдат перед солдатом не должен кривить душой, мы, во всяком случае, избегали этого делать на передовой, иначе все погибли бы. И вот я как солдат солдату говорю то, что думаю, а Ваше дело принимать – не принимать!..
Кланяюсь. Виктор Астафьев
6 декабря 1973
(В.Юровских)
Дорогой Вася!
Очень рад, что ты появишься в нашем журнале. Маловато, правда, они отобрали, но лиха беда начало!
Я вот уже скоро два месяца не вылезаю из-за стола, наконец-то смог выкроить время и для себя, но запустил все текущие дела. Передо мной лежит письмо Феликса Витольдовича Шпаковского – «счастлив писатель, который может получить такие письма!», сказал мой близкий товарищ, бывший у меня в ту пору, когда пришло это письмо. И потому не могу я отписаться на него «просто так», а на большое письмо не выкраивается времени – работа идёт к концу (пять новых глав «Последнего поклона»), силы мои на пределе, нервы суди сам какие. Я вообще изнашиваюсь сильно, когда работаю, даже и бабу не надо делается после страшного напряжения, через какое-то время начинаю прибегать к помощи снотворного, но я контужен сильно и встаю, как с глубокого похмелья, поэтому и снотворное стараюсь принимать в чрезвычайных случаях.
Однако погода у нас установилась славная, сухой морозец, нет сыри, так изнуряющей мои дыхалки, и я работаю, хоть не так прытко, как прежде, но сосредоточенно, напористо, и на душе праздник, а усталость, что ж усталость – это наш удел. Даже богатырь Толстой, умевший так хорошо отдыхать, жаловался, что он после каждой книги чувствует себя вконец разбитым, правда, он не чета нам, и книги писал толще и глыбже, да и ума у него было столько, что страшно становится, когда подумаешь, чего и сколько он видел и понимал...
Поклонись своим, Вася!
Обнимаю тебя. Виктор Петрович
Декабрь 1973 г.
(С.П.Залыгину)
Дорогой Сергей Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с шестидесятилетием, несколько удивлённый, что Вам уже столько лет! Ваша моложавая внешность и звонкий голосок – немалая тому вина, да ещё и бег времени, сумасшедший, часто бестолковый, когда и свои-то года не видишь – как и куда улетают!
Прежде всего желаю я Вам крепкого здоровья и теперь уж навечно остаться тем, что Вы есть – совестливым человеком и писателем, коих после смерти Твардовского у нас осталось так мало. А Вы есть, и помогаете нашей не такой уж и здоровой литературе устоять на ногах, не потерять веры в совесть и порядочность человеческую, а значит, и писательскую.
Давно мне хотелось чем-нибудь отблагодарить Вас за всё то, что Вы делаете для нас – литераторов, живущих в провинции, и в частности за себя: я-то ведь знаю, что не раз на меня налаживалась облава и Вы её прихватывали в самом начале, не давая разогнаться «борзым кобелям». И вот, как мне кажется, написалась вещь, которую я, не стыдясь, могу подарить Вам – это новая глава – рассказ из «Последнего поклона». Как и все главы, она совершенно самостоятельная и в то же время какими-то нервами, а где и нитями связана со всей книгой [глава «Пир после Победы». – Сост. ].
Всего я – вдруг! – накатал пять новых глав! «Вдруг!» я обронил не случайно – вся книга писалась и пишется как-то внепланово и настигает меня неожиданно. И эти главы схватили меня на пути к совсем другой работе. Как когда-то сказал покойный Коля Рубцов: «О чём писать – на то не наша воля». Воистину так. Они, новые главы, заполнят «прораны» до «Где-то гремит война», после «Бабушкиного праздника». А та, что посвящена Вам, встанет за «Где-то гремит...» перед заключительной главой. Я много над этой главой работал, много себя в неё вложил – мне всё хотелось написать что-нибудь высокое, но не риторичное, не демагогичное о нашей, такой Великой и такой горестной Победе.
Саму Победу я встретил препаскудно, горько до слёз – после госпиталя был в Ровно, в полку по борьбе с бандеровцами, и стоял на посту у казармы в ночь с восьмого на девятое мая. Поднялась стрельба, крики, ликование, и я выпалил с радости вверенную мне обойму из винтовки, за что и был отправлен на губу дураком старшиной, да и проревел до вечера, одиноко лёжа на деревянных, карболкой воняющих нарах.
А хотелось написать о торжестве души, хотелось много-много дать свету, подурачиться хотелось, как мальчишке, на траве поваляться, отпраздновать, погоревать и подумать о жизни будущей – всё это в одном рассказе. Как я её, эту задачу, выполнил – судить не мне, но дарю Вам эту вещь от чистого и благодарного сердца.
Все вологодские ребята гордятся тем, что был у них Яшин, и скорбят, что не стало его. Я горжусь тем, что есть у нас Залыгин, и слово «земляк» поставил в том большом и братском смысле, с каким оно воспринималось и жило в нас всю войну на фронте, да и сейчас не всеми и не везде ещё захватано нечистыми руками.
Низко Вам кланяюсь, Сергей Павлович! Обнимаю Вас! Живите долго! Вечно Ваш по земле родной и помыслам. В. Астафьев
1973 г.
(Н.А.Драгану)
Дорогой Николай Андреевич!
Приветствую Вас и поздравляю с Новым годом! Надеюсь, что старый Вы благополучно отплавали, и теперь стоит Ваше судно пустое и грустное, а Вы проведываете его и, небось, уже тоскуете по весне, по путине и своей неспокойной работе.
Я давно собирался Вам написать, но так сложились обстоятельства, что ни Вам, ни в газету написать не сумел. Заболел воспалением лёгких, а когда вышел из больницы, закрутили меня дела и до сих пор не дают передышки. Надеюсь, в январе буду здоров, повезу в Москву рукопись. А тогда, расставшись с Вами в Туруханске, мы с Женей Городецким (ребята через несколько дней улетели в Красноярск) подались на Тунгуску. Комара была тьма-тьмущая, но я всё равно рыбачил, не сдавался, поймал десятка полтора сигов, с десяток хариусов, насмотрелся, надышался и вместе с Женей вернулся в Туруханск, затем три дня побыл в родной Овсянке и затем уж улетел домой...
В то лето поездка с Вами оказалась единственной, но не только поэтому я её так хорошо вспоминаю. Думаю, повезло нам, что с нами был такой общительный и славный капитан, прекрасная повариха и весь коллектив, какой-то свой в доску! – так и остались в душе родственные связи. Я очень прощу Вас и всех, кто есть из команды в Подтёсово, поздравить от меня с Новым годом и пожелать, чтоб все были здоровы, счастливы в жизни, скорой, дружной весны и всегда глубокой воды под килем!
По сей день перед глазами у меня стоят Осиновские пороги – ничего красивей я в своей жизни не видел и едва ли уж увижу. И вообще для меня нет красивей реки, чем Енисей. В моём рабочем кабинете, за спиной у меня, висит карта Красноярского края, и я часто «путешествую» по Енисею – это помотает мне жить и работать. Работаю я сейчас над продолжением повести «Последний поклон», а потом продолжу работу над новой повестью «Царь-рыба». Её мне хватит надолго.
В 77-м голу в Красноярске выйдет том новых моих произведений, а пятидесятилетие своё мне очень бы хотелось отпраздновать в родных местах. Я постараюсь найти Вас, повидаться с Вами и подарить свою «толстую» книгу. А пока ещё раз поздравляю Вас и Ваших близких с Новогодьем!
Всегда о Вас тепло вспоминаю. Поклон заснеженному Подтёсово и всем подтёсовцам. Обнимаю. Ваш Виктор Астафьев
1974 год
4 января 1974 г.
(С.Задерееву)
Дорогой Сергей!
Тут у меня большой был завал в делах, и он не кончился бы, если б я не сбежал из города в глухое село, где меня и найти не смогут, а жене не велел сказывать, где я. Вот и прочёл там много скопившихся рукописей, в том, числе и Вашу.
Вы прислали мне уж очень много всего, в голове и памяти – каша, но всё-таки из этой каши что-то и задержалось в уме. Главное, что человек Вы, несомненно, способный, есть у Вас и слух, и нюх, и глаз приметливый, то что необходимо писателю, хотя чувство меры Вам иногда изменяет, склонность к какому-то слововывёртыванию встречается, но это всё пройдёт, будете больше писать – разовьётся вкус, и сами всё повычёркиваете манерное и заумное...
Вот что мне хотелось бы Вам сказать. Почти все, кого я, доводилось, обсуждал на семинарах, да и те, кто присылает рукописи на дом и в журнал, почти все (!) молодые пишут миниатюры и коротенькие рассказы. Ну, это они так называют, а там нет ни рассказа, ни притчи, а так, что-то приблизительное, мимоходом написанное. Что это – лень, нежелание перетруждать себя, перенапрягаться и работать в своё удовольствие, писать, будто цветочки собирать? Как Вы сами-то к этому относитесь? Многое из того, что Вы напечатали на машинке, есть не что иное, как заметки из записной книжки, мимоходные, часто необязательные в исполнении и не могущие претендовать на какой-либо из жанров, ибо есть они – ну штришок, заметка, чёрточка...
А между тем мне видится в Ваших коротких рассказах повесть. Да, да повесть! Они все в одном ключе сделаны, у всех один настрой, и герои как-то бок о бок ходят. Надо их объединить сюжетом, притереть друг к другу и попробовать сделать повесть. Она, конечно, требует большого труда, сосредоточенности и просто крепкой жопы, но без этого всего нет и писателя. Вот и испытайте на прочность своё заднее место, поработайте, как следует, иначе так приучитесь ловить солнечных зайчиков, что Вам тяжело будет, а может, И невозможно переходить к формам и жанрам более трудоёмким. Человек Вы, повторяю, способный, но одних способностей в нашем деле ещё мало – труд, труд, труд и упорство – вот что ещё нужно.
Желаю всего доброго. В. Астафьев
Р. S. Лично я пишу свои «затеси» только после серьёзной работы или в перерывах, удовольствия для...
1974 г.
Вологда
(Е.А.Лебедеву)
Дорогой Евгений Лебедев! (Извините, что запамятовал Ваше отчество.)
Это пишет Вам и посылает свои книжки человек, с которым Вы встретились в 1957 году на берегу Енисея, там, где ныне располагается не по заслугам воспетый молодой да ранний городок Дивногорск.
Тогда в качестве корреспондента журнала «Смена» начинающий писатель и уроженец этих мест был послан воспевать немало великих строек, а вы – бригада ленинградских артистов – развлекать строительную публику. Тогда там был великий бардак (он и потом продолжался, и по сю пору не кончился), и воспевать было особо нечего, царила там безработица, хаос, и вам тоже вроде бы развлекать особо некого было, да и не хотелось. Вы ютились в грязной комнате конторы, отданной норильским пионерлагерем гидростроителям, и я обитался по соседству, и молодой инженер, меня опекавший и просвещавший, всё толковал мне, что я всё равно «правды не напишу».
Правду и в самом деле писать трудно, однако в меру сил и способностей, Богом мне отпущенных, я описал тот великий бардак, что мы видели, и редактор «Смены», прочитавши моё творение, заявил, что я рановато туда поехал!
Я и позднее бывал там, и вообще на Родину езжу каждый год. Вот только что вернулся. Был в низовьях Енисея, рыбачил, съеден комарами дотла.
Тогда в Скиту (Знаменском), так зовётся то место, мы с Вами как-то хорошо поговорили, и я с тех пор слежу за Вами и радуюсь Вашей работе, последнее, что видел, – это чеховские короткие рассказы по телевизору, которые Вы играли вместе с очень хорошим тоже актёром (фамилия у него грузинская). Хорошо, славно у Вас всё получилось. Я вообще-то Чехова не очень люблю, а такой рассказ, как «Дорогая собака», считал просто пустячком, и тем поразительнее Ваше искусство, когда Вы из пустяка... козюльку сделали!
Ну вот, в тот же приезд на великую стройку родилась у меня мысль написать повесть о моей Родине и родичах, дабы самонадеянным преобразователям и освоителям Сибири не казалось, что до них тут никто не жил. Жили! Жили, да ещё и какие люди жили!..
Так и родился «Последний поклон». И писался десять лет. Книга эта уже много раз издавалась, была в «Роман-газете», но я шлю Вам (из последнего!) издание отдельное, лучшее по оформлению.
К сожалению, нет у меня (не осталось дома) сборника моих повестей, однако к юбилею (мне весной стукнет 50 лет) выйдет однотомник, и я пошлю Вам его с радостью.
Я и раньше всё собирался послать Вам что-нибудь, да всё наша российская скованность, застенчивость, которую интеллигентностью зовут, мешала. Но вот пришёл «Экран», увидел Вас на обложке, и так чего-то захотелось поговорить и вспомнить...
Как я оказался в Вологде? Долго рассказывать. Письмо и без того затянулось. Работаю я сейчас над романом о войне и второй книгой «Последнего поклона», где-то, как подземный гром, начинаются и докатываются до меня известия о кино. Кажется, не ставили, не ставили, да сразу два фильма вроде бы собираются ставить. Но это так, между нами.
Низко Вам кланяюсь. Шлю близким Вашим наилучшие пожелания. Больших Вам ролей и удач, таких, как гоголевский Попришин – он меня потряс. Будьте здоровы. Ваш Виктор Астафьев
24 февраля 1974 г.
(адресат не установлен)
Дорогой Ваня!
Не ропщи ты на нас, грешных, что пишем редко, и не думай ничего худого – старимся, много хвораем и ещё больше суетимся, а меня заживо похоронили в рукописях графоманы и молодые, в меру талантливые писатели – облеплен рукописями, как горчишниками, и не могу справиться никак. Ведь каждому молодому кажется, что пишет-то он один и посылает мне рукописи тем более один.
С большим трудом, лишь изредка могу заняться своим делом. Но я пишу тебе не для того, чтобы жаловаться, а вот для чё. Первого мая мне стукнет 50 лет. Хотел я умотать из дома в лес, в тайгу от юбилея, но нельзя, положение обязывает, иначе будет истолковано как неуважение к друзьям, властям и т. д., и т. п.
Но сразу же после праздников я, буде жив и здоров, умотаю в деревню, на Урал, а оттуда уж к выходу книги в Красноярске (Избранные повести) – и в Овсянку (конец июня – начало июля). Погуляем там с роднёй, попьём, попляшем и надо бы проветриться. Я помню, что от Дивногорска вверх по Енисею ходит «Метеор» и что езды до тебя 8 часов!
Так хотелось бы побывать у тебя вместе с супругою. Будешь ли ты дома в это время? Я ведь совсем не видел и не знаю верховьев Енисея – нужно не только для прогулки, но и для работы. Отпиши мне. Вот тогда и поговорим обо всём. А пока кланяюсь всем твоим, а тебя обнимаю. Виктор
Март 1974
(В.Юровских)
Дорогой Вася!
Пишу тебе коротко – приболел опять, да дело срочное одно пристало. Я ничего, кроме миниатюр в «Новом мире» и в «Нашем современнике» твоего не читал. Ты писал, что у тебя выходила якобы книжка миниатюр? И всё? Или что-то есть более крупное твоё напечатано? Если нет, то тебя просто не примут с таким «малым багажом» в Союз, и ты переживёшь большую душевную травму. Не лучше ли повременить и сделать всё наверняка, а? Я, например, оформлялся только наверняка, имея уже четыре книги и много публикаций в центральной прессе.
10—12 апреля в Москве состоится редколлегия по вопросу работы с молодыми – неплохо было бы, если б ты к той поре оказался у меня или в Москве, я б тебя представил С. В. Викулову, а он председатель приёмной комиссии. И, глядишь, всё бы у тебя и оформилось, а так всё же могут не принять. Ссылки на прежнее и есть ссылки, теперь принимают очень строго, и строгости эти распространяются в основном на русских Иванов, с периферии которые...
Я уеду из дома числа 8—9 апреля, имей это в виду. Я очень занят сейчас – извини. Твой Виктор Петрович
28 мая 1974 г.
Быковка
(Адресат не установлен)
Дорогой Николай! (Извините за фамильярность – забыл при встрече спросить отчество.)
Я пишу Вам из далёкого уральского села Быковки, куда забрался поработать сразу после пленума, да что-то не очень пока работается.
А пишу я Вам вот по какому поводу. Несколько лет мы с Евгением Ивановичем Носовым доводили до ума повесть вашего саратовского парня Виктора Политова. Когда вроде бы довели и настала необходимость её печатать – «Наш современник» без особых объяснений повесть отклонил, а автор, дописывавший уже и вторую повесть, духом ослаб, решил бросить писать, и стихи, и прозу, ударился в рыбаки, пить начал. А жаль – парень он очень способный и внутренне чистый, глубокий, судя по письмам.
Не напишете ли Вы ему письмо (адрес его в конце сообщу) и не попросите ли для ознакомления рукопись? Мне кажется, она Вам хорошо подошла бы, а Евгений Иванович Носов, читавший последний вариант повести, весьма высоко о ней отозвался, написал бы предисловие к ней.
Будьте любезны! Жаль, если талантливый и умный человек сделается забулдыгой, их и без него многовато.
Низко кланяюсь. Привет вашим саратовским художникам, гармонистам и коллегам по труду. Виктор Астафьев
28 мая 1974 г.
(В.Юровских)
Дорогой Вася!
Все твои письма с газетой, со стародубками пришли ко мне на Урал. Дочь переслала. А я здесь, в своей избушке, отлёживаюсь после юбилея. Загулял, брат, крепко загулял. Едва живой после пленума до Перми добрался, да так прытко! Утром ещё был в Москве, потом взмыл в небо и вечером уже шагал по полям к безвестной и дорогой мне Быковке, где убавилось ещё на два дома жителей и всего жилых осталось домов – шесть, в пяти из которых доживают свой век одинокие солдатки. Один мужик на всю деревеньку остался. Мне пришлось даже вспомнить, что я тоже был мужиком, и помочь одной бабе заготовить столбы на огород – заготовили двадцать шесть штук, и я еле приволокся домой. Устал. Вот интеллигенция толстопузая! Отвык от труда. Надо бы нашего брата время от времени на лесозаготовки принудительно гонять.
Здесь я собирался много чего понаделать, но увы... дал я согласие вести семинар на Иркутском совещании молодых писателей. Байкал охота посмотреть, и дело всё свелось к тому, что читаю рукописи, правда, в большинстве своём любопытные и даже симпатичные, а писать-то некогда. Пятого июня надо уже отсюда уезжать, ибо 12-го начало совещания в Иркутске. Когда я здесь бываю месяца полтора-два, тогда успеваю наотдыхаться, написаться и даже по городу соскучиться, а так успел лишь написать заметку о Василе Быкове в «Огонёк» – 10 июня ему 50! – да сделать черновик очерка о жизни одной здешней бабы (с которой столбики и заготавливал). Худо дело – писать недосуг!