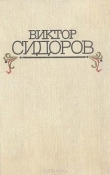Текст книги "Нет мне ответа..."
Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Вот пока и всё. Поздравляю Вас с праздником Октября. Желаю всего доброго и буду ждать ответ. Мое отчество – Петрович.
Да, ради бога не беспокойтесь насчёт какого-то сувенира – ничего не надо. Ваш В. Астафьев
1971 г.
(Н.Волокитину)
Дорогой Коля!
Я тут приболел немножко. Ходил по дивному осеннему лесу с ружьецом и разопрел в тёплой одежде, а потом попил холодного и спать лёг в нетопленой избе, назавтра же и зачихал, и домой поехал, добывши одного рябчика. Но уже очухался, ничего особенного – катар верхних дыхательных путей, по-мужицки просто – простуда. Вот я и читал всласть стихи, окунался в русскую поэзию – это диво дивное. Даже и жалко людей, лишённых этой чудесной страны. Бедные, они просто и сами себя лишают, может, самого большого после любви наслаждения, а так как наслаждений ноне раз-два и обчёлся, то вдвое обидно за людей, не полюбивших поэзию. Вот пишу тебе, а в голове звучит совершенно потрясающая строчка Тютчева: «О, господи дай жгучего страданья!» Не дожили эти ребята до наших дней! Они б молили господа, чтоб он хоть маленько поубавил сих страданий. Правда, они молили всё о страданиях возвышенных, нам вовсе недоступных и непонятных, как свинина казаху.
А на столе ждёт масса необходимейших дел, и в первую очередь гранки «Пастушки», которые надо было срочно читать. Прочёл. Повесть едва ли пойдет, а надеяться надо.
Мозги у меня всё ещё нараскоряку, и поэтому не могу собрать мысли воедино и толково написать всё. Вот-вот должна быть вёрстка однотомника, тоже работа большая, да и с «Пастушкой» ещё горя хвачу. Но сил я у вас поднабрался и могу ломить теперь. Вот вернулся домой, вздохнул облегчённо вроде бы, а на сердце какая-то тоска и несбыточная мечта: мою бы Вологду с её добротой и зеленью и квартирой четырёхкомнатной перетащить бы в Сибирь и поставить супротив Караульного бы быка... Вот бы да бы!.. Маниловщина! А сладко помечтать.
Нового я ничего не написал. Добил лишь большой рассказ о космонавтах [ " Ночь космонавта " . – Сост. ]– вся надежда на зиму, надо бы роман замесить, и повесть небольшую, да всё недосуг, всё дела более «важные». Рукописями заваливают меня молодые со всех концов – из двух одно: или вывелись добрые люди, готовые жертвовать собой и временем во имя молодых, или же молодёжь настырная и одолевает всех своими рукописями.
Ну вот, пишу-то я без повода, а без повода русские люди ничего не умеют, даже прогуляться на двор, и то им надо, чтоб попутно в нужник завернуть. Вот и расползся я и ничего путного не сказал тебе, а всё представляю,как притих сейчас Казачинск среди пожухлых лугов, нарядного, уже сквозящего леса и как неотвратимо надвигается на вас всех тоскливая, долгая и воюще-печальная зима. Зато сейчас пора прекрасная! Выдаются солнечные дни, в лесу маслята, рыжики, а у вас грузди. Утки тревожатся, ласточки и стрижи улетели, скворцы клубятся в небе и перед вечером поют в палисадниках молодые, готовясь к будущей весне. Будем и мы мечтать о ней и согреваться мечтой о тепле и солнце в зимнюю стужу.
Обнимаю тебя. Прости за грустный тон письма – это немножко от хвори немножко от осени. Твой Виктор Петрович
1972 год
Май 1972 г.
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!
Давненько уж я получил твоё письмо, а ответить не мог – свалился. Всё было хорошо. Перед праздником с Марьей Семёновной поднялись легко и быстро и двинулись во Псков. Побывали в пушкинских местах. Экое диво! Сколько радости дала нам эта поездка. Потом, перед самым праздником и после него малость схватывало сердце. Оклемался вроде и в Киев собрался, с режиссёром работать, но 6-го как взяло...
Вот второй только день брожу по избе и пробую водить ручкой по бумаге. Билеты в Киев сдали, чемоданы распаковали. Режиссёру самому приходится лететь ко мне, и сегодня он будет, а с ним уж хрен чего напишешь. Вот я и стараюсь все мелкие дела приделать. Рукописи разгрёб, почту и даже почитал кой-чего для души. Есть преимущества у филона...
Теперь мечтаю, как поскорее выбраться в деревню, пожить на чистом воздухе, на чистой воде и, может, наладившись, и пописать чего. Хочется что-нибудь про природу написать для ребят и рассказ хочется написать о том, как Ваську одного в леспромхозе товарищеским судом судили, и что из этого получилось. По демагогии вдарить хочется.
Ринка наша [ так по-домашнему звали Ирину , – Сост. ]была в Сухуми по какой-то туристической путёвке. Грузинцы-молодцы вологодских туристов блокировали, и девки боялись в одиночку нос куда-либо показать. Так что Ринка, не найдя тебя, отсыпалась. Мне вот тоже надо бы в Ессентуки ехать да ведь собраться-то, путёвку-то достать – целая история с географией!
Роман я окончил. Чтобы его, собаку, делать, надо ба-альшое здоровье иметь. До осени пусть терпит. Где-то вышла моя книжка «затесей», в газете видел, а наяву ещё нет. Когда её пришлют к нам в край северный? Далеко ведь – семь часов поездом! Однотомник мой, великомученный, задержали было, в который уж раз чего-то напугавшись, на сей раз рецензии в «Новом мире»! И сейчас, говорят, опять ему ход дали. Комики и трусы!
Очень рад, что дела твои тихонько налаживаются, но ещё больше буду рад, если тебя «Известия» изымут с южных краёв, где, я понял по рассказам Ринки, живут сплошь плуты и дикари. С ними поживёшь, так и Салехард сказочным городом вспоминаться будет.
У нас весна никак не наступает, но каждому погожему дню радуемся. И жизнь течёт хоть необычная, но добрая.
Обнимаю. Виктор Петрович
20 сентября 1972 г.
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!
Я только что вернулся с Оби. На этот раз с бригадой ух, хорошей бригадой-то, по средней Оби крутились, пароходом и на вертолёте. Я при встрече расскажу тебе, что и как, а пока пишу, чтобы ты дал сигнал к отъезду. Мы можем поехать в конце сентября, начале октября.
Я очень себя плохо чувствую – гастрит обострился, а главное, поднялось давление и мне надо отдохнуть и воды какой-нибудь попить. А устал я и надсадился с одним художественным произведением, которое заканчиваю и скоро отошлю в журнал. И как вышлю, то буду свободен пока ото всех дел.
Затею с путёвками в Гагру пришлось оставить – мы не можем так надолго отлучаться из дому, а вот если бы ты подыскал заранее нам комнатушку через бюро какое-нибудь на двоих, было бы хорошо. Может, у твоей прежней хозяйки? Нам очень не хотелось бы тебя стеснять и отвлекать от работы. Словом, ждём от тебя сигнала – телеграмму, письмо, как угодно, и тогда собираемся и едем.
С книгой опять, кажется, всё накрылось по причине пессимизма, а и Бог с ним. У меня нет сил и на свою-то работу. Ну, будь здоров! Твой Виктор Петрович
1972 г.
(А.С.Филлиповичу)
Дорогой Александр Сергеевич!
Я слышал, что Вы в Москве. Значит, что-то сдвинулось в кино! Я тоже месяц назад, по просьбе своего несчастного режиссёра, побывал у высокого киношного начальства и порадовался тому, что я работаю в литературе и могу от кино не зависеть. У нас всё проще, доступней и, наверное, человечней. Когда со стороны посмотришь, конечно.
А на Новый год меня свалило в тяжким приступом – гриппом, а потом начались осложнения, которые и до се не кончились. Болезнь, как всегда, способствовала тому, что когда я смог глазом глядеть и башкой немного шевелить, то прочитал все рукописи, скопившиеся у меня. Первым я читал Ваш сборник и потом долго не мог отделаться от гнетущего чувства одиночества, тоски и какой-то волчьей зимней озяблости. Часто такого рода настроения и такие ощущения я списываю на болезнь – при гриппе все они появляются разом и долго не отступают. Остальную же часть всё-таки списываю на Вашу рукопись и теперь понял – прежде всего поэтому, отчасти исключительно поэтому. Вас и не печатают и печатать скоро не будут.
Конечно, Вы вправе мне заметить – настроение «духа» саму душу художника не придумывает – она одинока, и в рукописи одинока. Правильно, Вы же ещё и усугубляете эту заунывную безысходность, часто неосознанно. В Ваших старомодно и неудачно названных рассказах столько смерти, тлена, старческой покинутости!..
Я понимаю, рассказы писались в разное время, и в это разное время Вы целиком выполнили, даже перевыполнили программу российского новеллиста, который вовсе уже и не русский новеллист, если: а) не напишет о собаке, б) о лошади, в) об одичавших и одиноких стариках, г) он не современный русский новеллист, если не напишет об истреблении (бесцельном, конечно) огромного и доброго зверя-лося и ещё о корове. Я тоже обо всём этом писал, и все мои друзья писали. Кажется, у меня ещё корова в запасе? А за лошадь я уж раза четыре принимался!.. Но спасло меня то, что об этом обо всём я писал не протяжении многих лет, и между этим были другие рассказы, как бы разбавлявшие роковую неизбежность тем русского новеллиста. Потом я научился кое в чём себе отказывать, то есть не касаться тем и предметов, которые как бы заранее обрекают на сочувствие и успех данное произведение (именно поэтому шибко очеловеченный белый Бим с чёрным ухом пользуется таким ошеломляющим успехом у нашего слабо подготовленного, но жалостливого к животным читателя). Именно поэтому я бы и не стал писать, а если бы написалось, никому бы не показывал рассказа о смерти одинокого пса и псовой одинокости его хозяев. Человек, так хорошо научившийся владеть пером, как Вы, должен взять себя за руку, как хороший ягодник не коснётся пусть спелых, пусть ярких ягод, оставляя их легкодоступными для ребятишек, коим пока ещё тяжело и жутко ходить в лес одним.
Вы меня поняли?
Ваши рассказы о людях (название «Смерть музыканта» – действительно худое и даже вычурное в данном случае и опять же плохо названный рассказ «История одной любви») – лучшие и наиболее цельные в сборнике. К ним присоединяется свежо (видимо, недавно написанное), этакое славное вступление к сборнику. Остальное надо как-то разбавлять, надо как-то освежать, а то ведь дышать нечем – такая духотища и тоска. Причём рассказ об охотничьей собаке написан в духе «Бима» – это когда собака очеловечивается до того, что и мыслит за человека и её глазами обсуждаются и решаются поступки человека. Но так как они всё же от собаки и совсем «по-человечьи» не может быть, начинается то хитренькое упрощение под хитренького Троепольского, когда поступки человека излагаются как бы со стороны и поверхностно – вот и гадай, отчего хозяин сделался таким. В мать свою сволочную удался, в армии ли особачился? От роковой ли любви озверел до того, что собаку свою стрелять взялся!..
Всё слишком сверху нахватано, слишком везде в рассказах о животных этот самый натурализм и жалость эксплуатируются. А когда начинается о людях, появляется другая беда: разобщённость и житейская, и душевная. Есть она? Есть. Но так ли уж остро воспринимается и претерпевается, как нами – людьми пишущими и, жеманно выражаясь, интеллигентно чувствующими? Нет и нет!
Я много лет знаю свою деревушку Быковку на Урале – она постепенно вымирает, народу в ней остается всё меньше и меньше, но всё-таки мои быковцы (а у меня уже есть основания называть их своими) хоть и отдалены, хоть и шибко оторваны от остального мира – тоже тоскуют, и работой заняты, и загулять могут. А летом: грибы-ягоды, сено, дрова, да гости городские, – им не до тоски, однако, а то, что у них на душе, – они выскажут хотя бы моей жене и облегчатся, и живут просто, ненадоедно: попивая, сплетничая, помогая друг дружке. И мир их этот, и жизнь ихняя не нуждаются в нашем сочувствии. И не нужно навязывать им своё настроение, свой псевдоопыт и взгляд на жизнь хотя бы потому, что их «тёмной» жизни уже много тысяч лет, а нашей, «просвещённой» – и сотня не наберётся. Однако ж нам и сотни хватило, чтоб душевно разрушиться. Не верите мне, прочтите свой сборник – его написал если ещё и не разрушенный душевно, то смертельно усталый человек. Вот какие невесёлые думы были у меня после прочтения Вашего сборника.
Виктор Астафьев
1972 г.
(Н.Волокитину)
Дорогой Николай!
И я радуюсь тому, что стал ты членом организации, в которой имею честь состоять я и мои товарищи. Да, радуюсь, и не только потому, что, как говорится, руку к сему приложил, но и потому ещё, что верю в нашу захламлённую, не раз уже распроданную с молотка, замордованную и всё-таки живую литературу.
Счёт у нас пока ещё на единицы, однако эти единицы составляют сейчас суть и всё в литературе, и они в большей степени, чем рвущая зубами мясо и юный приспособленческая орда, влияют на формирование общества, на его совесть, честность и здоровье. Пусть внешне это ещё не столь ощутимо, как хотелось бы, но и не столь ничтожно, чтобы с ним не считались. Во всяком случае, я по себе знаю, как на меня и на моих друзей надеются, ждут многого от нас и боятся, чтобы мы не предали свою душу и перо. А распродать то и другое и прожить лёгкую – вот лёгкую ли?! – жизнь в нашей литературе очень просто.
Вчера появились в газетах портреты Корнейчука с дежурными словами скорби. У меня был как раз режиссёр из Киева и сказал страшную, на мой взгляд, вещь – никто, ни один человек не помянул покойного добрым словом, все почему-то в день его кончины вспоминали о нём мерзости, а сам он, умирая от рака крови, кричал: «Отдам миллион, только спасите!» Вот и ни званья, ни миллионы не нужны сделались, как смерть подступила.
Всё это я к тому пишу, что нашёл ты путь сложный, трудный, трудности которого, сколь бы я тебя к ним ни готовил, будут всегда пробующими твой позвонок на прочность. Сейчас у тебя в душе праздник, в голове туман и рассеянность, как в половодье, – плыви в любую сторону, ведь просторно! Хорошее состояние, но оно пройдёт, начнётся работа, работа, работа. Тебе нужно очень много сделать и, прежде всего, в направлении самоусовершенствования. Жить нужно напряжённо, особенно периферийному писателю. Ему, горемыке, всё время приходится ходить с котомкой и нести груз той самой продукции, тех знаний и информации, за которыми в столице лишь стоит через улицу перебежать и вот они.
Не дай бог тебе заболеть чванством и самолюбованием, какая бы на тебя слава потом ни свалилась. Но не дай бог остаться робким и застенчивым провинциалом, которых у нас просто готовы на руках носить, потому что провинциал – он же ребёнок, которому можно и соску дать, и по попке похлопать ласково, и идти в нужную сторону научить, держась за руку дяди, ласкового дяди из журнала или издательства, который дни и ночи не спит и всё думает, как несмышлёнышу глазки открыть и ходить его ножками научить. Ходить надо самому, и как можно твёрже, говорить своим голосом, но как можно реже и только по делу. И помнить две заповеди – первая житейская: «Жизнь свою держи за узду, на жребий свой не ахай, и если тебя посылают в ... ты посылай на ...». Вторая – литературная:
Орёл был у нас председатель,
Зайчишка был наш издатель,
А критиком был медведь.
Чтобы быть российским писателем —
Ба-а-а-льшое здоровье надо иметь.
Вот и помни всегда о нём, о здоровье. Я вот с фронта его ещё немного привёз, а потом не жалел, развеивал и не всегда на работу, но было и на застолья. Конечно, я не жалею о том, чего было не так уж и много – о гулянке, но вот хворать стал всё чаше, и хворь из-за стола надолго вышибает, а там уж и старость костями постукивает – через два года пять-де-сят! Третий день пробую садиться за стол, а и то накоротко, а сделать хочется ещё много.
Ну, написал я тебе семь вёрст, читай знай. Крепко тебя обнимаю. В добрый путь. Твой Виктор Петрович
27 декабря 1972
Вологда
(Е.Городецкому)
Дорогой Женя!
И за посвящение, и за поздравление, и особенно за цитату из «Экклезиаста» – спасибо. Эту цитату я пришпилю к роману, чтобы неповадно было тем, кто хочет и добивается того, чтобы властвовать над всеми и иметь себе даже на войне отпуск, пока умирают другие...
Кстати, книгу повестей, где есть и «Пастушка», выдвигают на Гос. премию на 1973 год, но это пока «тайна». Действие сие начинается в четвёртый раз, я уж было в дыбы, да Бондарев, бывший вояка, Ванька-взводный, умница и хохмач, смеётся: дают на четвёртый раз, говорит, мне на четвёртый дали!..
Где-то я слышал: что такое затурканный еврей? – это еврей-турок, а что такое затурканный русак? – это я, мудак! Веришь, нет? Как в Боржоми прочёл хорошую книгу «Великий человек», так с тех пор ни одной не прочёл. Правда, правда! Справа от меня уже три ряда книг на столе, в основном подаренных, и не могу прочесть – готовил том избранного. Как ковырнулся – батюшки мои, а говна-то, а мусора-то в тексте. Свою раннюю повесть «Звездопад» переписал заново, «Перевал» исчеркал до основания, а надо ещё предисловие, а надо и рукописи читать, и письма писать, и в Москву по делам съездить, и там, конечно же, напиться и неделю лежать, не поднимая головы, – контужен ведь, дурак, давление мгновенно подскакивает, да и глаз-то один всего видит и сдаёт, подлюга. Но живу и даже умудряюсь, в обшем-то, все почти сделать, в смысле почты, но уже с поздравлениями оплошал, поэтому у ребят у всех прошу извинения и всех чохом поздравляю.
А тут ещё упал и не упал, а прямо сказать, ё..улся, идя с базара, и отшиб нутренность всю. Видно, остарели там все кишки-то, и аж что-то треснуло и пискнуло в моём толстом брюхе, оказалось, почки отшиб – тоже неплохо!..
Женя! А ведь А. Романов раздухарился, и ещё двое вологодских парней, и просятся в Сибирь... А ну-ка, парень, давай-ка посоображаем насчёт августа или начала сентября, но чтобы банда была небольшая и этих выступлений поменьше. Конечно, всё это можно сделать через Красноярское отделение Союза писателей. Но они же заставят выступать и речи травить, а мне их травить на любимой земле всё равно что в ухо лучшему другу по пьянке поссать. Мне на Енисее хочется сидеть на палубе, молчать, глазеть и слушать воду, а потом потрепаться бы маленько с хорошим человеком насчёт того, как тут хорошо и почему всё это хорошее губят мудаки, мои земляки и всякий блудный люд...
Виктор Астафьев
1973 год
27 января 1973
(Н.А.Горбачеву)
Уважаемый товарищ Горбачев!
Я внимательно ознакомился с перечнем названных книг, уже изданных в библиотеке «Родная земля», и с проспектом на 1974 год. Мне кажется, библиотека довольно полно охватила имена писателей, наиболее причастных к «теме земли», хотя некоторые произведения я не считаю лучшими в нашей литературе и достойными быть представленными в общесоюзной библиотеке, но это моё мнение, оно не бесспорно, и я на нём не настаиваю.
Однако же недоумение вызвало у меня отсутствие таких произведений (как среди изданных, так и намеченных к изданию), как «Привычное дело» Василия Белова и «На Иртыше» Сергея Залыгина, а также, к примеру, и произведений Анатолия Знаменского из Краснодара и Валентина Распутина из Иркутска. Думаю, отсутствие произведений уже общепризнанных, получивших огромную прессу и известных читателю писательских имён – Белова, Залыгина Распутина, не могут заменить такие, как «Пласты» Грачёва либо «Белый свет» Бабаевского и др. Замена настоящей литературы второстепенной не делает чести ни библиотеке «Родная земля», ни планам общественного совета, ни комитету по печати, да и никому вообще. Просто массовому читателю лишний раз подсовывается книга серая вместо настоящей, делающей большое дело литературы, всеми принятой с любовью и почему-то игнорируемой нашим комитетом.
Я надеюсь, что это печальное недоразумение будет устранено и имена умнейших и одарённейших писателей нашего времени: Сергея Залыгина, Василия Белова, Валентина Распутина ещё украсят библиотеку «Родная земля», в противном случае моё присутствие в общественном совете теряет смысл – я никогда не был склонен к тому, чтобы вместо хорошего произведения поддерживать посредственное и плохое, какие бы соображения высшего (читайте – перестраховочного) порядка тому не были причиной. Они не могут и не должны влиять на взгляды литератора так же, как и на само литературное движение. От этого нет никакой пользы, а вреда много.
Желаю всего доброго.
Виктор Астафьев
4 февраля 1973
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!
Тут после месячного перерыва (все-таки угодил в больницу с осложнением – воспаление легких после гриппа) забрел я в Союз наш, а там никого нет и лежит куча газет, а сверху "Известия". Я возьми да и подумай: «Вот сейчас открою газету, а там очерк Вадима». Открываю – точно, есть! И очерк-то славный про буровиков и жизню ихнюю «романтическую». Всё-таки удел твой пока – очерк. На очень короткой и малой площади ты сумел много сказать, а главное – характер написать.
А тут мне предстояло готовить сборник юбилейный. Подумал я, подумал, да сам к нему и предисловие написал, чтобы снять с себя ореол некоего страдальца и оградить от праздного сочувствия и оков «за трудную жизнь». Жизнь как жизнь. Я на неё не в обиде. Она даже интереснее других получилась, может, во всяком случае – насыщеннее. И не надо было мне вытягивать из себя жилы, чтоб набрать на книжку материал, а только выбирать и всё. Постарался написать строго, спокойно и по возможности без той саморекламы, в которую ударились наши многие писатели, ещё при жизни жаждущие быть «классиками».
Кроме того, хотел почистить все тексты, «прибрать» их, вытереть сопли, смести мусор, и оборачивалось это неожиданностями. Некоторые вещи, например, «Звездопад», переписал почти заново. Если увидишь мою «Излучину», не читай пока рассказ «Ночь космонавта». Испохабили рассказ-то, выщелочили всё, что составляло его суть: надо свою землю беречь и жить на ней как следует, ибо за нею пустота, тьма и ни хера там нету для жизни годного. Хотя ты ведь вроде в рукописи читал рассказ или нет? Память моя слабеть начинает, и весь я какой-то разваренный. Не успеваю отвечать на письма, рукопись сдал почти на три месяца с опозданием, а ведь вкалываю, суечусь. Господи! Неужели так рано старость наступает? Никогда я прежде не отставал и, дав слово, в лепёшку разбивался. Тут уж из пермского издательства обеспокоенные звонили – не отдал ли я сборник в другое издательство? Всяк судит и рядит о жизни и литературе в меру своей испорченности.
Сборник я назвал спокойно и хорошо – «Вести». Моим читателям и друзьям посылаю свои лучшие вещи доброй вестью. Даже надежду слабую питаю, что пройдёт в нём «Пастушка» целиком.
Вадим, милый! А сколько же тебя «известинцы» всё же мариновать будут и эксплуатировать?! Когда они тебя во Сибирь сошлют? Вот уедете вы в Сибирь, потом ещё кой-какие друзья уедут, и я, наверное, тоже туда уеду. Что-то я хвораю тут каждую зиму от сырости, и на родину меня очень тянет. Прочитал тут про великого земляка Сурикова Василия Ивановича. Тоже вот в Москве жил, мировую славу имел и денег много, а всё мечтал в Сибирь вернуться, в Красноярск. Такая уж это наша болезнь сибиряцкая.
У нас Ринка всё чего-то никак нигде не приткнётся. В Удмуртии ввели в университете удмуртский язык. На хрена он ей сдался? И куда её ещё посылать? В Сибирь, наверное, на родину мою, там, может, повезёт. Сегодня приезжает на каникулы Андрей, а до сего дня жила тётушка Марии, этакий славный шустрый человек, опрятный. Та самая тётушка, которой посвятил я рассказ «Курица не птица».
Обнимаю тебя, твой Виктор Петрович
8 февраля 1973
(В.Юровских)
Дорогой Вася!
Уже давненько пришло Ваше письмо, но я болел и продолжаю болеть (осложнение после гриппа) и лишь недавно начал садиться за стол.
Мне близки и понятны все Ваши слова и мысли. И надо мной когда-то диковалось быдло, то в лице начальника литейного цеха, то газетного царька районного масштаба... Люди эти, как правило, невежественные, завистливые, своих баб боятся, пьют под одеялом, только втихую слушают «Голос Америки», маринуют грибы, садят викторию, посылая на рынок родную мать поторговать ею, шлют деток в музыкальную школу (а мать живёт на кухне), сплетничают с инструктором райкома, раболепствуют перед секретарём и больше всего в жизни боятся потерять насиженное тёплое место, ради которого заложат что угодно – Родину, мать, жену, детей, даже яйца дадут себе выложить, и всё это на «принципиальной основе»!
Ах какое мещанство-то мы возродили взамен низвергнутого пятьдесят лет назад! Не простое, а золотое! Большой оно крови и денег стоит!.. И затопит, задушит мещанство, как чёрной сажей, всё разумное, доброе, ибо, как и всякое зло – оно бесстыдно, бессердечно и ничего кроме себя не уважающее, а желающее только, чтоб вместе с ним, мещанином, все подохли, ибо он считает – на нём мир стоит, им и кончится.
Общество уже начинает расплачиваться за своё благодушие, думая, что, исчезло мещанство, умер обыватель, оставшись лишь у Чехова и Горького. Ан нет, он только затаился и, как кокон, превратился сначала в гусеницу, потом, сожравши светлые побеги дерева, окуклился и запорхал над нами нарядной бабочкой, имеющей высшее образование и рассуждения насчёт чести, совести и морали.
Ах, какая мораль, какая мораль! Вот уже и в литературе она восторжествовала – чем больше болтовни, суматохи, тем меньше стоящих книг, а значит и отвечать таким руководителям, людям бездарным, угрюмым, скаредам и демагогам, как Марков и Сартаков, ни за что не надо. Покойный Яшин как-то крикнул нам, молодым петухам: «Чего шумите?! Вам ещё деньги будут платить за то, чтоб вы не писали!..» Кажется, дело к тому идёт, потому что писать против сердца мы не приучены. Или же путь наш закончится так же, как у Рубцова Коли или Алёши Еранцева (я ведь знал его, встречался с ним раза два на разного рода сборищах – молодой, умный парнишка был, что он, повесился, что ли, если бы не затравили?). За последние годы много уж перевесилось и перестрелялось... В Сибири лет пять назад повесился мой школьный учитель, поэт Игнатий Рождественский. Этакий был восторженный человек и патриот. И на вот, залез в петлю! Думаю, что молчание не убавит жертвы в литературе, а наоборот...
Рассказы Ваши я ещё не читал. «Новый мир» после ухода из него А. Т. Твардовского принципиально не выписываю, а в Союз не могу пойти – тяжело подниматься по лестнице. Но наша секретарша обещала найти и принесть.
Вот пока и всё. Работа у меня всякая стоит. В № 12 «Нашего современника» за прошлый год напечатана дорогам мне вещь – «Ода русскому огороду», она хоть и усечена, но многое из того, что я хотел ею сказать, осталось. (Это всё, что я сумел сделать за прошлый гол!) Посмотрите.
Желаю Вам и семье Вашей здоровья. Пишите и работайте больше, пока есть силы и здоровье. Всего Вам доброго! В. Астафьев
12 марта 1973 г.
(А.Г.Зебзеевой)
Дорогая Аля!
Посылаю тебе сказочку Вали Петровской – это та самая девушка, которая без рук и без ног и которую однажды я рекомендовал с очерком в «Молодом человеке». Увы, она так и не поддержана никем и одинока, а я-то думал...
Впрочем, что тут думать – общество наше погружается всё глубже в тяжкий обывательский сытый сон и в равнодушие, до убогих ли тут?!
Прошу тебя, Аля, приспособить эту милую сказочку. То-то радости будет у одинокого человека! Я маленько сказочку эту подправил. Первый экземпляр повезу в Москву, может, в «Мурзилку» приспособлю.
Еду завтра. А так всю зиму проболел и вот с полмесяца как стал работать, но «паров» ещё мало, точнее «пары» уж не прежние, хотя телеса и раздались вширь.
В мае мы с Марией Семёновной, точнее, в конце апреля двинем в Быковку – подышать весной и поработать, тогда и поговорим о житье-бытье, а пока приветы всем от меня и Марьи Семёновны. Что с «Пастушкой»? Пора бы ей уже выйти.
Ну, бывайте! Ваш В. Астафьев
1973 г.
(Н.Волокитину)
Дорогой Николаша!
Сегодня я купил тебе и себе, конечно, по нескольку разнообразных пластинок, и серьёзных, и душещипательных, памятных по детству, для разнообразия настроения. Надо сказать, что от моего южного настроения не осталось и следа – всё взяла текучка, почта, какие-то сумбурные, никому не нужные дела.
А на дворе слякоть, мразь. После холодов лёгких и белого снега раскисло всё, туман, сырь, все кости болят и на душе такая слякоть! Не знаю, куда бы себя дел. Из рук всё валится, потому что ложь кругом, паскудство, и с годами видишь это отчётливей, переживаешь острее. Начал писать статью для «Избранного», дошёл до смерти мамы, и так стало плохо, так больно, так заболело сердце, что и жить-то уж как-то даже не то чтобы не хочется, а тошно. Пишу и поэтапно вижу, как разрушалась и уничтожалась наша семья, большая, безалаберная, и среди всех жертв самая невинная, самая горькая и невозвратная – моя мама.
А биографию надо написать. Пишут все и врут, либо нажимают на жалостливые и выигрышные моменты: «тяжёлое детство», «солдат», «рабочий» и вот вам – писатель, ай-лю-ли, ай-лю-ли, как его мы довели! Обрыдло всё это. Так маскируют трагедию личности и литератора, значит, и всего общества, так охотно и поспешно теряющего свое нравственное и национальное достоинство.
Хочется с кем-то поговорить, поболтать. А с кем? Живу я всё же в чужом краю, с чужими людьми. А где они, родные-то? И Родина где? Овсянка? Это уже не моя родина, это лишь её тень, напоминание и могилы, заросшие крапивой, без догляду и слёз оставленные. Я только и плачу ещё про себя обо всём – и о Родине моей, и о могилах родных. А сколько их, слёз-то моих? Тут и моря мало, чтобы затопить всё горе людское.
Биографию я всё же напишу, пересилю себя. Большую, беспощадную, и из неё уж выберу сокращённое изображение для «Избранного».
Клею повести, правлю, пишу выступление к 50 годам, и страшное моё ощущение и отношение к этому – по длине жизни чувствую, что мне лет полтораста, и в то же время кажется: не заметил, как всё это было. Видимо, самый длинный отрезок времени – это юность. И отнятая, убитая, сожжённая, она пеплом своим стучит в сердце, требует какого-то возмещения, компенсации, но компенсацией может быть только сама юность, а она бывает раз. «Ах, юность, юность, нет к тебе возврата, не воскресить – зови иль не зови! На дне души светло и виновато лежат осколки дружбы и любви!» Осколки! Разве из них что склеишь? Я же не археолог, а всего лишь литератор, иногда впадающий в детство и умеющий более или менее выдумать юность чью-то. воображая её своей, и прилепить к этой воображаемой юности воображаемую любовь, потому что любовь есть самое естественное чувство, и изображённое на бумаге, оно уже становится словом, а слово есть всего лишь слово. Музыке ещё способно добраться до тех чувств, из которых берёт начало любовь...
Боюсь сбить тебя с толку, заразить своим нытьём – у тебя сейчас ведь хорошая пора. Ах, как я был счастлив в эту пору, хотя у меня был полон дом прожорливых ртов, и жилья не было, а всё равно петухом на заборе чувствовал себя, и хвост распушен!