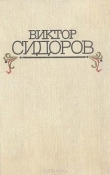Текст книги "Нет мне ответа..."
Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
20 декабря 1974
(В.Г.Распутину)
Дорогой Валя!
Поздравляю тебя и всех твоих домашних Новым годом. Все будьте здоровы, живите, дружно, и тебе пусть хорошо работается в новом году!
Я давно хотел тебе написать, ещё сразу, как прочел «Живи и помни», но сам сидел плотно за столом, всё ещё добываю и добиваю «Царь-рыбу», а он не больно добывается, уходит вглыбь, а оттуда, как тебе известно, и налим не больно-то скоро выудишь, вертухается, не даётся даже налим, а тут рыба да ещё и «царь»...
Очень ты хорошо написал повесть. Валя! Очень! Я такой образцовой, такой плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в нашей современной литературе. Да и есть ли она? Есть приближенная к этой, но то ей неприбранность мешает, то нравственная неясность позиции автора, которому и хочется, и колется что-то сказать, да «внутренний цензор» мешает. Ты написал роман (конечно же, это роман) о трагедии войны, вот именно народной войны, а то у нас все это слово понимают и принимают в смысле массовости, но смысл всего происходившего гораздо глубже. Как-то на фронте слышал, уж не помню по какому случаю, сказанное умным человеком: «Молокососы! – это нам, юнцам говорилось. – что вы тут хлещетесь, под пулями работаете, надеясь, что потом вас на руках носить будут, помогут вам жизни. Ни хрена! Как всегда, победу отнимут у народа те, кто за вашими спинами скрывался, и чтоб её отнять у вас, поперёд вас и бедных баб высунутся вас с говном смешают, сделают безликой массой, принизят ваше значение оплюют ваш тяжкий труд на войне и в тылу...»
Примерно вот такое, в окопах, на передовой – там ведь нам свобода полная была, болтай чего хочешь. – начальство-то, особенно надзорное, берегло свои жизни и отиралось во втором эшелоне. Это уж потом, отнимая нашу победу повысовывалось вперёд столько всякого народу, что мы оторопели: вот, оказывается, кто подвиги-то совершал – журналисты, артисты, кинохроникёры, контрразведчики, тыловики всех мастей, а генералы так прямо носом земно рыли на передовой, ну а уж комиссары, те просто только и кричали: «Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!» и грудью пёрли на врага, а мы лишь им помогали, пушки таскали, кур воровали, картошку лопали и вшей кормили ну изредка стреляли. Ну бомбили нас, убивали, ранили не по разу – экая невидаль, это совсем никому и неинтересно! У нас комиссар, замполит артиллерийской бригады, на фронте брюшком обзавелся, румянец на его щеках земляничный наспел, ездил на машине, застеленной ковром, спал на простынях, кушал с отдельной кухни и ни разу – ни разу! – я его не видел на передовой, где нам курить завернуть не во что было, а уж о жратве и говорить нечего...
А как они в штабах выпячивали грудь, обнимали именем народа таких вот, как твой мужик, уставший от войны, – видимость работы, занятость свою на войне надо ж было где-то и на ком-то проявить. При переправе на плацдарм на левом берегу оставались три сотни чиновного люду, заградотряды поставили, все чего-то бегали, указывали, руководили, все в поту, глаза на лбу, а на ту сторону плыть-то и неохота. Ну, а уж о бабах и говорить нечего. Твоя Настёна в их общем ряду страдальческом только тобой понята и написана. Но концовка... (Викулов читал из письма твоего на редколлегии) и в самом деле скомкана, в сравнении с остальным обстоятельным текстом. Да и сам знаешь, Валя, что-то есть в ней от лукавого. Ты сам и виноват. Нигде не допустил сбою, везде был предельно точен и искренен. И вот... Ты знаешь, как запутано всё было В ту пору? Народ ехал куда попало, убегал от баб, а бабы от мужиков. Твоей Настёне с ребёнком, да и вместе с мужем затеряться было в любом леспромхозе – тьфу! – раз плюнуть. Туда брали кого попало и как попало.
Нравственное что-то, совесть, растерянность, неумение сдвинуться с меча не позволили? Но Настёна вон какую изворотливость проявляла до этого! Что-то тут надо доделывать, Валя. Что-то додумывать и придумывать, чтоб конец повести (романа!) был на уровне всей остальной вещи. Один въедливый читатель написал мне, что да, повесть Распутна это отдельно от всей литературы стоящая вещь, и долго ей жить, но всё-таки Распутин окончил трагедию там, где у Достоевского она только начиналась... Не во всём тут можно согласиться с саратовским читателем, но что-то есть в этих словах и в точку.
Но всё это придирки к большой вещи, сложной и, повторяю, лучшей из всего того, что мне доводилось читать за многие, особенно за последние годы. Писать тебе, Валя, дальше и дальше! Ты вон ещё какой молодой!..
А я всё живу воспоминаниями о Байкале! Очень хорошие несколько дней прожито, так и стоят в глазах горы с прожильями снегов, море цветов на склонах, росплески голубых незабудок. Толстой говорил: «Пусть она, эта цивилизация погибнет к чёртовой матери, вот только музыку жалко», а мне природу.
Цветы вот эти, пташек, почему-то особенно маленьких, и ещё ребятишек.
Я тоже купил себе дом в деревне, на берегу реки Кубены. Конечно, это не Сибирь, не Байкал тем более, но и в этих сирых северных местах есть свои прелести и каждый цветочек тут уже видишь отдельно и ценишь особой ценой. Может бог даст, когда и побываешь у нас, Русь древнюю посмотришь – это тоже надо видеть. Художнику всё надо видеть. А мы с женою, если ничего не стрясётся, непременно побываем на Байкале и у бурят, и у вас.
А пока «всё смешалось в доме Астафьевых!» – дочь выходит замуж – это, брат, пострашней бомбёжки! Вот незаметно доживёшь и сам узнаешь. Пятнадцатого января Жене Носову полста – поздравьте его, хороший он человек... Отец-бродяга в Астрахани загибается, вот поеду к Жене и от него в Астрахань – писать художественные произведения некогда, всё время дела более «важные» отвлекают, не знаю, когда и закончу повесть.
Попрошу тебя, Валя, передай мои поклоны и поздравления с Новым годом Славе Шугаеву, повесть которого «Пётр и Павел» мне очень тоже понравилась. Володе Жемчужникову, Глебу Пакулову, Жене Суворову и всем знакомым иркутянам. Тебя ещё раз поздравляю с рождением прекрасного романа, всех нас с победой, крупной победой русской прозы, желаю, чтоб усталость твоя скорее проходила и ты начинал новую, ещё лучшую вещь, хотя лучше-то вроде и невозможно.
Братски тебя обнимаю и целую, твой Виктор Петрович
1974 г.
(Адресат не установлен)
Дорогой Евгений Павлович!
Спасибо Вам за письмо и предложение принять участие в разговоре по моей повести «Кража». В Игарке телестудия – это для меня неожиданная и приятная новость! Я не самый яростный поклонник телевидения, хотя и смотрю его почти ежедневно, однако считаю, что где-где, а на севере, в отдалённости, оно самый нужный и незаменимый собеседник.
Итак, о «Краже». Повесть вынашивалась долго, и чем больше появлялось сюсюкающих книг о сиротах и детдомовцах под названием «В родном доме» и т. д., тем больше охватывало меня желание честно и правдиво рассказать о том, что родной дом не может заменить даже самый образцовый казённый дом, что сиротство само по себе есть большое несчастье, калечащее человеческие судьбы, и что надо стремиться к тому совершенному обществу, где бы сиротство вообще было невозможно.
Любой человек, живущий в том или ином обществе, не может быть вне его, и даже отвергнутые от людей сироты многими, порой невидимыми нитями связаны со всем, что их окружает и кто их окружает. Поэтому я не мог писать о детдомовцах изолированно от людей, от города, от мест, где они живут, растут и набираются ума-разума.
Одного моего детдомовского опыта явно недоставало для повести, такой объёмной по содержанию, событиям и судьбам людей, действующих в ней. Много здесь образов обобщённых, собранных по крупице, по чёрточке и с фронтовых товарищей, и с фэзэушников, и с соседей по госпитальным койкам. Таков, прежде всего, главный герой Толя Мазов. В какой-то мере собирателен и образ самого города Краесветска, хотя игарчане, особенно старожилы, многое узнают из того, что было и есть в Игарке.
Повесть писалась по памяти, а память, даже такая как у меня, может что-то утратить, подменить, заслонить дальние события и лица недавно виденными, употребить слова и названия, случайно где-то услышанные. Потому я и не придерживался строгой документальности в изображении людей и места действия – это всегда связывает руки, заземляет мысль, обуздывает фантазию, без которой проза лишается многоплановости, становится достоверной по материалу, но плоской и скучной для чтения.
Была ли кража денег в бане? Да, была, но ещё до того, как я попал в игарский дом-интернат. Но и при мне случались всякого рода кражи, драки и потасовки с городской шпаной, которую тогда в самом деле возглавляли Слепец – Слепцов и Валька Вдовин (с ним я даже водил дружбу и бывал у него дома). Вообще-то, вопрос «была – не была», «было – не было» не должен занимать читателя. Главный вопрос: так могло быть? И если читатель говорит «Да», значит, написано всё точно и достоверно – искусство художника не нужно путать с искусством фотографа – между ними недостижимое расстояние.
Но так уж всех читателей занимает вопрос прототипов, что я потрафлю их любопытству. Мария Егоровна Астафьева, жена моего деда, которую я звал бабушкой из Сисима, жившая во втором бараке на окраине нового города неподалёку от графитной фабрики, часто и с благодарностью вспоминала коменданта, который не дал загинуть многим спецпереселенцам в первую, страшную зиму. Он постоянно ходил по баракам, помогал словом и делом, в частности, помог и ей с ребятишками. Фамилию его она не помнила, да это и не имело для меня никакого значения, главное, там, в далёком Заполярье, был, нашёлся человек, который, не щадя себя, выполнял свой долг и проявлял человечность к людям, кои на заботу о них и доброту отвечали ещё большей добротой и самоотверженным трудом, иначе городу было бы не устоять, люди вымерли бы от цинги и бесправия.
В 1939 году (за точность не ручаюсь – я ведь в ту пору был мальчишкой) в Игарке умер секретарь горкома по фамилии Хлопков или Охлопков. Помню, когда его хоронили, был страшный мороз, и оркестранты грели трубы под мышками и под пальто, но трубы всё равно перехватывало, и они сипели. Какими путями я оказался около гроба – не ведаю, но меня поразило лицо покойного – скорбное и в то же время хранящее печать спокойствия и достоинства. Я прислушался к разговорам и речам – говорили о нём много хорошего, но мне показалось, что у покойного нет родных, что он всего себя отдал людям и что, может, это тот самый человек, который был в 30-х годах комендантом Игарки. С тех пор и начал во мне складываться образ, который и был написан под фамилией Ступинский. Увы, мало ему досталось места в повести у сюжета свои законы, своя дисциплина, он не даёт разбрасываться озираться по сторонам.
Репнин Валериан Иванович – это Василий Иванович Соколов. Всё, что нем написано в «Краже», действительно имело место в его жизни. Я слышал, что умер он в 1944 году, будучи директором школы в совхозе «Полярный», что на острове против Игарки. Его давно нет, но я до конца дней буду хранить о нём добрую память, поклоняться его человечности, уму, такту и обаянию – всё, что было во мне плохого, начал из меня потихоньку выкорчёвывать и взращивать хорошее – он! И ещё – Игнатий Дмитриевич Рождественский, работавший в ту пору преподавателем литературы и русского языка в школах Игарки.
А вот зав. гороно Голикова выведена под собственной фамилией, и портрет её ублюдочный в точности сохранён в моей памяти и написан в назидание тем учителям и воспитателям, которые полагают, что можно угнетать, притеснять и унижать детей безнаказанно. Дети всё равно когда-то станут взрослыми, и ещё неизвестно, что из них получится. А вдруг из них получится писатель, да ещё памятливый, да их в «комедию вставит!», как горестно говорит городничий в «Ревизоре». Маруся Черепанова написана под своей фамилией. Где она – я не знаю. Вася Петров, с которого наполовину списан Попик, работал одно время в посёлке Старая Игарка заведующим зверофермой. Зина Кондакова – это Зина Куликова, фамилия её по понятным причинам изменена и не надо её объявлять во всеуслышание.
Паралитик так и остался Паралитиком. Слышал, что блатняки отрубили ему голову в исправительно-трудовой колонии. Где Деменков и что с ним, я не знаю, написан он под доподлинной фамилией. Тётя Уля так и была тётей Улей. Добрейший, чудеснейший человек! Такими, как тётя Уля, мир держится, только мы, кого она кормила, поила и иногда по-матерински бранила этого не замечаем и поздно понимаем.
Многие наши ребята погибли на войне, иные в трудах закончили земной путь – ведь нам почти всем уже за пятьдесят! Скоро будет пятьдесят и городу Игарке. Доживу – непременно приеду на этот главный для всех нас, старых игарчан, праздник.
Прощаясь со всеми вами, дорогие друзья, сообщаю, что работаю над повестью «Царь-рыба». Она тоже о Сибири, об Енисее, о родных земляках. Лежит начерно написанный роман о войне, ждёт своего часа. В замысле повесть о войне, фантастическая повесть, рассказы. В будущем году выйдет моя книга «Где-то гремит война» в издательстве «Современник», очередным изданием – «Конь с розовой гривой» в издательстве «Детская литература». Запланирована книга публицистики в серии «О времени и о себе». «По секрету» сообщу, как самым близким людям (писатели, как и охотники, очень суеверны), что в конце 70-х годов планируется издание 5-томного собрания сочинений.
Как видите, планов, замыслов и работы впереди много!
Вам, Евгений Павлович, и вашим сотрудникам – доброй зимы, здоровья успехов в работе и радостей в жизни! С Новым годом! Ваш Виктор Астафьев
Раз уж сам не могу, то посылаю несколько фотографий – они помогут Вам живее сделать передачу.
1974 г.
(А.А.Богданову)
Дорогой Альберт!
Я как-то спрашивал у Сергея Васильевича [Викулов, редактор журнала «Наш современник». – Сост. ], сызнова жаловавшегося, что печатать нечего. «Неужто, – спрашивал я, – из самотёка, нашего не отыскивается?» – «Ничего. Верь мне – ничего». Я не поверил и остался при своём мнении, да и не верю этому. Вспомните старый «Новый мир, все авторы, в том числе и ныне уважаемые «Нашим современником», оказались в нём из самотёка.
Просто у нас не умеют или не хотят – нет заинтересованных лиц в том, чтобы работать как следует с самотёком. Согласиться с тем, что в течение года ничего интересного не приходило с почтой, я не могу и не хочу – это значило бы согласиться с тем, что нация наша уж вовсе оскудела, что хорошие произведения высохли, как грибы в прошлогоднее лето от засухи.
Как свидетельство того, что с самотёком в нашем журнале работают наплевательски, спустя рукава, я посылаю Вам письмо Политова, рассказ которого доделывался по моей просьбе и указаниям несколько раз, после чего я разрешил ему послать его в наш журнал и заставил автора добавить (для нас же) повесть.
Все мои рекомендации последних годов журналом игнорируются, ни одна вещь не прошла, а и было-то их очень немного из потока рукописей, идущих ко мне, я выбрал лишь крупицы. Так или иначе, хотите вы того или нет, но таким отношением не только к авторам, мной рекомендованным, Вы ставите и меня как бы в умственно неполноценные, отобравшего неполноценные рукописи. А раз так, то и смысла мне нет работать на и для Вас, чего-то читать, фамилию свою оставлять «дежурной» на последней страничке журнала я бы не хотел. Соглашался идти в редколлегию работать, а не дежурить, и работать не для себя, и не в надежде, что авось ещё какого-нибудь провинциального горемыку удастся пристроить и напечатать, ибо уж совсем стало глухо и плохо работать провинциальным писателям. Мои вещи и без Вас найдутся храбрецы печатать. И мне по-прежнему жаль, что не удалось напечатать Филипповича с его великолепной повестью и рассказами: не удалось пристроить Ромашова из Перми, повесть которого, может, и не фейерверк, но не хуже многого из того, что мы печатаем. «Мы сами с усами» – как бы дают понять в редакции, но и с «с усами» печатают такое дерьмо, что за журнал и за свою, даже "дежурную" фамилию стыдно делается (я имею в виду хотя бы тот же рассказ Рослякова или убогие стишки Иванова из Ярославля), да и ещё кой-чего.
Наверное, я не смогу быть на редколлегии – лечу зубы, и на 24-е назначено отчётно-выборное собрание нашей писательской организации, но попрошу это письмо зачитать как моё выступление, письмо Политова тоже зачитать, потом вернуть его мне. Стишки не читать (их он писал уж не от ума), хотя они на том же уровне, увы, на каком мы иной раз печатаем в «лучшем» журнале!
Виктор Астафьев
1975 год
Дорогой товарищ секретарь! (Извините, не знаю ни фамилии Вашей ни имени-отчества.)
Я надеюсь, Вы видели и читали в «Литературной России» (№ 52 от 27.12.74) публикацию рассказов покойного Вашего и моею земляка – Бори Никонова (на всякий случай газету посылаю). Прекрасному, даровитейшему от природы, мужественному юноше суждена была короткая жизнь и мучительная кончина. Но судьба так распорядилась, что иногда короткая жизнь бывает ярче и полезней людям и Родине, чем иная слишком затянувшаяся, тусклая, иногда и вовсе бесполезная.
Я пишу Вам это письмо не для того, чтобы заниматься философским» изысканиями, а с чисто практической целью – мне бы хотелось, как земляку Бори Никонова, любящему людей родного края и всё, что в нём есть истинно ценного, привлечь внимание краевого комсомола к удивительно редкой судьбе покойного юноши.
Пока он не избалован вниманием. Видимо, Вас, краевой комсомол, как и многих из нас, заела текучка, мы слишком привыкли к решению вопросов общих и глобальных, забывая, что какими бы те вопросы ни были глобальными и вообще всё, что есть и будет – вытекает из жизни и судьбы человеческой, ибо каждый в отдельности взятый человек есть уже мир, мир неповторимый и никогда вновь не возникающий... Придут тысячи, миллионы людей, пройдут годы, десятилетия, может, и столетия, но Борю Никонова, этого мальчика с капризными губами, девчоночьими ресницами и удивительно талантливой душой никто и никогда не повторит...
К чему вся эта «увертюра»?
Не знаю, как Вы, а я, глядя на юное, почти детское лицо Бори, снятое на мёртвую плёнку, читая его рассказы, стихи и этюды, ощущаю какую-то не объяснимую вину перед ним и его памятью. Ну, это бывало и будет. Благодарная память живущих перед умершими, вина перед ранними смертями, которыми часто оплачивалась наша жизнь и наше будущее – есть «кирпич» том основании, которому название – нравственность. И забота о нашем нравственном фундаменте, о том, чья жизнь и есть «кирпич» в оном,заставляют меня обратиться с нижеследующей просьбой (можете считать её частной – но может ли просьба такого рода быть частной?) о том, чтобы Красноярский край ком позаботился вместе с другими молодёжными организациями края о увековечении памяти дивногорского юноши, который, уже будучи обречённо больным, вступил в комсомол и торопливо, пусть иногда и очень торопливо (его в этом можно понять!) попытался утвердить себя как личность, трудовую, творческую, созидательную.
Жизнь Бори Никонова, его мучительный, титанический в его и наших масштабах труд – должны стать известными молодёжи Сибири, а сама молодёжь должна сделать всё, чтобы память о юноше Боре Никонове не загасла, не затерялась в суете...
Предлагаю выступить крайкому комсомола от моего ли имени, от имени ли дивногорских комсомольцев с предложением:
1. Присудить Борису Никонову за его произведения (посмертно) краевую премию комсомола.
2. Краевому издательству, не торопясь, вдумчиво отобрать всё лучшее, созданное покойным писателем, и издать с хорошим предисловием книгу произведений Б. Никонова в хорошем и строгом оформлении.
3. Установить на могиле юного патриота стелу или положить надгробный камень от имени молодёжи Дивногорска.
4. Не забывать о том, что у Бори Никонова осталась многострадальная мать и безмерно любившие его родичи.
Словом, отнестись к памяти юноши с той заботой и отзывчивостью, которые он заслужил своей короткой, но удивительно мужественной и яркой жизнью, должной послужить примером для многих молодых людей нашего края. Сибири, может, и всей нашей страны.
Виктор Астафьев, писатель
11 марта 1975 г.
(Директору ВААП)
Уважаемый тов. Чернявский!
Я даю согласие на включение моей повести «Пастух и пастушка» в болгарское издание, но это моё согласие последнее. Прошу больше не обращаться ко мне с подобными просьбами и не отнимать у меня, работающего человека, время по той причине, что гонорарные условия, которые предлагает мне ВААП, считаю грабительскими. Думаю, что нигде ещё автора не унижали такой нищенской платой за переводы, как это делает ВААП на узаконенном основании.
При первой же возможности я попрошусь на беседу в ЦК и скажу там об этом или выступлю с общественной трибуны. Мне лично моя работа даётся тяжким трудом, и хлеб своей писательский я добываю остатками здоровья, потерянного на войне, и потому не могу и не хочу, чтоб меня обирали и обдирали, как оброчного пахаря.
Уверен и знаю, что моё негодование разделяют большинство работающих Писателей – слишком много посредников развелось меж писательским сто-лом и работодателем, и часто последние кушают слаще, спят мягче и, главке, спокойней, чем сами работники.
С приветом. В. Астафьев
15 марта 1975 г.
(В.Г.Распутину)
Дорогой Валя!
Всё-таки расхворался я после этой бурной поездки в Белоруссию и вот лишь поднимаюсь, собираюсь в деревню. На спектакль, устраиваемый «Нашим современником», и на редколлегию 30 марта – 1 апреля, очевидно, не приеду.
Есть у меня в Перми очень хороший друг – художник Женя Широков. Он когда-то написал с меня портрет, и независимо от того, я или не я на нём, портрет этот обошёл все выставки наши и заграничные, а теперь приобретён Третьяковкой и висит там. Есть у него и другие портреты и полотна огромной силы. Вот прислал он мне фотографии со своей новой работой, а она будто к твоей повести «Живи и помни» писана. Мне захотелось с тобой поделиться (фото он прислал несколько штук, да я у него ещё возьму), так что хоть и с подписью иной, а всё же прими. Там и Настёна твоя есть, ты её узнаешь, а ведь повести твоей он не читал! Вот как работает мысль и голова русская! Не знаю, как радость отдельно, но горе и радость, воедино соединённые, мы чувствуем едино, и как часто бывают традиционные и потрясающие совпадения.
У нас солнце, всё тает, плывёт, а в мае, говорят, будет и студёно. Мы уже мечтаем о поездке на Байкал, я закупаю крючки по заказу Глеба Пакулова. Всем кланяюсь и желаю доброго здоровья! Твой Виктор Петрович
7 апреля 1975 г.
(Ю.Алексеевой и Е.Капустину)
Дорогие Юля! Женя!
Вот сейчас, буквально минут пятнадцать тому, произошло маленькое чудо – с плеса, на котором мы с Женей рыбачим, унесло льдину, Унесло вместе с нашими лунками, чьими-то брошенными мокроступами-самоклейками, с баночкой из-под политуры, с пустой бутылкой из-под дешёвого яблочного вина, которое в большой моде средь нашего народа, здешнего в особенности.
А вечера прямо против окон дома один здешний родом мужик поймал голавля и язя – потчевал меня ухой. Это его лунки были ниже островка, в разлучье, сделанном речкой, на которое ты меня звал, и там он накануне нашего прихода хорошо половил крупную плотву. Вот что значит знать место!
Ну а мы с Женей вчера-то ничего не поймали, оттого что всё время драло и тревожило льдину против деревни, которая вела в заречную деревню. Льдина оказалась против городьбы и конного двора, вся взъерошилась. Берег вспахало и подрыло раскрошенным льдом, и всё деревенское плёсо вклочь кругами и пластушинами искромсало, избороздило.
Вообще после твоего отъезда стоял лишь один погожий день. Я взбудоражился, думая, что источники и небесные тверди обрели успокоение. Взбудоражил Колю, и мы помчались на Сить, дабы доловить оставшихся после тебя, лютого хышника, окуней, но только вымокли до нитки под дождём и ветром. Вернулись к Коле домой, топили печь, сушились, даже водку для сугрева пили. Я-то, помня о своей бравой голове, выпил маленько водки, но много чая, отчего не мог уснуть до трёх часов ночи. А Коля набрался, бабу мою, и без того пуганую, стал пугать по телефону,
Утром я с автобусом уехал в Сиблу, топил печь, досушивался, потом принял снотворное и долго спал, вслушиваясь в свои лёгкие – воспаление меня, слава богу, на сей раз миновало, но под правой лопаткой всё же тупо болит, напоминая, что с хронической пневмонией особенно шутить не надо.
Маня моя в городе на хозяйстве, сулилась сегодня приехать. Вот уже скоро вечер – её нет. Где она? Что? Не сшибла ли в стремительности своей чего? Не сшибла ль кого, не расшиблась ли сама? Она у меня вроде теперешней речки Сиблы, бежит, ворочает всё на своём пути, бурлит, полноводится, пытаясь всем сделать добро, всех собою обмыть, обласкать, а потом успокоится и недоумевает – это чего же наделала-то? А главное – зачем?
Дождь лил всю ночь. Спал я сносно. Снились мне какие-то покойнички, строем марширующие по улицам иностранного города, и среди них безликие, тёмные девки в разноцветных косынках и на высоких каблуках. Маршировать им тяжело. Мостовая булыжная, туфли подворачиваются, а они бредут, бредут. Во сне же я и понял, что покойники, да ещё молчаливые, снятся в дождь не к лиху, а к успокоению.
Утром едва расходился. Истопил печь и сел работать. Сделал немного, только беру разгон в новой главе. Затем написал несколько писем. Писал, писал – глядь, с верхнего плёса пошла льдина, дыбится, ломается, кусты на пути гнёт и режет.
Пообедав, отправился на реку. Потихоньку пошёл я по берегу к устью Сиблы, соображая, где потом и как можно будет рыбачить. Пришёл к Сибле, она разлилась, затопила кусты, бушует, грязная, взъерошенная, издали шумит, словно большой поезд на железной дороге.
Стоял возле устья, смотрел на льдину, по которой мы недавно с тобой ходили. На краю её сидела ворона, и вдруг мне показалось, что она поплыла – я подумал, что доработался до точки, глядело моё совсем уж отказало, да и сама голова. Потом понял, что вороны – птицы хитрые и храбрые, тоже любят всякие развлечения: сядут, к примеру, на плывущую льдину и катят себе по течению, а как льдина ударится, подлетают вверх и довольно противно закаркают.
Но вот на той стороне вскипел белый бурун, донёсся шум. треск, что-то ахнуло, сломалось, и я увидел, что вся льдина двинулась, пошла почти незаметно глазу!
А под тем берегом всё больше шуму, хрусту, лёд всё набирал силу, скорость. Ворона взлетела, завихлялась. Скоро серая льдина ушла за поворот, и голая, тёмная вода вдруг выдохнула скопившийся подо льдом прозрачный пар, до зябкости ощущаемый кожей.
А речка, только что быв неживой, покрытой серым и мокрым, закружилась, забурлила, в ней и на ней оказалось так много всего скрытого толщей льда – и бурунчиков. и стрелочек, и каких-то холодноватых, но бойких светлячков, идущих от острова, два обозначилось...
Как прекрасна эта живая, трепетная река, пусть немножко холодноватая, тёмная и жуткая с виду, но тело её дышит, плоть, переполненная силами, куда-то стремится, чего-то ищет, ждёт. Снова я подумал о своей дочери на сносях, о том, что жизнь, как и чем бы её ни усмиряли, берёт своё, всё хочет рожать, продолжать себя и нас.
В это время над рекой прошёл и ниточкой вытянулся табунок уток, маленький, разбитый в пути охотниками. Он испуганно взмыл надо мной, и, пока не растворился в сонном и сыром мареве парящей земли, я всё его провожал взглядом. Отчего-то затрещал в кустах одинокий дрозд, на яру стояла на хохлившаяся пигалица и молча подозрительно смотрела на меня.
В поля из деревни слетелись скворцы, сели что-то клевать, они с самой утра радостно, несмотря на дождь, пели и трясли остренькими крылами. От чего-то не видно и не слышно ни одного куличка, ни одной плёшечки.
Все же как часто я путаю эту бедную, в чём-то убогую землю с Сибирью и жду от неё того, на что она не способна, – вечное заблуждение человека болеющего ностальгией!
Я пошёл домой, оглянулся, река всё дышала, чуть растерянная, ещё не привыкшая к наготе. Я вспомнил Шукшина, его «Калину» и подумал, что вот так, наверное, как он сыграл, выходит арестант из-под конвоя на волю, делает выдох, удаляя из себя спёртый горький воздух неволи, и, громко топая вслушиваясь в вольные шаги, пока ещё не веря себе, идёт и идёт сам не знает куда, лишь бы идти, лишь бы слышать свои шаги, дышать своей грудью вольно! Ничего не знаю прекрасней реки, она заставляет жить, думать, куда-то стремиться.
Большая нам с Маней была, Женя, радость, что ты приезжал. Круг близких людей с возрастом сужается, но зато остаются в нём уж самые близкие. А после того, как я понял, что «вологодская школа», эти, в общем-то, талантливые, но по природе своей убогие люди на дружбу не способны, а лишь на эрзац её, видимость, на корешильство, которым я переболел ещё в детдоме и потому не могу судить людей за то, что они болеют детскими болезнями и умеют жестоко же, по-детски бездумно ранить людей, полагая в то же время что они необычно добры и щедры душой, – после всего этого круг мне близких людей сделался ещё ближе и дороже. И хорошо, что придумана бумага, на ней можно сказать всё, что хочешь, даже о том, что любишь человека, а тс так-то словами мы ведь не посмеем, стеснительны больно!..