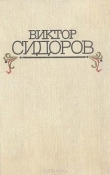Текст книги "Нет мне ответа..."
Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Я любил и люблю петь дурацкую песню старых времён, немножечко её переиначив: «Лишь был бы семейный покой, а всё остальное – дело шестнадцатое...»
А покою-то и нету, ни в России, ни в душе, да и болею всё чаше и чаше. А перед Новым годом я ещё и грохнулся, и бок шибко ушиб, и рёбра повредил.
Малость уже на ходу. Вчера ходили в оперный театр на премьеру, и такой праздничный вечер получился! После спектакля посидели с постановщиками, дирижёром, очень симпатичным, хотя и нервным, с директором нашего театра, которая возникла из таких ли лесов и болот, что и на карте их не сыщешь, может, за это я к ней давно уж дружески привязан. Сам из урема – тайги вылез – смотрите на проспект издания, это как раз и есть река Мана, которая впадает в Енисей выше моего села. Так бы вот залез в глушь и глубь этой великой тайги, погрузился б в её пространства, в тишину её и жил бы там, писал бы. Богу молился, думал о смысле бытия. Да ведь знаю, как и всякий современный человек, цивилизацией порченный, если не погубленный, – не выдержу одиночества и уединения более месяца.
Всё наше с М. С. время уходит на работу над собранием сочинений, некоторые тома требуют много сил и времени, а последние тома – публицистика и письма – вовсе жилы вымотают. Мы, с Вашего позволения, включили в один из томов и некоторые Ваши письма. А пока будем думать, как Вам, за границу, пересылать тома сочинений. Первый том уже печатается. Всего мы сдали уже девять томов. Всё издание должно быть осуществлено за два года и закончиться в 1998 году. Но человек предполагает, а Бог располагает. На него и будем уповать.
Низко Вам с супругой кланяемся, со всеми уже прошедшими праздниками, прежде всего – с пресветлым Рождеством Христовым поздравляем и желаем Вам всего, чего желают добрым людям добрые люди. Преданно Ваши – Виктор Петрович и Мария Семёновна Астафьевы
3 февраля 1997 г.
(Адресат не установлен)
Дорогие и теперь уже далёкие друзья-софронтовики!
Давно уже пришло от вас письмо, потом второе – с фотографиями и рассказом о вашем житье-бытье. Болезни. текущие и литературные дела отнимают всё моё время, но, видит Бог, я всё собирался вам ответить и вот наконец-то собрался.
Я глубоко вам сочувствую, что на старости лет пришлось тащиться за океан и доживать век на чужой, пусть и благодатной стороне. И всё же хорошо вы сделали, что уехали из Западной Украины – национализм и хохляцкое чванство за это время приняли ещё более широкие и наглые формы, за эти последние годы по всей Украине идёт гонение и проклятие москалей, а уж евреев тем более. Причём не берётся во внимание, что в России не происходит отторжения и украинцы как жили равными со всеми гражданами, так и живут, а ведь Сибирь и Дальний Восток давно массово охохлячены, ещё с давних времён, и если б здесь началось что-то подобное «гуцульскому варианту», так сколько бы горя, а может, и крови было бы... И Кравчук – советский комиссар, и Кучма пытаются быть хитрее всех, как им кажется, умело разыгрывают национальную карту. Но это уже привело к разделению Украины на Западную и Восточную, а жизнь не улучшается, и украинцам, которые так терпеливо, искренне и долго желали самостоятельности, но не хохлацкого гонора и дури, всё уже опостылело, и они рады бы жить с Россией по-братски и по-соседки, а не править бал в широких шароварах и при висячих вусах. Жизнь оказалась куда серьёзней намерений, политических игр и парада с пустым брюхом и голой задницей.
У нас дела тоже идут неважно, по полгода не выплачивается зарплата, задерживаются пенсии и пособия, народ устал уже ждать облегчения. Да и понять его можно – привыкший жить от аванса до получки, в отличие от буржуев не умеющий накопить копейку, не вписывается он в новые экономические отношения, да, за малым исключением, и не впишется, нужны два-три поколения, чтобы начать жить по-новому. А будет ли время вырастить эти два-три поколения, когда дряхлеет всё: люди, недра, промышленность: приходит в запустение и дичает земля, и никто не хочет работать от утра до вечера, в особенности на земле. Все ждут, что придут и дадут им пусть и бедную пайку, пусть нищую, но устойчивую зарплату, пусть призрачную, но волю. Вот и живём в тревогах и ожиданиях. Как всегда на Руси нашей, великой и горькой, смутное время, брожение в людях, в головах и душах. Одичавшие от безвременья, безверья и коммунистического обмана люди возвращаются или вновь обращаются к Богу. Повсеместно восстанавливаются и вновь строятся храмы и не только христианские, православные.
Вот на Бога и уповаем, и надеемся, а больше уж надеяться не на кого, кругом болтовня, обман и пустые обещания.
Мы с супругой Марией Семёновной – она у меня тоже фронтовичка, женились в 45-м году под Жмеринкой, когда я попал после госпиталя в нестроевую часть, было у нас трое детей, остался один сын, который живёт и работает в Вологде. Первая дочь умерла маленькой, от голода, вторая, выросшая в условиях нашей дорогой действительности, ещё в детстве заболела сердцем и дотянула лишь до 39 лет. была в разводе и оставила нам двух внучат Старший уже вырос, живёт отдельно от нас, здесь, в Красноярске, внучка < нами, учится в 8-м классе. Мы по-прежнему много работаем. Я за последние десять лет написал две книги военного романа и две повести, постепенно подбираюсь к третьей книге и много-много выполняю текущей работы. Здесь, е Красноярске, начато издание моего почти полного собрания сочинений 15 томах. Сейчас печатается первый том. Всё издание должно быть осуществлено в течение 1997—1998 годов.
Мы получаем пенсию, я – как инвалид войны 2-й группы, Марья Семёновна тоже пенсию получает, вместе с гонораром нам этого хватает на скромное житьё. Но как много у нас людей, которые не сводят концы с концами мыкаются без работы, не имеют денег заплатить за квартиру и бытовые услуги. К сожалению, число их не сокращается, и жизнь ввергает людей в отчаяние и злобу.
Народ мало покупает книги, картины, но, удивительное дело – театры переполнены, концертные залы тоже. Значит, мы ещё живы и надежды наши с нами, а они, как известно, умирают последними.
Очень был рад увидеть вас на параде победы в Нью-Йорке. Сам я ни на какие парады и митинги не хожу, ни в каких празднествах не участвую – не могу, противно всё это выглядит в моих глазах, потому как не прибрали косточки убитых на войне, и пока не исполнили этого Божьего дела – не имеем права ни на какие праздники.
Всего Вам доброго, главное – здоровья! Храни Вас Бог!
Кланяюсь, Виктор Астафьев
17 февраля 1997 г.
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!
Писать-то мне особо не об чем. Нынешней зимой, занятый вознёй с собранием сочинений, я ничего не писал. Не готов. И не готов физически, только поработаю пером напряжённо, глядишь, начала неметь левая рука – сердце сигнал подаёт: «окстись, может и правая, рабочая, отняться». Но без дела не сидел. Спрос на меня всё ещё, к сожалению, не убывает, да и сам егозлив, побывал вот в колонии в женской строгого режима. Говорили часа три, думал перед встречей, угнетусь, ан нет, то ли привычка уже к лагерю, то ли в самом деле бабам там живётся лучше, чем на так называемой воле. Бывал и ещё кое-где, а перед Новым годом упал, и солидарно со мной упал в Курске Женя [ Носов. – Сост.], в Москве брякнулся Саша Михайлов, оба сильно, как и я, расшиблись. И выходит, ежели вот ты не упадёшь, то и не друг ты мне вовсе. Да не надо даже ради дружбы падать, расшибленное тело и костяк болят невыносимо, кроме того, ты идёшь в искусстве по линии критики, значит, вёрток должен быть и эластичен.
Что из новостей? Печатаются и скоро выйдут два первых тома собрания сочинений, в Пензе в очень хорошем оформлении печатается книга «Плач по несбывшейся любви», состоящая из моих военных и околовоенных повестей и рассказов прежних, а причиной издания послужил «Обертон», который читающая масса, кажется, и не заметила. Ну, да бог с нею, с массой, она куда более важные вещи не замечает, а пошлость жрёт, как диабетики кашу, кастрюлями.
Некто Бушков – красноярский писатель и ныне богач – издал в прошлом году в столицах 11 книг, из которых я смог прочесть лишь два абзаца. Но у нас уже был поставлявший чтиво Алёша Черкасов, я ни одной его книги до конца прочитать не мог, но тот был тюрьмой ушиблен и уж не в себе пребывал, а этот сморчок держится орлом и презирает всю остальную публику, не желающую следовать по его славному пути.
Я ж, одержимый зудом чернильным, нет-нет и чего-нибудь напишу, на что-нибудь откликнусь. Вот поставили у нас оперу Верди «Бал-маскарад», а я её в Красноярске слушал в 1942 году в исполнении сбежавших и объединившихся в Сибири киевско-днепропетровско-одесских театров и, растрогавшись, очень хотел повспоминать. И повспоминал, и старые женщины мне звонили и говорили, что они читали и плакали. А тут и просьба томичей подошла, и тут уж я писал и сам плакал, как плачу всякий раз, глядя единственную на телевидении русскую передачу сибиряка Гены Заволокина «Играй, гармонь». Проплакавшись, я решил тряхнуть публику ещё раз и написал статейку к стихам Джеймса Клиффорда, ибо невыносимо много печатается в газетах и везде стихов занудных, вшивых, с претензией на нарядность или бодряческих виршей какого-нибудь отпетого соцреалиста. Выйдет газета – пришлю, а пока посылаю статью о языке, которая, я тоже знаю, как папиросный дым, послоится над головами русских людей, пощекочет их в носу и горле, да и кончится на этом её влияние, а ведь тоже писал – рука немела.
Кроме статьи, посылаю очень славную фотографию, которую собирался послать ещё осенью, но заложил в бумаги на столе и забыл. Ежели у тебя такая уже есть, отправь её тогда Леонарду [Постникову. – Сост. ], а у меня всяческих фото много, и эта тебе нужнее для воспоминаний.
Вспоминая лето и встречу летнюю хороших людей, и задним числом почитая уже и историческую, а больше человеческую значимость её, хвалю себя за настойчивость и выдумку. Повторить всё это уже, по-моему, невозможно. В Дивногорске власть переменилась, и с прокоммунистическими деятелями я не только какие-либо дела делать не хочу, но и срать на огороде на одном не сяду. Вроде бы Миша Кураев нечто подобное затевает провести в Петербурге в конце мая. Бог даст – увидимся, тем более что 26 мая вручение Пушкинской премии, которую немцы тоже присудили мне, и ты небось об этом знаешь. Я могу из Москвы рвануть в Питер, буде буду здоров и не смоет нас тута половодьем. У нас выпало столько снегу, сколько не выпадало его с 1937 года, и ежели будет ранняя и дружная весна, а именно такую и обещают, то уплывём мы все в Ледовитый океан, а оттудова до Питера тоже – рукой подать.
Ну, вот графоман так графоман! Собирался черкнуть пару фраз и нате, разошёлся, но ты вроде бы разбираешь мои каракули, вот тебе и работа.
Главное, не хандри и не кисни, мы уж вон вовсе стариками становимся, М. С. болеет постоянно, и хронических у неё накопилась куча, ан ломает себя, работает, и я, глядя на неё, не сдаюсь. Пойдёшь в церковь, помолись за чусовлян и за нашу чусовскую дочерь, которую из-за снегов по грудь мы ныне зимой и навестить не можем. Но уж февраль к концу идёт, березняк забусел, горы днём синеют за рекою. Вытаем! Вытаем!
По Овсянке очень скучаю. Осенью вдогон конференции провели ещё юбилей – 390 лет селу, заложили часовню, и с тех пор я там и не бывал, и девчонки не едут и даже не звонят. Может, Марья их отшила. Марья сурова нравом сделалась, особливо к женскому роду, и тут уж ей не укажешь. Годы своё берут!
Ну, обнимаю, целую, поклон парням, жене. Обними и поцелуй маму – скажи: чусовляне велели. Преданно твой Виктор Петрович
25 февраля 1997
(И.А.Дедкову)
Ответ Игорю Дедкову (увы, уже вослед). Голова, где, нам кажется, сосредоточено всё лучшее, что имеет человек, и прямая кишка, где скапливаются и через которую выделяются отходы человечьи, болят у человека одинаково больно. Нет, не одинаково – голова болит как-то «вообще», она как бы изображает недомогание, и потому интеллигентную головную боль можно утешить порошком, мокрым полотенцем, льдом, снадобьями, а вот боль в прямой кишке груба, открыта, всегда остра, дика, невыносима, от неё защемляет сердце, от неё и голову не слышно – от неё только кричать, кусать губы, извиваться на постели, искать место, молить Господа о милости.
Вот я и кричу от грубой боли, не подбирая слов, не могу, неспособен их подбирать и терплю головную боль с 1943 года, со времени контузии, живу с нею, ношу её, работаю с нею или свыкнувшись с нею – только чтоб не добавилось ни капли сверх того, что есть, вот если добавляется (чаше всего внешними обстоятельствами и безжалостными людьми), тогда уж невыносимо.
Впрочем, и о второй, задней, грубой, боли Создатель позаботился, её я тоже имею и давно, причём произошла она у меня не от сидячего писательского труда, а от надсады. Опять же от надсады грубой: плыл на плоту по уральской горной реке Усьве домой, в город Чусовой, где тогда жил. Книжку первую мою ребята из Перми привезли, а я в леспромхозе в командировке от газеты был – и заторопился подержать мою драгоценность в руках, сколотил плот из сырых брёвен и заскочил с плотом в полуобсохший перехват на выходе из протоки. Плот не бросил – показалось, перехват короткий, а пришлось шестом поднимать и волочить его почти полкилометра.
Назавтра живот судорогами свело, рванул в туалет – полный унитаз нутряной чёрной крови. Вот с тех пор, с первой книги, мучаюсь: головой – от войны, жопой – от (всё-таки) литературы.
А вы судите за натурализм и грубые слова, классиков в пример ставите. Вы-то хоть их читали, а то ведь многие и не читали, а в нос суют. Не толкал посуху плот, грубой работы, черствой горькой пайки не знал Лев Толстой, сытый барин, он баловался, развлекал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, не голодал, от полуграмотных комиссаров поучений не слышал, в яме нашей червивой не рылся, в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не служил... Иначе б тоже матерился. Пусть не духом, но костью, телом мы покрепче его, да вот воем и лаем. А он, крутой человек, балованный жизнью, славой, сладким хлебом, и вовсе не выдержал бы нашей натуральной действительности и, не глядя на могучую натуру, глубинную культуру и интеллектуальное окружение, такое б выдал, что бумага бы треснула, а уж зеркало русской революции утюгом бы всенепременно разбил, можете в этом не сомневаться.
Спите спокойно, брат по единой земле и жизни. Там уж никто, ни Лев Толстой, ни даже Гоголь, которому и в гробу смирно не лежится, не потревожат вашего покоя, и жизнь наша окаянная не осквернит ваш тонкий слух, вашу ранимую душу не оцарапает, природой и родителями настроенную на другой лад, на песни иные и на жизнь иную, чем та, которую мы доживаем и избываем.
Виктор Астафьев
10 мая 1997 г.
(А.В.Астафьевой)
Дорогая Ася!
Это очень хорошо, что ты догадалась мне написать – банальная причина моего молчания: затерялись твои письма, и адреса у меня не было. В Вологде же нет таких людей, чтобы я мог у них доверчиво спросить адрес Зины Чернышёвой. У меня очень много оснований не доверять вологодским ребятам. Написала прошлой зимой твоя мать письмо, полное литературных реминисценций, глубоких рассуждений о Боге, долге и детях, но ни своего адреса, ни Зининого не сообщила. В моей уже долгой практике эпистолярного сношения с людьми такие вот факты не единичны, напишут люди, требуя справедливости и ответов, а вместо ФИО поставят закорючку, думая, что их вместе с этой закорючкой знает весь мир.
Ася! Я не знаю, как и когда мама твоя объяснила тебе причину твоего явления на свет, но одно время она коллекционировала знаменитостей местного круга, и в этот круг по слабости мужицкой, пагубе плотской попал и я. А передо мной был Василий Макарович. Ни любви, ни даже банального ухажёрского периода или топтания возле мамы не было...
Чтобы не ранить тебя ещё больше, всё остальное опускаю. Но жизнь есть жизнь, и явление человека на свет случайным не бывает, значит пришла пора ему быть на земле и он всё равно в той или иной комбинации скрещения судеб явился бы свету.
К сожалению, после смерти Ирины я не могу бывать в Вологде, не могу видеть её, встречать людей, с которыми я и она общались. Всех, кроме Зины Чернышёвой. Вот перед кем я преклоняюсь и кого, побывав в Вологде, хотел бы видеть и с кем хотел бы говорить. Но мне в Вологде уже не бывать... неподъёмно. Нужно вот 20-го лететь в Петербург за Пушкинской премией, а я едва в деревню выбрался (она в 18 верстах от города). А перед этим побывал в тысячекоечной больнице, коя может присниться только в страшном сне. Для чёрного люда больница, и, увидев тот битый, резаный чёрный люд, я содрогнулся ещё раз – до какой же мы черты дошли-доехали! Едва живой (всю зиму проболел, дважды подолгу лежал с лёгкими в больнице), прибыв в деревню, тут же с ходу отравился, сделав из дорогих азиатских овощей салат. А они же на химии растут, у меня же в результате длительного воздействия лекарств тронуто почти всё, вплоть до поджелудочной железы, о которой я раньше и не знал, что она у меня есть.
Мария Семёновна уже затяжно и тяжело больна, давно не выходит из дома. Дела наши и дни катятся к закату. Первую (!) зиму за последние сорок лет я ничего существенного не писал, кроме комментариев к собранию сочинений и текущей мелочи, да кое-что из публицистики. Третью книгу романа я уже, очевидно, не напишу, но «затеси» и про природу попишу, хоть раз себя потешу на старости лет.
Увидеться с тобой и необходимо, и страшновато. Я привязчив, но не ко всем. Ко внукам, ко взрослым теперь, не смог привязаться (Польке 14 лет, Витьке – 21 год) – они мне чужи не только по дурному эгоизму, а просто чужи и всё, чем они больше вырастали, тем более отдалялись от меня или я от них, или то и другое. Сейчас ничего, кроме раздражения, они во мне уже не вызывают, и я не могу быть с ними вместе. Ещё и поэтому зима была тяжёлой, я только и ждал, как бы скорее уехать в деревню и побыть без них, безо всех (с М. С. тоже мне стало трудно), и теперь-то я до дна понимаю старика Толстого, от кого он рванул из дома в таком сверхпреклонном возрасте.
И вот с отравления, с мучительной ночи началось моё пребывание в деревне. Вчерашний День Победы пролежал в горести, навестил лишь вдову двоюродного брата, он умер в конце апреля (инвалид войны) и был моложе меня на 8 дней, да школьного учителя, тоже фронтовика, и нигде ни грамма, кроме сока и мин. воды ничего не пил, а к вечеру прожгло, что-то съел в гостях не то. Однако ночь эту уже спал спокойно. Натопил печь – тепло, сухо (это для меня сейчас главное) и покойно (тоже очень важно), маленько посмотрел телевизор, почитал и отплыл в сон. Я сейчас к столу прорываюсь трудно, как в окоп противника. А письмо твоё, стараясь «положить поближе», я уже трижды терял и, покрываясь потом, искал (вот поэтому, не вдаваясь в рассуждения о Боге, судьбе и прочих сложных вещах, не мешает нам – старикам лишний раз напомнить о себе и адресок не забыть написать).
Та-ак, ближе к делу. Думал я, думал и ничего пока не придумал насчёт нашей встречи – здесь исключается. Я и без того весь в сплетнях, подозрениях и поношениях от коммунистов, которые не брезгуют и за мной следить, телефон прослушивать, письма изымать. В ином месте? Я на подъём тяжёл сделался и ни на каких сессиях в Москве не бываю. Буду думать о нашей встрече и авось что-то придумаю. А пока ты без комплексов и угрызений совести напиши мне полностью своё ФИО. открой счёт в надёжном банке, и я переведу сумму денег на чёрный день, который бывает не за горами, а за плечами. Только, пожалуйста, без «фи» – это та маленькая услуга, которую я способен сделать для тебя.
Теперь самое огорчительное – эти твои литературные и тем более вгиковские устремления – уж очень я мрачного мнения об этом и ему подобных заведениях. Мается у меня у друзей несколько дочерей после БГИКа, мается блистательного ума и образования друг нашего дома Валентин Курбатов без определённого места и определённого занятия, в своё время кончивший этот институт. Я участвовал в съёмках нескольких фильмов по своим произведениям, написал пару-тройку сценариев и везде твердил и твержу, что с этим искусством никаких дел иметь не хочу, а если имел, то помимо основного своего занятия – писания прозы, то есть мимоходом, не тратя много сил и времени. Тем более сейчас, когда кино наше неизвестно где, когда не востребованы блистательные умы, таланты и подвижники кино.
Не скрою, более всего меня радовало, что ни дети мои, ни внуки не вышли «в кино» и «на литературу». Ах, как тут всё непросто и не очень красиво, и не очень прельстительно, как кажется со стороны. Ладно, если Бог наделил человека могучим даром и он, по-могучему мучаясь, всё же в муках этих находит счастье в самом труде и не может жить иначе и быть кем-то другим. Он Богом прикован к этой тайне, которую вынужден до последнего вздоха катить в гору, только в гору, только истратя все силы, часто уродуя судьбу свою и жизнь близких людей (ты одна из жертв этих, неужели не понимаешь?!). Я, конечно же, готов посмотреть твои писания. Смотрю же я их, со всех сторон приходящие, отчего и твои не посмотреть, но если Бог судил нам встретиться и я не увижу в тебе и бумагах твоих будущего, уверенного предначертания к творческой судьбе, употреблю все усилия, чтобы уберечь тебя от этой пагубы. Разве литературно-киношная судьба твоей мамы тебе не пример? Разве прозябание, за исключением двух-трёх вологодских и прочих писателей тебе не урок? А громкий крик моего друга и земляка, великого артиста современности Михаила Ульянова, когда его спросили, не пойдёт ли внучка по его стопам: «Да Боже сохрани и помилуй!» Сотни, тысячи запутанных судеб, растерзанных и растленных так называемым искусством, да и литературой жизней, это не пример?..
Когда меня спрашивали раньше, кем бы я хотел видеть дочь и сына, я отвечал – портнихой, поварихой, учителем, наконец, а сына – слесарем или токарем, все полагали, что я шучу. Определённость и устойчивость должны быть у человека, земля должна быть пол ногами и умение твёрдое зарабатывать свой хлеб.
Вот пишу и чувствую – бесполезные слова пишу, зараза эта пуще русской дури, выводится она не назиданиями, а ремнём и трудом...
Давно я не писал так много. Устал. Прости. И будь здорова. Раз уж так рано начала жить самостоятельно, думай, прежде чем сделать какой-либо шаг. А на что ты думаешь жить во ВГИКе? С голоду ведь пропадёшь, здоровье угробишь...
Ну, храни тебя Бог. Целую.
Твой Виктор Петрович
Июнь 1997 г.
(А.В.Астафьевой)
Дорогая Ася!
Привыкай к моим каракулям (я ведь печатать не умею), вообще-то женщины как-то разбирают мои письма, и мужчины некоторые тоже.
Зима была у меня тяжёлая – я её почти всю проболел. Начал с осени и пошло-поехало. Особенно тяжело болел на исходе зимы, какой-то грипп, поражающий иммунную систему, вальнул меня так, что в момент кризиса, в самый глухой ночной час явилась ко мне Ирина и стоит, опершись на косяк моего кабинета, где я и сплю, и смотрит печально-печально. Я спрашиваю: «Ты что, Рина, соскучилась по мне?» – «Соскучилась, папа, соскучилась...» – и исчезла в каком-то неземном, рыже-седом тумане.
Весна у нас ранняя была (и вообще я молодей, что покинул глухой угол вологодчины, давно бы уж там загнулся со своими трухлявыми лёгкими), с середины марта пошло тепло, и какое! Я рано переселился в деревню, топил печи – сухо в деревянном доме, тепло, уютно, и поехал, точнее полетел в Питер-Москву, в Питер на конференцию, в Москву – за премией. Улетал, у нас плюс 25-29, прилетел в Питер – плюс 2, не лучше было и в Москве, но как-то Бог меня там уберёг. Прилетел – тяжело болеет Марья Семёновна, и сейчас болеет, по избе ходит с трудом, опираясь на стены, а больше лежит – это при её-то деятельной натуре. А я вот в деревне ошиваюсь, ибо в городе не могу – дом блочный, в нём давно уже не топят, и то нет горячей воды, а то и холодной.
В деревне я когда и выскочу на веранду иль на улку в рубахе, и когда испортилась погода, похолодало, быстренько приобрёл обострение – сам же и лечусь, а обострение раз от разу тяжелее и тяжелее. Лечился и работал (у меня ведь большое, аж в 15 томов собрание сочинений выходит), и вот самый толстый и самый трудный том подошёл, 10-й, да и 11-й тоже, роман и последние повести. Писал комментарии и накатал аж 35 страниц к 10-му тому, еле выволок эту работу. Вчера приезжал издатель и всё разом уже сделанное, напечатанное, оформленное увёз. Опять Бог помог, милости его ко мне бесконечны. В нашу знаменитую библиотеку взяли научную работницу, которая специально занимается моим фондом. Этакая мышка-норушка, бойкая, умненькая, видит, что я нос опустил, интересуется, что такое? Я говорю, не просто такое, но и этакое – вот пришла пора правку и комментарий к роману печатать, а моя секретарша не только печатать, но и есть не может, а она заявляет: «Давайте я напечатаю». Я говорю, писал-то хворый, и сам уж свои каракули не разбираю. Она говорит: «Я разберу». Я говорю: «Ну, где не разберёшь, а не разберёшь многое, зови меня, я продиктую». Ничего диктовать почти не пришлось. Всей библиотекой они трудились и всё сделали мне, как надо. Я отнес подарочек моей помощнице, она в отпуск собралась, сказал, что за это отдам им в отдел рукописи и черновики, и машинописный текст, и вот чудо – пришла начальница библиотеки и принесла твоё письмо. Такой хороший день завершился тем, что вечером приехал мой приятель – писатель из Енисейска, он делает книгу о лесе, и я позволил с ним одну рюмку водки (больше-то не могу, прею шибко).
Хотел, как и ты, с ходу ответить на твоё замечательное письмо (натуры-то одинаковые, шибко горячие, и не знаю, как у тебя, но ещё и восторженно-дурные) и хорошо, что не написал. Я придумал, как нам быть. Если ты и соберёшься в этот загадочный ВГИК, то ведь не раньше сентября, и в июне должен приехать Андрей из Вологды. Я с ним отправлю тебе пакет с книгою и в книгу вложу деньги, и ты сможешь приехать сюда. Ныне ко мне народу – валом и что там какая-то, пусть и крупная деваха-корреспондентка иль, как моя покойная тетка говорила – жульнаристка, девчонки из библиотеки устроят с жильём, у той же Нади, что научная сотрудница, можешь переночевать, она одинока и почти все наши библиотекарши, как им и положено, одиночки или матери-одиночки. Девки очень порядочные, славные, а возглавляет их Аня. мать-героиня, как я её зову – трое у неё детей, двое уж при мне родились. Она из старообрядческой семьи и отчество ей будет – Епиксимовна.
Вот как я решил. Так что копи мужества и отпуск хороший, где-то в июле, глядишь, и состоится наша встреча, хотя я её боюсь не меньше, чем ты. Бог даст, всё устроится к лучшему. Я уж сто раз смотрел на твои взрослые фотки и не ощутил тебя чужой, что-то родное брезжит. Я и не встречи боюсь, а разлуки, уж очень я привязчив есть к хорошим людям. За что и страдал много, да и страдаю.
С Андреем, коли встретишься, можешь вести себя по обстоятельствам, парень он умный, но так жизнью помят, что на себя замкнут и по характеру вроде бы суров, однако в душе-то раним, на доброе слово отзывчив, и у него опять сложности начались, потерял он. кажется, и вторую работу. Буду уговаривать его переехать в Сибирь, мать его бесконечно любит, и устал он без нас и от вологодчины тоже, к которой так и прирос сердечно.
Ну-с, а теперь о творчестве твоём – всё прочел внимательнейшим образом и не знаю, как там киносценарии у тебя будут писаться, а тем более романы. Я так боялся романа, что затянул сроки его создания и вот не знаю, закончу ли. Те же вещи, которые я называл романами или критики за меня называли – «Царь-Рыба», «Печальный детектив» – всё же на дальних подступах к этой наисложнейшей, громоздкой форме прозы. Но жульнаристом, пока что калибра «Красного Севера» иль другой какой областной газеты, ты вполне можешь уже прокормиться. Слава Богу, нет в твоих творениях бойкости пера, самоуверенности, развязности, столь свойственной современной провинциальной журналистике. У нас она просто валом валит – это от бесталанности, малой квалификации и неуважения к писателю и профессии. Бог ласт, явишься, посидишь в библиотеке и убедишься в том, как не надо писать. А романы дело дальнее и оч-че-нь надсадное и трудное, попиши-ка рассказы, очерки, осмысли мир и себя в нём, а тогда уж дерзай, с Богом.
У меня в моём лесу (он в огороде) на кедре, которому 20 лет. появились первые шишки – это на 10 или 15 лет раньше сроку, а всё оттого, что я его, кедр-то, люблю и лелею. Впрочем, любил я и люблю не одни только кедры, но и кое-что и женского рода, и от того грехи мои имеют продолжение, да ещё и с последствиями, об чём ты непременно узнаешь. Сей творец натворил кое-что за жизнь свою уже длинную. Мне ведь уже 73 годика, пора бы и угомониться, но. как говорит учение «Дао», угомонишься и незачем станет жить.
А эти мои слова для твоей любимой тёти Зины.
Зина! Голубчик ты сизокрылый! Спасибо тебе за письмо, спасибо за детей – перед Богом тебе воздастся, да и любовь только одной Аси и преданность её столь многого стоят. Кланяюсь тебе за твою доброту и целую руки твои. Ты, наверное, всё такая же красивая, статная, с пышными белыми волосами?! Не старься, пой, будь такой, какая ты есть. Я себя старого и больного терпеть не могу, а все вокруг говорят, что я но сравнению с моими одногодками-фронтовиками ещё ничего. Но меня работа держит на ногах и в строю, она и исцеляет, одержимостью и живу. Боюсь взять палочку в руку и пшикалку для дыхания, и то. и другое мне выдали медики, но я всё это спрятал подальше.
О смерти Вити Коротаева услышал я в Петербурге, и подробности дошли до меня – самый деятельный среди этого едва шевелящегося литературного стада – они его и доели. Я ведь получаю от доброхотов из Вологды газетные вырезки, письма, книги и т. д.
Ну, уж разрешите Вас обеих расцеловать. Ася-то вон, сразу видно, в УВД работает, закончила письмо, как протокол, ну что ж. постараюсь заслужить её внимание и ласку, виноват кругом.
Преданно В. Астафьев
4 августа 1997 г.
Москва, Кремль,
Ельцину Б. Н.. Черномырдину В. С, Немцову Б. Е.
Копия – в Совет Федерации
Копия – в Государственную думу
Копия – губернатору Красноярского края Зубову В. И.
Из русского села решительно протестую против обложения налогами земельных участков крестьян, пенсионеров, рабочих, служащих. Богатые от земли не питаются. Ссорясь с массами бедного народа, совершая ошибку за ошибкой, вы создаёте напряжение в стране, тем самым тащите к власти коммуно-фашистов. Понимаете ли вы, что терпение россиян иссякает, вы и вся Россия могут пожать бурю народного гнева?