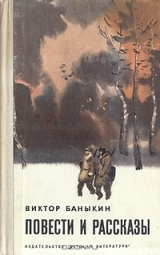
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Виктор Баныкин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
В штурвальную рубку – светлую кабину с огромными окнами – Геннадий входил всегда с легким замиранием сердца.
Рубка была командным пунктом: отсюда управляли не только судном, но и плотом.
И как тут не волноваться, когда переступаешь порог рубки!
Побывать в этой небольшой кабине мечтают мальчишки всех поволжских городов и сел. Геннадий же бывал здесь каждый день, а в субботу на прошлой неделе он просидел в рубке полдня, копируя на кальку по заданию капитана один из листов лоцманской карты.
В рубке не было ничего лишнего, здесь все было строго и просто: штурвальное колесо с паровой машинкой, столик с пухлой книгой – лоцманской картой Волги, бинокль на полочке под рукой штурмана, флажки-отмашки и у задней стены – скамейка.
Сегодня капитан сразу после обеда вызвал практикантов в рубку и поручил им зарисовать участок Волги в пятнадцать километров со всеми береговыми и плавучими обстановочными знаками.
Геннадий любил рисовать и с большой охотой взялся за дело. Закончив работу раньше Юрия, он теперь отдыхал, стоя у раскрытого окна рубки, и глядел на Волгу. Волга напоминала ему широкую степь, в которой затерялась родная Ковылевка. Еще совсем недавно, читая книги о дальних краях, Геннадий досадовал на то, что он родился в маленькой, ничем не приметной степной деревушке с таким простым названием. А сейчас, вспоминая просторные сельские улицы, Геннадий вдруг с грустью вздохнул. Прошло уже десять месяцев и двадцать три дня со времени его отъезда из дому. И захотелось хотя бы на миг взглянуть на родные места, повидаться с матерью, отцом.
Хорошо бы пробежать босиком по заросшей травкой улице из конца в конец! Трава, наверное, такая густая и мягкая, что когда по ней проносится запряженный в тарантас еще не старый меринок, едва касаясь своими быстрыми ногами земли, то почти не слышно стука колес. Хорошо бы ранним утром выбежать за околицу, когда пастух гонит в степь деревенское стадо, окутанное прохладной пылью. А где, кроме степи, можно увидеть, как просыпается июньское солнце? Вначале оно озаряет брызжущими лучами высокое побледневшее небо, еще не налившееся глубокой синевой, а потом, чуть поднявшись над пламенеющим горизонтом, щедро заливает своим теплым ласковым светом степь, только что казавшуюся тусклой и однообразной и вдруг сразу преображенную, ставшую такой цветистой, будто яркий девичий сарафан. А ночные сполохи в конце июля, точно далекие таинственные пожары? Как они тревожаще красивы! На них можно смотреть, не уставая, до рассвета!
– Ты что, Жучков, загрустил? – спросил стоявший у штурвала рулевой Агафонов. – Или не по душе у нас?
– Я… я ничего, – смутился захваченный врасплох Геннадий. Помолчав, он добавил: – Гляжу на Волгу… Какая она широкая! А вот Амур, говорят, еще шире. На Амуре и с курса, пожалуй, в два счета собьешься.
Капитан, что-то писавший в своем блокноте, поднял голову, улыбнулся.
– С курса сбиться всегда можно. Дело это нехитрое, – сказал он. – Если плохо знаешь фарватер, не мудрено сесть на мель или врезаться в берег не только на большой реке, но и на самой маленькой. – Снова заглянув в блокнот, Глушков захлопнул его, спрятал в карман. – А случается и так: нет вокруг тебя ни искусственных, ни естественных примет… Случается и такое. Вот попробуй-ка тогда не сбиться с курса!
Юрий все еще сидел за столиком. В глазах у него рябило от извилистых линий, черточек, кружочков и просто точек. Он недоверчиво взглянул на капитана и спросил:
– А разве так бывает?
– И с нами это может произойти в любой момент. Опустится туман, и крышка – никакой видимости. Все вокруг белым-бело. Не только бакенов – берега не увидишь… Ну-ка скажите, как тут быть? Как проверить правильность выбранного курса?
Глушков закурил папиросу, положил руки на спинку скамьи. Взгляд его остановился на Геннадии. Но Геннадий поспешно отвел глаза в сторону.
– Вижу, редко на корме бываете, – лукаво щуря глаза, сказал капитан. – А на корму не бесполезно почаще заглядывать…
– Сергей Васильич, вспомнил! – встрепенулся Геннадий. – По следу парохода можно определить правильность выбранного курса. И еще по придонной волне.
– Верно! – кивнул Глушков. – Только ненаблюдательный человек целый день просидит на корме и ничего не заметит. А пытливому, дотошному человеку след парохода многое расскажет. – Он встал, посмотрел в заднее окно. За кормой парохода тянулся ровный лентообразный пенящийся след. – Появись сейчас извилистая малоустойчивая борозда, – продолжал он, – ну, такая, какую неумелый тракторист на пахоте оставляет, бывалый волгарь не похвалил бы нас. «Эге, молодчики, – сказал бы он, – сбились с курса. Что же вы виляете, то и дело отклоняетесь от стрежня? Этак недолго и на мель сесть».
Глушков весело глянул на практикантов.
– Так что, ребята, почаще бывайте на корме. Запоминайте обстановку фарватера, берега. Рулевой должен назубок знать Волгу.
– Неужели, Сергей Васильич, это можно когда-нибудь постичь? – спросил Геннадий.
– Про бывалых волгарей, слышал, как говорят? «Этот, говорят, с закрытыми глазами в любую погоду проведет судно». Вот оно как!
– Да ведь то про бывалых, Сергей Васильич!
– А бывалые, Жучков, тоже когда-то новичками были…
Вдруг внимание капитана привлекла высокая разлапистая сосна, от старости казавшаяся совсем черной. Это могучее дерево в два-три обхвата одиноко и гордо стояло на правом обрывистом берегу. Сколько лет знал капитан эту сосну! Он привык к ней, как к близкому человеку, и всякий раз, завидев ее, кивал головой: «Еще стоишь, старина?»
И дерево чуть покачивало вершиной, как бы тоже кивая в ответ. Оно было такое высокое, что даже в тихую погоду всегда глуховато шумело, точно разговаривало с кем-то.
Однажды «Сокол» с плотом проходил здесь ненастной осенней ночью. Ветром сорвало бакен, предупреждающий о длинной гряде подводных камней, протянувшихся вдоль русла, напротив сосны. Судно могло налететь на острые камни и пробить себе дно, но капитан вовремя заметил силуэт дерева, еле проступавший на фоне мглистого неба, и неминуемая авария была предотвращена.
А сколько их по всей Волге, разных немых приятелей, выручавших Глушкова из беды! Были тут и одинокие деревья, и прибрежные лесочки, и горные кряжи, и старые церкви…
Капитан опять опустился на скамью, потер ладонью подбородок.
– Помню, рулевым когда был, как вот Агафонов, – медленно произнес он, глядя себе на руки, – и приключись со мной такой случай. Оставил раз меня капитан в рубке одного… обедать пошел. Вдруг смотрю, туманец стал опускаться. В осеннюю пору дело было. Бакены сразу пропали, ни одного не видно. А впереди три воложки. Ну и растерялся я. В какую воложку заводить плот? Где коренное русло с фарватером? Хватаюсь за рычаг и давай гудеть: гу-гу-гу-гу!.. Не прошло минуты, капитан летит с ломтем хлеба в руке. «Чего, кричит, шальной, у тебя тут стряслось?» – «Волгу, говорю потерял». Потом столько смеху было!.. Миша, возьми левее, – обращаясь к рулевому, добавил Глушков, – а то вон у того яра майданит. Как бы не затянуло «голову» плота в круговорот… Так и держи теперь.
– Сергей Васильич, расскажите еще, как вы капитаном стали, – попросил Геннадий.
– Долгая это история. – Глушков махнул рукой. – Да и Панину мешать будем.
– Нет, вы мне не мешаете, – поспешно отозвался Юрий. – Я уж все почти кончил!
– Правда, Сергей Васильич, расскажите, – попросил и Агафонов.
Закурив новую папиросу, капитан глубоко затянулся, подумал.
– Разве что про деда да про отца, как они в люди выходили… Об этом, пожалуй, стоит послушать, – проговорил он наконец. И опять помолчал. – Сказывают, родился дед мой в Меровке. Деревня эта была когда-то пристанищем бурлаков. Она и названием своим бурлакам обязана. Стояла она на правом берегу Волги, на полпути между Нижним Новгородом и Астраханью. Когда бурлаки доходили до этой деревеньки, кто-нибудь из ватаги говорил: «Вот, братцы, и мера. Отмахали полпути!» – «Шабаш! – кричал старшой. – Передых!» Тут ватага подтаскивала к берегу купеческую расшиву и располагалась на отдых… Так вот и прозвали деревню Меровкой. – Капитан вздохнул. – Сам-то я деда Тимофея плохо помню – мальцом еще был, когда он концы отдал, но рассказы отца о нем и посейчас помню. Всю долгую жизнь свою дед в грузчиках ходил. Вся Волга знала силача Тимофея. Пятипудовые мешки с зерном таскал на загорбке словно играючи. Подкову шутя ломал, будто крендель. Да только проку-то от его силы никакого не было: семья у деда большая была, жили впроголодь. Отец мой самым старшим рос. Когда ему годков пятнадцать минуло, пришлось и ему тоже на Волгу податься, надо было семье помогать. А пристроиться на работу в стародавние времена мудреным делом считалось. После немалых хлопот, да еще за магарыч, удалось отцу кое-как поступить матросом на пароходишко золотовского купчика. Назывался тот пароход «Велизарием» – именем греческого полководца. Невеселая началась жизнь у отца. Но он терпеливо сносил и побои и обсчеты… Уж больно любил он Волгу, души в ней не чаял. И вот зародилась у несмелого, малограмотного парня дерзкая мечта – стать лоцманом, узнать все секреты лоцманского мастерства. «Кто настоящий знаток и повелитель Волги? – спрашивал себя отец и отвечал: – Лоцман! Кому подвластны все ее тайны? Лоцману! Кто без риска в любое ненастье проведет судно по опасному ходу, там, где никто другой этого не сделает? Опять же лоцман!..» Нелегко тогда было выбраться в люди сыну грузчика. Бывалые лоцманы как огня боялись конкурентов и, само собой, в секрете держали свои знания. Над новичком посмеивались да издевались. И приходилось надеяться лишь на самого себя. Завел отец несколько «памяток» – записных книжек, как мы теперь говорим. В одну памятку записывал названия деревень, сел, городов, в другую – вычерчивал, как умел, схему Волги, изображая все извилины, острова, знаки береговой обстановки… Ни много ни мало, а целых пятнадцать лет ушло у отца на то, чтобы стать волгарем-судоводителем. И все же достиг своего! За восемь лет до Октябрьской революции – тогда мне как раз два года исполнилось – отец сделался лоцманом… Вот так-то жилось раньше волгарям!
Глушков встал, прошелся от двери к двери.
– Ну, а теперь давайте-ка посмотрим ваши схемы, – сказал он немного погодя практикантам. – Что у вас там получилось?
Юрий слегка наклонялся вперед, не торопясь заносил назад весла и, неглубоко погружая их в воду, тотчас рывком притягивал к себе вальки. От сильного, упругого толчка лодка летела вперед, и под днищем у нее булькала вода.
Каждым своим движением Юрий старался подражать Агафонову, лучшему гребцу судна.
Лодка все ближе и ближе подплывала к плоту. От намокших бревен пахло смолой, сырыми опилками и скипидаром. Если закрыть глаза, то начинало мерещиться, будто находишься не на Волге, а где-то в глухом сосновом бору.
Как хорошо в июньский полдень на Волге! Жарко, но жара эта не гнетет, не утомляет. Она приятна после зимней стужи, после острых, прохватывающих апрельских ветров, после неустойчивого мая, когда за день бывает столько перемен: и выглянет солнышко, и поморосит дождь, и наступит похолодание.
В застывшем воздухе кружились чайки и, свесив вниз головы, высматривали добычу. Низко над головой, вблизи лодки, пролетела стрекоза, блестя длинными крылышками. Она схватила на лету только ей одной видимую букашку и взвилась вверх.
А по воде плыли белые невесомые пушинки. Уж не снег ли? Нет, это с тополей полетел пух. И забелел весь берег вокруг великанов деревьев, точно его и на самом деле запорошили снежные хлопья небывалой летней вьюги.
В народе июнь не напрасно называется месяцем света. В июне стоят самые длинные дни. В июне заря с зарей встречается.
Особенно длинными кажутся дни в июне на Волге. Здесь так много света, что в полдень почти немыслимо смотреть на тихую реку, сливающуюся на горизонте с высоким, безоблачным небом: глаза то и дело наполняются слезами.
Как раз в это время и случается иногда увидеть на Волге такую картину, которая возможна, пожалуй, лишь во сне.
Вот плотовод миновал излучину и, обогнув крутой холмистый берег, вышел на широкий плес. И перед глазами вдруг открылась недосягаемая даль, когда сразу трудно определить, где кончается вода и начинается безбрежная небесная высь. И показавшийся вдалеке встречный пассажирский пароход представляется повисшим в воздухе хрустальным замком.
Юрий любил ездить на плоты. Особенно приятно бывать здесь в солнечные дни. Хочешь – купайся сколько влезет. Залезай на стоящие вдоль края плота бабки и прыгай с них головой вниз в теплую, ласковую воду. Или лежи на пахучих сосновых бревнах и загорай, ворочаясь с боку на бок, ощущая во всем теле сладостную истому. Иногда к груди или ноге пристанет кусочек молодой золотисто-прозрачной коры, звенящей, точно фольга. Она тонка, как папиросная бумага, и, если ее прижать к губам и дуть изо всей силы, можно сыграть боевой марш. А можно еще посидеть на краю плота просто так, ничего не делая. Сидеть, погрузив босые ноги в быстрые волжские струи, смотреть на проплывающие мимо берега, забыв обо всем на свете, – разве это не наслаждение?
Еще до поступления в ремесленное училище Юрий почти каждое лето ездил в гости к дяде Пете на плотовод «Суворов». На этом буксирном пароходе дядя Петя, школьный товарищ отца, работал капитаном. Ежегодно накануне открытия навигации он присылал Юрию такое письмо: «Вот тебе мой строгий приказ: как кончатся в школе занятия, тотчас отправляйся к месту твоей летней службы. Передай Наталье Васильевне мой нижайший поклон и заверения в том, что ее сынище прибудет домой в конце августа в целости и сохранности. Твой дядя Петя».
На руках у Натальи Васильевны Паниной, кроме своих ребят – Юрия и Елены, – было еще три племянницы. Паниным жилось трудновато, и Наталья Васильевна охотно отпускала Юрия гостить на все лето к дяде Пете.
– Только смотри, Юрок… смотри за борт не свались, – говорила мать, снаряжая сына в дорогу.
– А ты, мам, не бойся, – отвечал Юрий, потупясь. – Я ведь уж большой!
Мать ласково проводила ладонью по голове сына с непокорным вихорком на самой макушке и улыбалась:
– Золотой ты мой! Волгарь ты мой!
– А я, мам, и вправду волгарем буду. И тоже, как дядя Петя, плоты буду гонять.
«А Петру Иванычу написать надо, – подумал Юрий, работая вёслами. – И матери тоже надо… Беспокоится все, должно быть, как бы чего со мной не случилось. Она уж такая… всегда беспокоится».
И вспоминалась мать, худенькая маленькая женщина с гладко расчесанными на прямой пробор волосами, наполовину седыми, но еще такая молодая и красивая. Вспомнился и родной дом на горе, из окна которого открывался вид и на весь Звениговск, утопающий в зелени, и на Волгу, и на пойменные луга на той стороне, и на душе почему-то стало немного грустно, чего-то было жаль.
«Потерпи еще годик, дорогая, – мысленно обратился Юрий к матери. – Кончу будущей весной училище и на плотовод попрошусь… Я уж теперь твердо решил идти на плотовод. На нем и Волгу лучше узнаешь, и заработки здесь больше, чем на пассажирских судах… Через годик тебе куда как легче будет жить!»
Плот был совсем рядом, когда Юрий сказал себе: «Шабаш!» – и перестал грести. Лодка ткнулась в розоватую, с ободранной корой сосну, и Юрий прыгнул на челено, замотал лодочную цепь за бабку – короткий, толстый стояк. Еще раз проверив, надежно ли привязана лодка, он зашагал по скользким бревнам в конец плота.
Юрий прошел половину плота, а избы, стоявшие в его конце, будто даже и не приблизились. На Волге плоты сплавляют «хвостами» вперед. А «голова» плота, на которой сосредоточивается все управление этим колеблющимся «островом», всегда оказывается кормой.
Навстречу Юрию бежала тонкая рослая девочка лет четырнадцати в красном с белой оборкой платье.
Одной рукой она прижимала к груди перекинутую через плечо косу, а другой махала Юрию и что-то кричала.
«Ну и отчаянная эта Женька! Несется, как по асфальту, и под ноги не смотрит!» – подумал Юрий и остановился.
– Ты зачем приехал? – спросила Женя, легко и проворно, словно мальчишка, перепрыгивая через водяную прогалину между разошедшимися бревнами.
От быстрого бега круглое лицо ее разрумянилось, над чуть запотевшим лбом встали дыбом несколько светлых волосков, а большие повлажневшие серые глаза так сияли, что в них невозможно было долго смотреть.
– Зачем, спрашиваю, приехал? – повторила она.
– Агафонов прислал. – Юрий посмотрел себе под ноги. – Для вашего боевого листка статью капитана привез. Зашел Агафонов в красный уголок и говорит: «Срочно отправляйся на плот».
– Срочно? – Женя сощурилась. – А чего же ты не торопишься?
– Как не тороплюсь?
– Да вот так – столбом стоишь?
Юрий хотел обидеться, но, еще раз взглянув на запыхавшуюся Женю, засмеялся и вдруг со всех ног бросился вперед:
– Догоняй!
Женя тоже засмеялась и понеслась за Юрием.
Они прибежали на корму плота в тот момент, когда над черной трубой «Сокола», казавшегося отсюда совсем крошечным, взвился и тотчас растаял клубок пара. Немного погодя донесся и звук гудка. А на капитанском мостике правого борта уже стоял человек и махал белым флажком, рисуя в воздухе колесо. Это был сигнал сплавщикам: «Поднимайте лот горной стороны!»
И вот отовсюду, от домов и от вороб – огромных деревянных колес, расположенных горизонтально поперек всей кормы побежали, весело пересмеиваясь, девушки и парни.
Впереди веселой ватаги неслась высокая девушка в шелковой косынке на плечах. У нее, как и у Жени, были светло-каштановые волосы и такие же широко открытые смелые мальчишеские глаза. Это была Вера Соболева, сестра Жени, бригадир сплавщиков.
Юрий и Женя тоже бросились к той воробе, которую уже окружили сплавщики.
Взявшись за гладкую, отполированную ладонями ручку, Юрий зашагал по кругу, налегая всем телом вперед. Сзади него шла Женя.
– А ну, подружки, а ну, ребята, веселей! – закричала Вера.
Кто-то запел песню, ее подхватила вся бригада:
Вышел на гору Алешка,
Ну-ка, где твоя силешка?
Ой, шаг шаганем,
Шагать будем, шаганем!
И ноги уже не шагали, а бежали, и цепь, соединенная с лотом, проворнее наматывалась на вал воробы.
– Юра, не отставай! – закричала, посмеиваясь, Женя. – Оттопчу пятки!
Юрий ничего не ответил, он лишь мотнул головой. «Попробуй, ноги коротки!» – говорил этот кивок. А ноги бежали как заводные, и казалось, они никогда не остановятся.
Впереди Юрия бежала девушка в цветастой кофте и черной узкой юбке. Когда пели припев: «Шагать будем, шаганем!», ее сильный, приятный голос покрывал все другие голоса.
Наконец у края плота из воды показался лот – двухтонная чугунная плита с тупыми зубьями. Цепь закрепили – «заклюнули», – и лот повис над кормой плота, блестя на солнце своей мокрой массивной тушей.
– А какие мы нынче проворные да увертливые! – раздался чей-то голос. – Вмиг выходили железо!
Черноглазая девушка Зина, подружка Веры Соболевой, бегавшая вокруг воробы впереди Юрия, провела рукой по лицу и засмеялась:
– А про помощника забыли? У нас нынче в артели одним мужиком больше!
Зина лукаво, исподтишка покосилась на Юрия.
– И верно, – зашумели девушки. – Они, пароходские, здоровые! Не то что наши слабосильные!
Юрий засмущался.
– Девки! – вступился за Юрия низкорослый рябоватый парень с длинным птичьим носом. По-приятельски подмигнув Юрию, он добавил: – Ох, и отчаянные, скажу тебе! Жизни от них никакой нет!
– Чья бы корова мычала, а нашего Петуни молчала! – сказала парню Зина и махнула рукой: – Айда, девоньки, отдыхать.
Девушки опять дружно засмеялись и пошли вслед за Зиной.
Через минуту они уже пели, усевшись на крылечке крайней избы:
Эх, разливайся шире, Волга,
Эх, бревнышки-сосеночки!
Поработаем на славу,
Милые девчоночки!
Вольготно жилось на плоту сплавщикам!
Случалось, что за целый день сплавщики раз или два походят вокруг воробы, а остальное время лежат, греясь на солнышке. Но иногда выдавался и такой денек, что и присесть бывало некогда. Хлещет дождь, ревет ветер, с парохода то и дело сигналят: «Поднять средний лот!», «Опустить крайний горный!» И уж подкашиваются ноги от усталости, в голове никаких мыслей, кроме одной: «Поднимем сейчас лот, может, передохнем чуток». Но подбегает бригадир и кричит: «Челено разбило! Ну-ка, парни, живо на лодки – ловить бревна!» Убегают парни, девушки еще ниже гнут мокрые от пота и дождя спины. Все медленнее и медленнее вертится колесо… И вдруг в самую, кажется, тяжкую минуту кто-то запоет веселую, озорную песню, ее сразу подхватит несколько голосов, и – что за чудо? – проворнее начинают бегать ноги, чаще мелькают спицы колеса, и на время совсем забываешь об усталости. А пройдет этот суматошный, непогожий денек, выспишься, отдохнешь, и опять мила тебе эта привольная жизнь на Волге!
В светлых, просторных избах, сложенных из крепких сосновых бревен в янтарных смоляных пупырышках, рядами стояли топчаны с аккуратно заправленными постелями. В избе, где поселились девушки, на столе и подоконниках красовались в стеклянных банках букетики луговых цветов.
Радист Кнопочкин установил в избах у парней и девушек детекторные приемнички с какими-то приспособлениями собственной конструкции, и теперь передачи из Москвы можно было слушать коллективно, собравшись вокруг репродукторов, сделанных из наушников.
За избами, по краям плота, были сооружены очаги: большие деревянные ящики с песком и железными навесами над ними. На этих очагах сплавщики готовили себе пищу. Юрию раза два доводилось ужинать на плоту, прямо под открытым небом, на котором перемигивались веселые звездочки. Будто и картофельная похлебка и пшенная кашица, чуть припахивающие дымком, были самыми обычными, но Юрию они показались необыкновенно вкусными.
В свободное от работы время сплавщики читали книги, играли в шашки и шахматы, а вечерами пели песни, слушали радиоконцерты.
Когда тронулись из Козьмодемьянска, рулевой Агафонов предложил сделать на плоту волейбольную площадку. Его выдумка всех захватила. Лишь Кнопочкин после некоторого раздумья с сомнением сказал:
– А вдруг побежишь за мячом и завязнешь между бревнами?
Над Кнопочкиным стали смеяться.
– Уж кому-кому, а тебе, Алешка, нечего бояться: у тебя ноги как у журавля! – сказал кочегар Илья.
– Если он провалится, так не утонет, – поддакнул кто-то. – Ему Волга по колено!
На следующий день на плоту укрепили два столба и между ними натянули сетку. Появился мяч, и началась игра. От сильных ударов мяч высоко взвивался в небо, перелетал через сетку и падал в воду. Кто-нибудь из ребят с разбегу кидался в реку и плыл за мячом. Черный, блестящий мяч еле покачивался на зыбкой волне и, словно дразня, поворачивался то одним, то другим ослепительно сверкающим боком. А когда пловец хватал мяч рукой, он выскальзывал и, легко подпрыгивая, отлетал в сторону.
– Хватай, хватай! – кричали с плота.
В воду прыгал еще кто-нибудь из нетерпеливых. Но вот мяч попадал в ловкие руки, и игра возобновлялась.
Первое состязание закончилось благополучно. Но во время следующего, происходившего наутро, один из матросов налетел на бабку и расшиб себе колено.
Капитан запретил играть в волейбол.
– С такой затеей недолго всю команду в инвалидов превратить, – строго сказал Глушков Агафонову.
Агафонов ходил хмурый, неразговорчивый. Но сильнее других приказ огорчил Веру Соболеву: она была большой любительницей волейбола.
Второй штурман Давыдов иногда посмеивался над Агафоновым, прозрачно намекая, что тот ради Веры затеял эту «глупую возню с мячом», кончившуюся для него так неприятно. Сам же Давыдов не принимал участия в волейбольных состязаниях. Но неутомимый Агафонов скоро придумал новую затею: он весь отдался устройству концерта самодеятельности…
Принимая от Юрия листок бумаги, исписанный мелкими, убористыми строчками, Вера Соболева почему-то вдруг покраснела.
– Что нового на «Соколе»? – спросила она, теребя тонкими пальцами конец косынки.
– Приборка с утра была, – одним духом выпалил Юрий. – А еще… на целых девять часов с опережением графика идем!.. – Тут он вспомнил о другом поручении Агафонова и спросил: – Миша велел узнать, как вы готовитесь…
– … к вечеру? – перебила Соболева. – Готовимся. Уже две репетиции было.
Она негромко засмеялась чему-то, что было, видимо, связано с репетициями, и покраснела еще больше.
Юрий уже собирался идти к лодке, но к нему подошла Женя и шепнула:
– Полезем на гулянку!
– Некогда, – ответил Юрий. – Мы с Генкой Доску почета оформляем. Я обещал через полчаса вернуться.
– А мы ненадолго, – настаивала Женя, поводя по щеке концом косы. – С гулянки все-все видно… Пойдем?
Помедлив, Юрий сказал:
– Мы и так чуть не поругались с ним. Генка говорит: «Я поеду на плот», а я ему: «Ты вчера был, теперь я…»
– Зачем же это вы? – весело спросила Женя, заглядывая Юрию в глаза.
Вдруг она сбросила с плеч косу и быстро и легко пошла вперед.
И Юрий, ни о чем больше не раздумывая, тоже тронулся вслед за Женей.
Гулянкой на плоту называлась маленькая вышка с навесом, пристроенная к покатой крыше избы.
«Сокол» вел два плота, и на каждом из них была своя вышка. На одной такой вышке круглосуточно стояли дежурные. Они-то и принимали сигналы с парохода.
– Когда я приехала на плот, я ничегошеньки тут не понимала, – беззаботно болтала Женя. – А теперь все знаю. Вот лоты, скажем. Когда их опускают на дно? Когда сильный ветер и перекаты[1]1
Перекат – мелкое место на перегибе фарватера – судового хода между двумя глубокими участками пути.
[Закрыть]. А для чего? Чтобы они не давали плоту отклониться от фарватера. Вот прошли сейчас опасное место и лот подняли.
– По распоряжению с парохода, – вставил Юрий.
– Да, по распоряжению с парохода, – подтвердила Женя.
Юрий замедлил шаг, негромко сказал, глядя прямо перед собой на смолистые, лоснящиеся бревна – желтые, белые, розовые, убегавшие широкой лентой вдаль:
– Знаешь, сколько надо вагонов, чтобы по железной дороге перевезти весь этот лес? Солидное дело: более пяти тысяч!
– Неужели? – вырвалось у девочки. – А я думала…
– Сам Агафонов подсчитывал.
И тотчас Юрий подумал о том, что при Жене ему всегда хотелось казаться чуть-чуть старше, солиднее… Он ускорил шаги и первым полез по крутой легкой лесенке на вышку. Ступеньки под ногами пружинили, точно они были резиновые. На самой середине он приостановился и, сощурившись, глянул влево на едва поднявшуюся над водой узенькую черточку мокрого, желтовато-коричневого песка.
Волга по-прежнему была тиха и спокойна, и лишь вокруг песчаной полоски вода чуть рябила. Пройдет день-другой, и полоска эта удлинится и расширится, а через какую-нибудь неделю тут уже вырастет целый остров.
Взявшись руками за перила, Юрий рванулся вперед и в три прыжка одолел оставшиеся ступеньки. За ним на вышку поднялась и Женя.
С этой маленькой вышки во все стороны открывался вид на Волгу.
Если правый, гористый, берег с новыми домиками под железными крышами и белым кирпичным зданием над обрывом – не то школы, не то клуба – казался отсюда далеким, то левый, луговой, представлялся совсем недосягаемым. В золотистом дымящемся мареве тонкая синеватая каемка заволжского леса была еле различима.
Вокруг простирались новые места, которые до этого Жене не приходилось никогда видеть.
– Тебе тут нравится? – спросил Юрий, внимательно посмотрев ей в глаза.
В его душе зарождалось какое-то новое чувство, пока непонятное даже ему самому, но которое, казалось, таило в себе что-то большое и радостное.
Женя кивнула головой и улыбнулась.
Внизу, перепрыгивая через бревна, быстрой походкой прошла Вера Соболева. Она помахала косынкой ребятам, стоявшим на вышке, и скрылась в дверях соседнего дома.
– А замечательная у тебя сестра! – сказал Юрий и почему-то вздохнул.
Вдруг Женя повернулась к Юрию, дотронулась до его руки.
– Ты, наверно, думаешь… по-твоему, наверно, Вера волевая и отчаянная? Да? – зашептала Женя скороговоркой. – А она… она трусиха! Что смотришь так? Не веришь? Если бы не я… я для Веры настоящая моральная поддержка. Знаешь, как это нелегко – оказывать человеку моральную поддержку? А мне вот приходится.
Переведя дух, она продолжала:
– Ее все время приходится поддерживать. Понимаешь, Верочка всего лишь вторую навигацию плавает бригадиршей. А плот – он вон какой! Две бригады отказались плыть, а Верина взялась… На людях она еще ничего, крепится, а ночь придет, уткнется в подушку – и в слезы… Такая персональная ответственность!
– Ответственность большая, – сказал Юрий и спохватился: – Что же это я все стою?.. Эх, мне теперь и попадет от Генки!
– А неужели мы тут давно? – удивилась Женя, поднимая на Юрия мягко засиявшие глаза. – Идем, я тебя провожу немного. У меня вон там… у того вон озера, сачок и кукан с рыбой.
Юрий неожиданно поймал себя на мысли, что ему совсем не хочется расставаться с Женей. Ему приятно не только разговаривать – приятно даже стоять около этой угловатой девчонки с поцарапанными ногами, обутыми в стоптанные чувяки, в которой не было решительно ничего особенного.
Пока они шли до «озера» – водяной прогалины, образовавшейся на середине плота между разошедшимися челеньями, – Юрий молчал, чувствуя себя как-то неловко и смущенно.
Подбежав к протоке, в которой так безудержно сверкало горячее солнце, Женя спросила:
– Хочешь посмотреть мой улов? Мне сегодня так повезло! С десяток поймала. Правда, все мелочь какая-то, но разве крупную сачком поймаешь? Вот если бы сеть настоящая была… А рыбы тут полно. Одна такая ухнулась… Я с испугу чуть в воду не нырнула.
– В воду? – усомнился Юрий.
– Она, может, больше меня была. Может, сом какой-нибудь!
– Сомы в омутах да ямах водятся, а не на быстряке.
– Ну, белуга или осетр, – не сдавалась Женя.
Она присела у края челена и вытащила из воды гибкий прутик, на котором болталась мелкая рыбешка.
– Вот, смотри.
– Уклейки, – сказал Юрий, тоже опускаясь на корточки.
Женя вскинула тонкие брови.
– Уклейки? – с изумлением проговорила она, показывая пальцем на уснувших рыбок. – Это же верхоплавки!
– Нет, уклейки, – упорствовал Юрий. – По всей Волге эту рыбешку уклейкой зовут.
– А почему уклейки? Что они, из клея? – Вдруг Женя наклонилась к «озеру». – Смотри, смотри, как они поверху носятся!
В пронизанной лучами солнца воде, у самой поверхности, проплыла стайка серебристых рыбок.
– Видел? У нас на Ветлуге верхоплавку все верхоплавкой называют!
– Возможно, у вас там и все по-другому называется? – пошутил Юрий, помимо воли широко и простодушно улыбаясь и на миг забывая то, что еще хотел сказать. – Возможно, у вас и дома и кино… тоже другое имеют название? Или в вашем селе нет кино?
Женя выпрямилась, тряхнула косой.
– Если хочешь знать, так в нашем селе… У нас в клубе кинозал, и два раза в неделю звуковые кинокартины показывают. Потом школа-десятилетка. Потом радиоузел…







