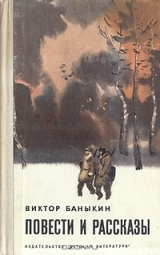
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Виктор Баныкин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Давай, я тебя до вышки донесу, – предложил Юрий. – Думаешь, не донесу?
– А зачем? Я и сама дойду. Я еще вот как умею! – Женя сорвалась с места и понеслась, перепрыгивая через бревна, громко и весело хохоча.
А Юрии стоял и смотрел ей вслед, не в силах сделать шага. И хотя с прежней силой завывал, посвистывая, ветер и между бревнами плескалась шипучая вода, ему почему-то было так хорошо, что не хотелось больше ни говорить, ни двигаться.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
На рассвете шторм стих, и утро наступило солнечное и безветренное. Присмирела и Волга. Ее мутные воды, бурые от песка, не осевшего еще на дно, текли спокойно, пронятые жарким светом. Там и сям мелькали кремовые шапки пены, словно это были какие-то невиданные водяные цветы.
Иногда «Сокол» обгонял целые деревья, вывернутые ураганом с корнем из земли.
Они медленно плыли вниз, доверчиво положив на ослепительно сверкающую гладь воды свои зеленые кудрявые головы.
На корме сидели Юрий и Геннадий. Только что была закончена внеочередная приборка судна, и ребята отдыхали, нежась на солнце.
Геннадий долго глядел на бойкую трясогузку, безбоязненно прыгавшую по стальному тросу, потом, повернувшись к Юрию, прикоснулся к его руке:
– Юрка, страшно вам было, когда на плот добирались?
– Не знаю, – чуть помедлив, с неохотой сказал Юрий и снова помолчал. – Надо было все время держать лодку так… так, чтобы она резала носом волны. А то бы ее в момент перевернуло. – И Юрий замолчал.
На продолговатом песчаном островке с редким кустарничком почти у самой воды неподвижно стояла на одной ноге-прутике большая серая птица.
Геннадий приподнялся с места, сказал:
– Цапля? Да?
– Она.
– Ну и ну, уродина! Впервые вижу живую цаплю.
– Генка, а чего ты не расскажешь о своей ночной вахте? – спросил, оживляясь, Юрий. – Говорят, ты тут один с вожжевыми управлялся.
На круглом лице Геннадия проступил яркий розовый румянец.
Он отвернулся.
Юрий окинул Геннадия внимательным взглядом и вдруг заметил на засаленных обшлагах гимнастерки товарища пятна масляной краски – зеленой и красной. Так вот кто, оказывается, выкрасил его весло! Поколебавшись, он решил не говорить Геннадию о своей догадке.
– Ну? – опять начал он как ни в чем не бывало. – Что молчишь?
– Нечего смеяться, – буркнул Геннадий, – а то полысеешь!
– Вот дуралей! – С мальчишеской неуклюжестью Юрий обнял Геннадия, как-то охотно и доверчиво приникшего к нему, и вдруг почувствовал себя намного старше приятеля. – Что же тут смешного? Я ведь тебя всерьез спрашиваю.
– Пусти, ну чего ты? – смущенно, стараясь казаться грубым, проворчал Геннадий, освобождаясь из объятий Юрия. – Ты лучше вот о чем скажи… что сказал врач Любе в Девичьем?
– Ничего особенного. «Не волнуйтесь, говорит, девушка. Месяца через полтора будете бегать». А она молчит. Она и дорогой все молчала. Только, когда мы уходить собрались, посмотрела на нас с Ильей и сказала: «Прощайте, ребята. Наверное, никогда уж больше не увидимся». – «Как так? Почему не увидимся?» Это Илья спросил. «А так, – говорит. – Я теперь не вернусь на «Сокол». Вот поправлюсь и попрошусь в пароходстве… чтобы на другое судно меня перевели».
– А… а почему?
В это время позади раздался голос:
– Греемся?
Юрий и Геннадий обернулись. У фальшборта стоял Агафонов с книгой в руках. Стоял и улыбался. И в каждой черточке загорелого лица его сквозила какая-то большая радость, которую прямо-таки невозможно было скрыть от других, даже если бы и хотелось это сделать.
– Греемся, богатыри? – опять спросил рулевой.
Его внимательный взгляд, перебегавший с Юрия на Геннадия, как бы спрашивал: «Ну как вы тут, помирились?»
– Сидим, – подтвердил Юрий. – Садись с нами, Миша.
– Можно и посидеть, – согласился Агафонов и опустился между Геннадием и Юрием на кромку борта. – Держи, Юрий.
Юрий неторопливо вытер о платок руки. Он бережно взял книгу, раскрыл ее и прочитал вслух:
– «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях, отважных, забавных и достославных, во Фландрии и иных странах».
Геннадий приподнялся, чтобы взглянуть на книгу с таким причудливым и задорным названием.
– А картинки есть? – спросил он. – А мне, Миша, потом можно почитать?
– Читай, – сказал рулевой, поминутно глядя на плот и все улыбаясь. – Скоро Куйбышевская ГЭС, ребята. С опережением плана идем. И знаете, на сколько? Более чем на сутки!
– Скоро? – обрадованно переспросил Геннадий. – Через часок?
– Ретивый какой! Вечером… часов в семь.
– Да разве это скоро? – разочарованно протянул Геннадий.
– Скоро, скоро! – закивал рулевой, не спуская чуть прищуренных глаз с отвалившей от плота большой, неуклюжей лодки. Глаза его были затенены длинными ресницами, но они никак не могли притушить струившийся из них яркий, глубокий свет. – Девушки к нам едут… И Вера, должно быть, с ними. – И, краснея, он потупился, сложив на коленях руки. – Позапрошлой весной с ней познакомился. Она тогда простой сплавщицей была. Робкая такая, пугливая. Пока вели плот до Сталинграда, раза три всего виделись. Потом… потом целых два года не встречались. Целых два года не видел ее, а вспоминал каждый день. На других девушек и смотреть не мог. Гляну на какую – а перед глазами все она, сероглазая. Написать хотел – адреса нет… Извелся весь. Не знаю, что и было бы со мной, да вот вдруг встретились! – Михаил откинул голову назад и вздохнул. – Теперь уж… теперь уж на всю жизнь! – Агафонов засмеялся, порывисто вскочил и взмахнул рукой: – Едет! Она едет! Вон за кормовиком стоит.
И, сорвавшись с места, он побежал на нос, чтобы помочь девушкам зачалить завозню.
С утра, когда Жигулевские горы не обозначились еще на горизонте даже легкими штрихами, их скорое появление уже чувствовалось во всем.
Волга стала шире, необозримее, она будто раздвинула берега, смело устремляясь вперед, то делая крутую излучину, то разливаясь на два-три рукава. И уж нелегко было отличить коренную Волгу от рукавов – воложек. Родные сестры реки спорили с ней в раздолье и красоте.
Вдоль правого берега все чаще и чаще стали вырастать меловые отроги и взгорья – дальние родственники великанов Жигулей.
А там, в Жигулях, разворачивалась сейчас невиданная работа, и Геннадию, каждую минуту бегавшему на нос судна, не терпелось поскорее все увидеть своими глазами.
– Юрий, а где же горы? – спрашивал он товарища. – Может, мы нынче до них и не доберемся?
– Доберемся! – сощурился Юрий.
После обеда они поднялись на капитанский мостик.
Геннадий долго смотрел вперед на тихую васильково-синюю реку с редкими белыми пятнышками облачков, отражавшихся в ней, на далекий лесистый берег и застывшую над ним горным хребтом дымчато-лиловую тучу.
«А Жигулей так и не видно!» – подумал он, и лишь собрался спросить Юрия, когда же они все-таки появятся, как тот сказал:
– Молчишь? Не понравились горы?
– Горы? Какие горы?
– Жигулевские, какие же еще! Вон они. Или не видишь? – И Юрий сунул в руки Геннадия бинокль.
– А я думал, туча… А это самые настоящие горы! – проговорил Геннадий, опуская бинокль, и засмеялся.
А спустя часа полтора можно было уже и без бинокля любоваться высокими косматыми горами.
Стоял конец дня, и горы курились золотистой мглой. У скалистых уступов лепились осинки и березки, насквозь просвеченные солнцем, а в глубоких оврагах, уже скрытых синими тенями, чернели дубняк и орешник. А неприступные широкогрудые курганы, взлетевшие до облаков, были окружены частоколом прямых, острых, как пики, сосен.
Выгибая щетинистые хребты, веселые зеленые великаны росли, надвигались, поднимаясь гряда над грядой.
Теперь на «Соколе» уже многие с нетерпением поглядывали вперед. Вот-вот должен был показаться железный шпунтовый забор, отгораживающий большой участок, около трехсот метров. Этот участок строители отвоевали у Волги под здание самой мощной в мире гидроэлектростанции.
На скамейке возле штурвальной рубки сидели Сергей Васильич Глушков, Геннадий и Юрий.
– Сдадим, ребята, нынче плот, и за новым отправимся, – сказал Глушков. – Тяжеловато пришлось нам в этот рейс, не обошлось без несчастного случая. Но зато, молодцы, мы всему миру доказали… доказали, что можно водить по Волге большие плоты. Можно! – При последних словах капитан хлопнул ладонью по колену. – И теперь уж стану я вас к штурвалу приучать, – помолчав, продолжал он, косясь на Юрия и Геннадия. Обветренные губы его тронула улыбка: – Верно, уж обижаетесь на капитана? На судне, мол, около трех недель, а капитан за все время ни разу не дал подержаться за штурвал. Так, что ли?
Геннадий сначала потупился, но спустя минуту вскинул веки и встретился с глазами Глушкова.
– Я, Сергей Васильич, думал… думал, что вы сразу поставите нас к штурвалу, – откровенно признался он.
– Я так и полагал, – добродушно усмехнулся Глушков, кивая головой.
Геннадию вдруг почему-то вспомнилось, как час назад тайком от Юрия он выбросил в иллюминатор разорванный на мелкие клочки свой «План ускоренного прохождения практики». Заодно с бумажными лоскутками в воду полетели и старая футбольная камера и поломанный компас, на которые Геннадий случайно наткнулся, доставая из рюкзака чистую майку.
– Сергей Васильич, а если бы… если бы к вам на судно попросились ребята из ремесленного, – заговорил опять Геннадий и покраснел. – Окончили бы училище и попросились… Вы взяли бы их на «Сокол»?
– Если они не ленивые, учились хорошо, тогда… почему же не взять? Взял бы!
Глушков раскрыл портсигар, но тотчас захлопнул крышку.
По трапу поднимался запыхавшийся Кнопочкин. Он так торопился, что даже забыл снять с головы радионаушники.
– Радиограмма, Сергей Васильич!
Пробежав глазами радиограмму, капитан достал папиросу.
– С окончанием рейса поздравляют, – сказал он и, поспешно встав, зашагал к мостику.
Вдруг из-за поворота открылся вид на широкий Жигулевский плес, и все увидели высокий ребристый забор. Отсюда казалось, будто забор этот достигал чуть ли не середины Волги.
У каменистого правого берега и около забора стояли копры, земснаряды, а воду бороздили взад и вперед бойкие катера. Над оврагом, к которому примыкала шпунтовая стена, клубилась пыль. В лучах заката густая пыль порозовела и казалась клубящимся дымом невиданного сражения.
Да оно так и было на самом деле. С парохода пока еще не виден был овраг во всю его ширину, с экскаваторами, семитонными самосвалами, сновавшими непрерывным потоком, но по тому оживлению, которое происходило вокруг, чувствовалось, какое небывалое наступление ведут здесь советские люди.
Высоко в завечеревшем небе медленно кружил орел, еле шевеля распростертыми крыльями. Орел кружил уже давно, и чудилось, он совсем не узнаёт знакомых мест: так тут все изменилось.
– А ну, народ, выходи! – закричал кто-то из матросов на нижней палубе. – Гидрострой!
И в тот же миг послышался звонкий детский голос:
– Мамуля, мамуля! Гляди, где я!
Геннадий подбежал к поручням и глянул вниз.
На плече у Агафонова сидела дочка помощника механика. Девочка махала обеими руками летевшей навстречу «Соколу» моторной лодке. Алый бант на ее голове трепыхался, точно огромная бабочка взмахивала крыльями. Вдруг до мостика донеслась песня. Она лилась свободно и непринужденно:
Летим мы по вольному свету,
Нас ветру догнать нелегко…
– А ну, Генка, подхватим, – проговорил за спиной у Геннадия Юрий, обдавая его затылок горячим дыханием, и негромко запел:
До самой далекой планеты,
Не так уж, друзья, далеко!
МАЧЕХА
Повесть
ГЛАВА ПЕРВАЯповествующая о важных событиях в жизни Феди
Жарко-нажарко. Даже ветерок, изредка лениво пробегавший по дымчато-серой от пыли дороге, дышал в лицо банным зноем. От этого зноя запеклись губы.
А укрыться от палящего солнца совсем негде. Куда ни поведешь глазом, кругом только небо да степь, степь да небо. И кажется, этому необозримому простору белесого неба, чуть засиненного в вышине, да зеленовато-бурому морю хлебов нет ни конца ни краю.
Уже больше часа валко шагал Федя по жесткой, укатанной грузовиками дороге. И странное дело: когда неделю назад они с Кузей отправились на хутор Низинка в гости к совхозному бахчеводу Митричу, Кузиному дедушке, тоже припекало щедрое степное солнышко, но Федя тогда почему-то ни капельки не притомился и пришел на хутор бодрым и резвым. А сейчас он с трудом переставлял ноги.
Но вон как будто за тем рыжим бугром забелели крыши совхозного поселка. Да только к чему торопиться? Все равно Федю никто не ждет дома. Отец целыми днями, от зари до зари, мыкается по степи. А в их двухкомнатном домике, пропахшем сосновой смолой, пусто и скучно…
Федя вздохнул и сошел с дороги на обочину. Он сбросил с плеча рюкзак на теплую пыльную траву и с минуту наблюдал, как прыгали врассыпную трескучие кузнечики. Потом Федя и сам плюхнулся тут же, рядом с рюкзаком. На рюкзаке темнело пятно.
«От спины, наверно, пар идет!» – подумал Федя, отдирая пальцами прилипшую к лопаткам мокрую рубашку.
… Когда в начале зимы отец приехал в Самарск, чтобы забрать с собой Федю и мать и навсегда увезти их на новые земли – куда-то в далекие оренбургские степи, Федины дружки от души завидовали ему, счастливцу.
В путь-дорогу Федя собирался в радостном возбуждении.
– Папка, – то и дело окликал он отца, – а коньки мне брать?
– Бери, бери, – говорил отец, – как же, пригодятся!
– А разве там, в степи, тоже есть катки, как у нас в Самарске? – допытывался Федя.
Отец смеялся и кивал большой, стриженой, словно у борца, головой.
– Будет и каток. Подожди, обживем степь, все будет!
А немного погодя Федя снова спрашивал:
– Пап, а удочки… их тоже можно брать?
– Бери и удочки, – опять смеялся отец, помогая матери закрыть чемодан.
– А там и река есть, как Волга? – не унимался Федя, и его глаза, золотисто-карие, полосатые, будто спелые крыжовники, загорались неподдельным восторгом.
Отец вытирал с бугристого лба испарину и подзывал к себе сына.
– Волги, положим, там нет, Федор, ну, а озеро… это я тебе обещаю… будет. Наш совхоз не зря ведь назвали Озерным. – Он заглядывал Феде в его большие лучистые глаза и добавлял: – Будет озеро… Мы и рыбу в нем всякую разведем. А захочешь поплавать или там на лодке покататься – пожалуйста, твое дело!
С тихой, грустной улыбкой мать поглядывала то на отца, то на сына. Быть может, она уже тогда предчувствовала, что ей недолго придется жить на новом месте…
У Феди вдруг искривились пересохшие губы. Он сорвал попавшийся под руку стебелек полыни и поспешно сунул его в рот. Федя жевал горький, как хина, стебелек, не ощущая горечи, – наверно, только потому, что у него и на душе тоже было горько.
… Через полмесяца после приезда в Озерное с матерью случился сердечный припадок. Федя сидел за столом, готовя уроки, когда она вдруг упала на пол, запрокинув назад голову. В посиневшей руке матери были зажаты Федины носки с худыми пятками – она только что собиралась их штопать.
Мать умерла на другой день под вечер. За окнами бушевала метель, и было так сумеречно, что в комнате включили электрическую лампочку. Мертвенно-бледный свет упал прямо на кровать с никелированными шарами, и Федя отшатнулся, прикрыв ладонью рот, не в силах отвести обезумевшего взгляда от бледного, без единой кровинки лица – как будто родного и как будто незнакомого.
Сумасшедший ветер сотрясал стены крохотного, беззащитного домика, словно силился повалить его набок. Но это ему никак не удавалось. Тогда ветер, досадуя на неудачу, принимался надсадно завывать в печной трубе и плеваться в окна хлопьями сырого, тяжелого снега.
Метель гуляла по степи трое суток. И все это время мать спокойно лежала на столе в переднем углу, прикрытая холодной и белой как снег простыней. Еще недавно такая добрая и заботливая, она теперь была равнодушна ко всему, что вокруг нее делалось. Ее не трогали даже Федины слезы, горячими каплями падавшие на край страшной простыни…
С тех пор Федя и возненавидел эту бесприютную, неласковую степь без конца и края. И всем сердцем затосковал о сверкающей в лучах солнца Волге, о родном шумном городе с зелеными скверами и такой чудесной гранитной набережной.
Тут-то у Феди и стало без конца срываться с языка: «А вот у нас на Волге…»
О чем бы ни шел разговор, он все сводил на свой Самарск. Часа два назад Федя даже рассорился со своим новым другом Кузей – и всё из-за Волги.
Случилось это так.
С утра они помогали Митричу пропалывать морковь. Митрич – старик сухощавый, длинный, с головы до пят прокопченный на жарком степном солнце, – любил поговорить. Не торопясь, чуть покашливая, поведал он ребятам и в это утро много разных занятных историй из своей долгой жизни. А прожил старик всю свою жизнь вот тут, в степи.
Рассказал Митрич и о том, как в осеннюю пору двадцать девятого года он чуть не погиб в степи во время налетевшего внезапно бурана, когда пас отару овец богатея Абдильды Суламбекова.
Рано наступили сумерки. Ветер гнал по степи хлопья сырого снега, и в двух шагах не было видно ни зги. Тогда-то вот Митрич и сбился с дороги. В какой стороне кошара? Куда гнать перепуганных, ослабевших овец? И если бы Митрич случайно не наткнулся на древний Батыров курган – а от него рукой подать до Сухой балки, возле которой и стояла Суламбекова кошара, – кто знает, что бы тогда с ним было…
Услышав про Батыров курган, Кузя навострил уши.
– Деда, а какой такой Батыров курган? – спросил он, блестя глазами.
– Да есть такой… С незапамятных времен стоит он в степу. А на макушке камень… Камень весь мохом порос от старости.
Ребята переглянулись. И оба подумали: «А не спрятан ли в этом кургане клад? Находят же в разных местах, и тоже в курганах, доспехи древних воинов и всякие другие вещи?»
– А в каком месте, деда, Батыров курган? – опять спросил Кузя.
Дед свернул самокрутку, задымил.
– Там, неподалечку от Сухой балки… Я в тех местах, признаться, и не помню, когда был… Может, уж камня того на Батыровом кургане давным-давно и нет. А так курганов-то всяких разве мало по степу маячит?
– А почему он Батыровым называется? – не удержался от вопроса и Федя.
– Не знаю, – развел руками Митрич. – Люди так прозвали.
Ребята снова переглянулись.
– Разыщем? – шепнул Кузя товарищу, когда старик пошел к ручью за водой.
– Ага, – кивнул Федя. – Как вернемся домой, так и в экспедицию!
– Только, чур, чтобы полная тайна. Идет? – сказал Кузя. – Чтобы ни-ни… ни единая душа, кроме нас с тобой, не знала. А то другие мальчишки прослышат и нас с тобой с носом оставят! А в этом Батыровом кургане, может, разное оружие припрятано…
– Оружие? – Федя с опаской оглянулся: не подслушивает ли их кто? – Вот здорово! А пистолеты там есть?
Кузя пожал плечами:
– Откуда мне знать? Наверно, тогда никаких пистолетов и в помине еще не было…
– Ладно, обойдемся и без пистолетов… пусть будут разные мечи, колчаны! – Федя от волнения даже задохнулся. – Смотри только сам никому не проговорись! А хочешь, дадим друг другу клятву, а? В полночь над дохлой кошкой.
– Никаких кошек! – отрезал Кузя. – Мы же пионеры. Раз дали слово – значит, всё!
Вернулся Митрич, и ребята сразу перестали шептаться.
Как-то совсем незаметно они проработали до обеда. И тут-то и разразилась ссора – будто гром среди ясного неба.
Поглаживая одеревеневшую поясницу, Федя устало протянул:
– Эх, искупаться бы!..
– Погоди малость, – сказал Кузя, вытирая рукавом футболки малиновое, в конопатинах лицо. – Вот построят в Сухой балке плотину… и посмотришь тогда, какое озеро разольется. Уж и покупаемся досыта!
Федя недоверчиво мотнул головой и сказал (эх, дернула же нелегкая!):
– Озеро!.. Это еще когда будет, а лучше, чем у нас на Волге, тут никогда не будет!
У Кузи потемнели его подсиненные, точно весеннее бездонное небушко, глаза:
– А знаешь, Федька, ты мне… до смерти надоел со своей Волгой!
Он коротко передохнул и закончил, крепко сжимая загорелые, грязные от чернозема кулаки:
– И если ты не перестанешь трепаться, то смотри…
– Что – смотри? Ну, сказывай, пока не поздно! – вскипел и Федя, забывая и про их дружбу, и про тайный сговор о поисках древнего Батырова кургана.
Сначала Митрич не без любопытства смотрел на расходившихся ребят. В глазах его запрыгали веселые огоньки (кто знает, может, деду вдруг припомнились его далекие мальчишеские годы?). Но вот он, напуская на себя строгость, сердито сказал:
– Кыш вы, кочетки! Возьму хворостину да хворостиной вдоль спины обоих огрею!
Федя не понял шутки и со всех ног бросился к шалашу. Схватив рюкзак, он кое-как затолкал в него байковое одеяльце. К нему уже бежал Кузя, на ходу предлагая мировую. Дед Митрич тоже что-то кричал, махая войлочной шляпой. Но Федя, ничего не слыша, перемахнул через плетень и, не оглядываясь, затрусил по пыльной дороге в сторону совхоза…
Теперь Федя никогда не будет больше дружить с Кузьмой. Никогда! А на поиски Батырова кургана Федя отправится один. Посмотрим еще, кого ждет удача.
Он кинул на дорогу изжеванный стебель полыни и рывком подтащил к себе рюкзак. Не осталась ли в нем, как-нибудь случайно, краюшка хлеба или, на худой конец, печеная картофелина?
Федя добросовестно ощупал рюкзак, но съестного так ничего и не обнаружил.
«Ладно уж, пойду-ка лучше домой, – вздохнул Федя, – Может, в погребе холодное молоко стоит и в чулане яички… Уж и наемся до отвала!»
И он, перекинув через плечо рюкзак, снова тронулся в путь.
Солнце стояло в зените и палило пуще прежнего. Жара проняла даже ворону. Взъерошенная, неопрятная, с растопыренными крыльями и раскрытым клювом, она неподвижно торчала на маковке телеграфного столба, чем-то напоминая старое, изъеденное молью чучело.
Но вот наконец и поселок. Своими белыми постройками он запятнал ровную, будто стол, возвышенность, с которой особенно далеко была видна степь на все четыре стороны.
Федя подходил к ремонтным мастерским, когда ему повстречался прицепщик Артем – лихой, бедовый парень лет семнадцати, с черным пушком над верхней губой.
Артем ехал на велосипеде, ехал ни шатко ни валко, еле нажимая на педали ногами. Замасленный картуз сполз Артему чуть ли не на самый нос, но прицепщик не пытался водворить его на прежнее место.
Наверно, и Артему тоже было невтерпеж от палящего зноя. Но Федя предусмотрительно сошел с дороги. С этим озорником, жившим в поселке напротив их дома, через дорогу, всегда надо держать ухо востро.
Предосторожность Феди оказалась не напрасной. Артем все-таки заметил Федю. И что вы думаете: всю сонливость с парня словно ветром сдуло! Проворным движением руки Артем лихо сбил на затылок картуз. Потом пронзительно свистнул – точь-в-точь, как Соловей-разбойник, – и, нажимая изо всей силы на педали, понесся прямо на Федю.
Погрозив Артему кулаком, Федя побежал напрямик к мастерским. Он бежал по засохшему бурьяну и острым, будто камни, кочкам. Опасность придавала силы, и Федя летел как по воздуху. Наконец оглянулся, перевел дух и торжествующе закричал:
– Ага, не догнал! Кишка тонка!
Артем и на самом деле безнадежно отстал. Велосипед вилял из стороны в сторону, а его хозяин то и дело подпрыгивал на сиденье, как футбольный мяч. И Артему ничего больше не оставалось делать, как повернуть назад, на дорогу.
«Подожди, я вот сил наберусь, покажу тебе, обидчик!» – мысленно пригрозил Федя Артему, глядя ему в согнутую спину, плотно обтянутую выгоревшей гимнастеркой. У Артема недавно вернулся из армии брат, и теперь прицепщик частенько щеголял в солдатской форме: то штаны с пузырями наденет, то гимнастерку, то фуражку с зеленым околышем.
По широкой пустынной улице поселка Федя уже не шел, а плелся, еле волоча ноги. Позади остались кирпичные здания больницы и школы, а ему все еще не повстречалась ни одна живая душа. Какая-то властная, гнетущая истома сковала тяжелым сном не только изнывающую от нестерпимого зноя степь, но и поселок Озерное.
Куры, собаки и те, казалось, вымерли от жары. На строительной площадке возле клуба тоже было сонное царство. А здесь обычно с утра и до вечера с веселой отчаянностью перестукивали топоры, зычно покрикивал прораб да слышался рассыпчатый смех никогда не унывающих девчат-каменщиц, приехавших на стройку откуда-то из-под Иванова.
«Обеденная пора, – подумал Федя, останавливаясь напротив стройки. – Пока был на хуторе… сколько они тут понаделали всего!»
Здание клуба, обещавшее стать просторным и красивым, было возведено под самый потолок. Плотники уже ставили стропила. Пройдет еще день-другой, и у клуба появится крыша.
Вдруг над клубом закружился горячий вихрь, унося к небу золоченые стружки. А слепящая глаза своей неземной белизной куча извести, сваленная прямо на землю, закурилась молочным дымком. Ну ни дать ни взять, карликовый вулкан! Федю с головы до ног запорошило известковой пылью. Чихая и потирая кулаком заслезившиеся глаза, он побрел дальше.
Когда Федя вошел к себе во двор, сенная дверь была настежь распахнута.
– Папка! – обрадованно закричал он, бросаясь к высокому крыльцу с покатыми перилами. – Ты разве уже дома, пап?
Но у крыльца Федя остановился как вкопанный. От старательно выскобленных, цвета яичного желтка ступенек еще пахло горячей водой и половой тряпкой.
«Эх, крыльцо-то у нас!.. И кто это его так надраил?» – тараща глаза, подумал Федя, все еще не решаясь ни положить пропыленный рюкзак на нижнюю ступеньку, ни ступить на нее ногой.
Озадаченного Федю окликнули:
– Здравствуй, Федя!
Он поднял голову. В дверях стояла, с полотенцем через плечо, румянощекая фельдшерица Ксения Трифоновна. Молодая женщина была в ситцевом пунцовом сарафане, вся какая-то простая, домашняя.
– Здравствуйте, – смущенно сказал Федя, привыкший видеть фельдшерицу у себя в школе в строгом белом халате, застегнутом на все пуговицы. В белом халате она появлялась и у них в доме месяц назад, когда Федя болел.
– А у меня… у меня уже не болит живот, – набравшись решимости, выпалил он одним духом и покраснел. – А папы разве нет дома?
– Он на работе, – ответила Ксения Трифоновна, и круглое некрасивое лицо ее с добрыми, кроткими глазами тоже почему-то покраснело.
В эту самую минуту оцинкованное ведро, висевшее на колу у плетня, внезапно с грохотом упало на землю и покатилось прямо Феде под ноги.
Федя оглянулся, но успел лишь заметить юркнувшую за плетень чью-то макушку с рыжевато-медными, как крысиные хвостики, косичками.
– Ай-яй-яй! – покачала головой Ксения Трифоновна. – Зачем же ты, пострел, подглядываешь? Это некрасиво!
– А это не пострел, – сказал Федя, – а просто Аська… Лягушка-конопушка. Соседская девчонка.
– А ты Федька-медведька! – донесся из-за плетня пискливый голосок.
Федя шагнул к плетню:
– Я тебя сейчас за косички оттаскаю!
– А я не боюся, а я не боюся! – запела Аська во весь голос, и над плетнем показалась ее конопатая лисья мордочка с маленькими, плутоватыми глазками. – Попробуй тронь, а мачеха тебе и всыплет, неслуху! Они, мачехи-то, все ой какие злые!
Федя скользнул испуганными глазами по мертвенно-бледному лицу Ксении Трифоновны, комкавшей в руках полотенце, и опрометью бросился вон со двора.
Ведерко, попавшееся ему под ноги, отлетело в сторону и долго еще потом заунывно дребезжало погнутой дужкой.







