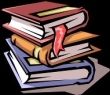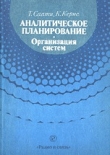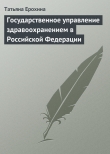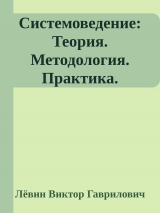
Текст книги "Системоведение: Теория. Методология. Практика."
Автор книги: Виктор Лёвин
Соавторы: Лёвин Гаврилович
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Методологическое содержание указанных вопросов сводится к поиску средств упрощения сложной исследовательской ситуации без потери существенной информации об организационном аспекте движения изучаемого объекта. Следовательно, получаемая информация должна отражать взаимозависимость элементов системы, связь различных уровней, взаимодействие системы и среды и т. д.
Традиционные методы науки плохо приспособлены к решению такой задачи. Чтобы познать явление, его обычно «вырывают» из совокупности связей. Так поступают в классической физике, механике. Методы этих наук построены на том, что число связей и переменных системы сводится до некоторого минимума, с помощью которого стремятся отразить однозначные изменения ее состояний. В других случаях переход на более простой уровень исследования достигается посредством разложения сложного явления на слабо связанные друг с другом аспекты изучения. Например, биологические организмы рассматриваются порознь в плане химических обменных реакций, физиологических отправлений, рефлекторной деятельности и т. д.
Напротив, организационный подход ориентирован на разностороннюю зависимость между элементами, аспектами и уровнями изучаемой системы. Он предполагает их кооперированное, комбинированное, групповое действие. Вместе с тем он основан на учете многих цепей взаимодействий, которые могут пересекаться друг с другом, вызывать своеобразный резонанс, корреляции и т. п.
Организационные представления не отвергают возможность разделения системы на составляющие, однако указывают на несводимость организации к каким-либо однородным и предельно простым частям. Основой упрощающего расчленения организации может служить разделение элементов на функционально различающиеся группы. В современном системном подходе, если он ориентируется на кибернетику, в качестве простых элементов организации берутся вход, выход и преобразователь входных воздействий.
Системно-организационные методы связаны с применением уровневого подхода, который предполагает рассмотрение сложной организации в качестве взаимодействующих уровней, объединяемых совокупностью «горизонтальных» и «вертикальных» связей.
Традиционные методы классической науки допускали прямой переход от свойств отдельных элементов к характеристикам их совокупности. Например, от отдельных векторов-сил, действующих на элементы механической системы, с помощью простых геометрических преобразований можно было перейти к равнодействующей как механической характеристике всей системы. Такой подход строился на предположении, что между свойствами всей системы и свойствами ее элементов существует простая функциональная связь. Напротив, системные методы, включающие организационный подход, основаны на представлении, что свойства отдельных элементов не характеризуют непосредственно свойств всей совокупности элементов.
Переход от одного уровня к другому должен учитывать структурные характеристики системы.
В современной науке широко применяются математические формы, в которых реализуется данный подход. В качестве одной из таких форм выступает, как уже говорилось выше, понятие «распределение вероятностей». В нем объединяются два уровня описания. С одной стороны, учитываются случайные вариации некоторой количественной характеристики, а с другой – выражаются группировки значений случайной величины.
Ю. В. Сачков по этому поводу указывал, что применение вероятностных методов оправдано тогда, когда реальный смысл получает идея структурных уровней организации объекта, когда возникает необходимость оперирования параметрами двух степеней общности [13]. В его трактовке вероятностные методы воплощают идею субординации понятий в рамках одной теории.
Эта точка зрения интересна тем, что указывает на специфический тип кодирования информации о системе. В нем сочетаются целостное описание и элементный анализ явлений. Его интерпретация предполагает как действие необходимости, так и случайности. Здесь учитывается взаимозависимость элементов и их автономия и т. д.
На мой взгляд, реализация организационного подхода обеспечивается отказом от абстрактного понятия «делимость» системы в пользу более конкретного понятия «дифференцированность». Таковая включает представление о качественном своеобразии элементов системы, о специфике их места в общей связи, о различии их «веса» и «вклада» в детерминацию целого. Одновременно учитывается, что дифференциация может быть реализована только на основе интегративных процессов.
Часто различают органические системы и организованные системы. И в том, и в другом случае подчеркивается сложная природа системного целого. Однако усложнение здесь осуществляется различным способом. Для той сложности, которая характеризуется как органическая система, существенно, что интеграция подсистем представляет собой генетически, причинно-обусловленный процесс разрешения противоречий между дифференциацией и организацией. По-другому обстоит дело, когда речь идет об организованной системе. Здесь усложнение объясняется интегративным процессом, основу которого составляет разрешение противоречий внешнего порядка по отношению к естественному генезису элементов и структуры системы. В таких системах основной детерминантой являются формальные связи, т. е. связи, ответственные за сохранение формы, в которой представлено некоторое единство элементов.
Системные методы, представленные современными теоретико-системными разработками, ориентированы в основном на изучение организации второго типа. Ее природа обусловливает широкое применение формально-математических и логических средств познания, понятий и моделей, которые допускают квантификацию и последующие математические преобразования. Здесь вырабатываются специфические приемы упрощения, обеспечивающие учет структурно-функционального аспекта организации. В соответствии с этим фиксируются два главных показателя: устойчивое функционирование системы и набор функционально необходимых элементов. И в том, и в другом случае, методологической базой исследования организации является принцип детерминизма, отражение на его основе законов структуры и функционирования системы.
Выше говорилось, что системный подход предполагает разработку методов упрощения без потери существенной информации об организационном аспекте изучаемого объекта. Решение этой задачи обеспечивается применением схем описания и объяснения, построенных на принципе детерминизма.
Один из путей такого описания мы уже рассматривали. Он связан с применением моделей, которые организуют знания об объекте с помощью понятий одной степени общности, допускают непосредственный обмен информацией между двумя и более уровнями отражения. Другой путь связан с использованием средств многофакторного описания. С их помощью осуществляется учет разнообразных взаимодействий изучаемого объекта как целого со своим окружением. Модели такого описания характеризуют зависимость результатов изменения системы от побочных действий, случайных факторов. Они имеют принципиально открытый характер, их применение позволяет существенно усложнять условия изучения динамики систем.
Специфика этих моделей заключается в том, что они предполагают выделение особого типа определенности и устойчивости системы, относимого к более богатому уровню сложности, нежели тот, с которым имела дело классическая наука. Для овладения этим уровнем недостаточно простых законов однозначного детерминизма, лежащих в основе дифференциальных уравнений движения классической механики, электродинамики и т. д. Для отражения новой ситуации научное мышление использует такие формы, которые существенным образом включают представления о неопределенности и случайности. Вместе с тем многофакторные модели реализуют требование определенности поведения системы. А это служит обобщенным выражением ее функциональной упорядоченности, устойчивости и организованности. В качестве руководящей идеи для их построения служит понятие вероятности.
Методологическая трактовка понятия «организация» в современных теориях систем основана также на отражении единства сложности и упорядоченности, рассматриваемых в качестве существенных характеристик системного бытия объектов.
Следует отметить, что современное определение упорядоченности исходит из представления о «структурной негэнтропии», противостоящей случайному распределению элементов. Она обнаруживается как процесс, соответствующий различным стадиям существования организованной системы.
Обращение к понятию «упорядоченность» послужило основанием для введения количественных оценок меры организованности систем. С этим связано плодотворное направление математизации системного знания.
Наиболее широко для такой цели применяются аппарат и методы теории информации, базирующейся на концепции разнообразия. По Шеннону, количественная мера упорядоченности системы определяется по отклонению ее энтропии от энтропии термодинамического равновесия системы молекул, которая берется за эталон «максимально неупорядоченного состояния» [14].
В этом случае повышение организованности системы рассматривается как процесс накопления негэнтропии. Существенным условием его реализации является перенос вещества и энергии по различным каналам связи данной системы с другими системами. Так, биологические объекты организуются, включаясь в эндо– и экзотермические реакции, которые обеспечивают для них приток и вывод энергии. Применение информационной точки зрения к исследованию упорядоченности выводит процесс познания на уровень абстракций весьма высокого порядка.
Важность и плодотворность применения теоретико-информационных критериев организации доказана развитием целого ряда отраслей современной науки. Однако их роль не следует преувеличивать, поскольку реальная организация характеризуется единством качественной и количественной сторон; для ее оценки требуются не только формальные, но и содержательные показатели. Для системных исследований имеет, например, существенное значение качественное различие между двумя способами упорядоченности объектов: горизонтальным и вертикальным. В первом случае упорядоченность обеспечивается координацией действий, во втором – субординацией, использованием механизма надстраивания, разделения функций в иерархическом ряду.
Анализ многостороннего содержания понятия организации убеждает в том, что оно характеризует такие аспекты связи, взаимодействия, детерминации объектов, которые оставались вне поля зрения классической науки. Речь идет об изучении факторов эффективности, выбора и надстраивания и др. Их общее значение сводится к характеристике различных сторон детерминации активности.
Уточняя методологическую функцию понятия «организация», важно оценить попытки его применения в области планирующей и прогностической деятельности, охватывающей способы решения социально-экономических проблем, а также проблемы взаимодействия общества и природы.
Исследование сложных организаций такого класса связано с разработкой группы методов, которые объединяются принципами системной динамики, глобального моделирования, программно-целевого планирования и др. По существу, такие принципы закладывают основы нового раздела системоведения. Здесь совершается поворот научного познания и практики к сверхсложным организациям, справедливо связывал с ним становление специфической стадии развития науки вообще и научно– технического прогресса в целом [15].
Указанное направление исследований включает попытки комплексного описания демографических процессов, мирового производства и сокращения природных ресурсов. В их основе лежат методы оценки возможных вариантов развития глобальной системы, а также оценки пределов допустимого потребления.
В современной литературе отмечается несовершенство методов системной динамики и глобального моделирования. Во многих случаях результаты расчетов по этим моделям нельзя считать обоснованными. Однако они дают возможность проследить экстраполяции некоторых современных тенденций развития глобальной системы и могут быть использованы для кратковременных решений.
Одна из трудных задач в этой области исследований – разработка моделей саморегуляции биосферы, учитывающих возрастающую активность антропогенного фактора. Такие модели призваны раскрыть механизм организации гомеостатического типа, который обеспечивает взаимную адаптацию эволюции человечества и биосферы, контролирует их оптимальное совместное развитие.
Сегодня такой механизм изучен недостаточно. Не уточнен перечень и допустимые значения переменных, от которых в первую очередь зависит существование биосферы и адаптационная фаза ее эволюции. Слабо исследованы каналы обратной связи, формирование которых должно содействовать гомеостатической устойчивости глобальной системы.
Трудности, связанные с применением новых методов, во многом проистекают из-за недостаточной разработанности соответствующей методологической базы, из нечеткости представлений о характере детерминации в сверхсложных глобальных системах. Средства описания таких систем не могут опираться только на принцип взаимодействия. Они должны также учитывать принцип развития, поскольку предметом описания является эволюция биосферы. Здесь необходимо также учитывать специфические аспекты развития, проявляющиеся в смене ритмов изменения, возникновении и новых точек роста, созревании критических состояний и т. д. Исходя из этого, предпринимаются попытки построения сценариев развития. Такой прием преодолевает односторонность классической методологии, которая проблему коррекции развития решает на основе изучения однозначных тенденций, например, на тенденциях скорости изменения некоторого параметра системы. Напротив, метод сценариев учитывает нелинейность развития, прохождение системой ключевых точек, открывающих новые пути и формы развития [16].
В этом пункте современная наука сталкивается с вопросом, касающимся соединения организационной точки зрения и принципа развития. Примером тому являются попытки ввести в сферу специального научного исследования эволюционные критерии бытия систем, и на данной основе применять принципы долгосрочного управления системами.
Методологический анализ данного вопроса убеждает в недостаточности той позиции, которая характеризует организацию и степень организации посредством механизмов внутренней регуляции системы, обеспечивающих ее качественную устойчивость. Более точными являются выводы о том, что организация отражает изменение и развитие системы во времени. Уточняя эту характеристику, важно соотносить организацию и самоорганизацию с процессами преобразования системы, которые обеспечивают возникновение нового структурного уровня.
Итак, материал современной науки выдвигает новые методологические задачи, связанные с дальнейшим расширением представлений о законах организации, о способах детерминации, обусловливающих смену форм организации, повышение ее эффективности и т. д. Новые подходы используются в решении проблемы прогнозирования и управления глобальными ситуациями, в разработке социально-экономической стратегии они предполагают изучение процессов формообразования в условиях взаимного влияния многих развивающихся систем.
Традиционная постановка вопроса ограничивается исследованием закономерностей развития отдельной системы. Оценка ее новых состояний основывается на изучении внутренних преобразований ее структуры. Учитываются и внешние влияния, но обычно лишь в качестве фактора случайности. По-другому решается этот вопрос в современной сфере глобальных исследований. Здесь первостепенное внимание уделяется анализу взаимосвязи данной системы с другими системами, с ее окружением. Причем особое значение придается рассмотрению возможного развития окружающей среды, на которую оказывает воздействие изучаемая система. Примером может служить также современная постановка задач в области социально-экономического прогнозирования. Основные критерии такого прогнозирования учитывают реальные возможности изменения общественных целей в определенный временной период. Поэтому прогнозирование строится на соотнесении темпов экономического и социального развития. И с этих позиций рассматривается спектр путей экономического развития, значимость и вес таких путей для социального прогресса.
2.5. Телеономность и системность
Одно из плодотворных направлений разработки системного подхода связано с изучением целесообразных форм поведения сложных объектов. Методологический базис развития этой ветви системного подхода образуют представления о целесообразной (телеономной) детерминации явлений. Вопрос о соотношении системной и телеономной детерминации имеет важное значение для разработки методологии системных исследований, и этим определяется повышенный интерес к его обсуждению.
Существует традиционное определение целесообразности, которое увязывает это понятие с деятельностью человека, с постановкой и реализацией целей разумного человечества. В данном случае целесообразность рассматривается в качестве особой формы связи объектов, представленных в соотношении с субъектом. Некоторая связь, структура объектов характеризуется как целесообразная, если она соответствует решению данной задачи, отвечает заранее поставленной цели субъекта. В такой ситуации понятие целесообразности имеет оценочный характер.
Наряду с этим целесообразность может выступать в форме целеустремленности, особой организации деятельности по достижению цели. В рамках организации осуществляется циклическое взаимодействие цели, средств по ее достижению и результатов деятельности.
Оба указанных аспекта категории «целесообразность» имеют важное значение для современной науки и практики и активно разрабатываются в теории деятельности. Вместе с тем они не исчерпывают универсальный смысл этой категории, не выражают в полном объеме ее диалектическую сущность. Диалектическая трактовка понятия «целесообразность» предполагает, что это понятие не только характеризует форму человеческой субъективности, но и способно служить важным методологическим средством реализации принципа объективности [17].
Здесь важно подчеркнуть, что выделение целесообразности как особого объективного отношения требует определенной методологической осторожности. Такая осторожность связана с преодолением крайностей идеалистической телеологии и механистического, метафизического объяснения функционального поведения сложных систем.
Известно, что классическая телеология ставит организацию, форму над содержанием. Она рассматривает форму как некий нематериальный принцип, влияние которого устойчивым и необходимым образом сказывается на процессах взаимодействия между вещами. Истоком телеологической концепции является учение о предсуществующих идеях Платона, понятие энтелехии Аристотеля. Принципы телеологии использовал Гегель. Для Гегеля характерна абсолютизация целесообразности мира.
Он объявил форму некой тотальностью, которая носит в самой себе принцип материи, является свободной и бесконечной.
Природу этой формы он характеризовал как абсолютное понятие. Немецкий философ ведет речь о том, что способностью умозаключать, опираясь на понятия, обладает та скрытая от непосредственного взора человека объективная реальность, которую он именует абсолютной идеей. В природе он обнаруживает слабые, детские задатки к такого рода деятельности. Понятие, умозаключение как принцип движения мира воплощается у него в универсальном законе, в котором необходимость становится средством для целесообразности.
Материалистическая философия и естествознание отрицают абсолютную целесообразность мира, однако они сохраняют возможности целесообразного подхода ж объективному миру, к изменениям и развитию материальных систем.
Понятие целесообразности разрабатывается в теории материалистической диалектики на основе последовательного проведения принципа детерминизма. При этом надо иметь в виду, что диалектическая концепция детерминизма не сводится к признанию действия в природе и обществе слепых, случайных, стихийных сил, факторов и явлений. Она учитывает существование в природе устойчивых цепей действий, упорядоченных причинных рядов. Например, упорядоченность физиологических механизмов живых организмов, в которой проявляется единство структурного и функционального аспектов существования живого, дает особую форму детерминации, воплощающуюся в новых типах законов, характеризующих организованную сложность.
Существенно, что телеономные способы описания и объяснения объективных явлений и процессов предполагают исходным пунктом для определения целесообразного поведения систем указание на способность последних сохранять свою устойчивость.
В качестве условия, обеспечивающего такую устойчивость, выделяется согласованность частей системы, взаимодействие между элементами, которое служит укреплению данной системы как целого. Руководствуясь этим, М. И. Сетров подчеркивал, например, что не являются целесообразными взаимодействия, ведущие к распаду системы [18]. В то же время он считал возможным применение понятия «целесообразность» не только к живым организациям, но и к процессам круговорота в неживой природе, к устойчивым формам неживых объектов, сохраняющих эту форму благодаря высокой упорядоченности элементов (кристалл и др.).
На мой взгляд, опора на категории «устойчивость», «сохранение», «целостность» является необходимой предпосылкой определения целесообразности. Но содержание этих категорий само по себе не дает оснований для выявления специфических характеристик целесообразности как объективного свойства систем. Например, под признак устойчивости, взаимного согласования элементов можно подвести как их целенаправленное единство, так и соответствие друг другу на основе избирательного взаимодействия, что не одно и то же.
Не всякие устойчивые процессы и изменения, даже когда они закрепляются на определенное время, следует характеризовать как целесообразные. Попытки определить целесообразность как свойство, тождественное любой упорядоченности и устойчивости, приводят к схематизации и натяжкам, малооправданным существом дела. Они не являются эффективными в отношении областей знания, которые традиционно ставят и обсуждают проблему целесообразности. Вместе с тем они ведут зачастую к удвоению терминов-понятий там, где достаточно использовать для описания систем обычные понятия причинного мышления.
Вопрос о специфическом различии между содержанием понятия «целесообразность» и родственными с ним понятиями «организация», «целостность», «единство», «устойчивость» нередко связывают с выявлением узкого значения целесообразности, которая рассматривается в этом случае как существенное свойство биологических и кибернетических систем, определяемое через широкий набор конкретных признаков. Так, в современной биологии целесообразность признается в особом строении организмов, в соответствии органов и их функций. Хорошо известна целесообразность онтогенетического развития организмов, согласованность процессов морфогенеза и регенерации.
В физиологии целесообразность рассматривается в связи со способностью функциональной системы к упорядочению, которая определяется результатом ее деятельности. Только он может через обратную связь (афферентацию) воздействовать на систему, перебирая все степени свободы и оставляя только те, которые содействуют получению данного результата. Опираясь на это понимание функциональной системы, П. К. Анохин подчеркивал, что целое есть нечто, запрограммированное в конкретных афферентных параметрах будущего результата [19].
Здесь целесообразность характеризуется как особая сторона опережающего отражения действительности – активное поддержание цели в форме закодированного в ведущих параметрах системы результата.
Сложные формы целесообразности раскрывает эволюционная биология, которая изучает устойчивые приспособления живых организмов к среде, возникающие в результате естественного отбора.
На уровне генетики и молекулярной биологии целесообразность рассматривается как отношение индивидуального развития организмов к их генетической программе, которая трактуется в качестве материальной цели, кодирующей некоторое конечное состояние организма.
В более общем плане целесообразность пытаются характеризовать как один из основных атрибутов жизни (Э. Бауэр и др.). Здесь обосновывается суждение , что понятия «целесообразность», «целенаправленность», «цель» имеют не только отношение к самой биологической структуре, но являются адекватной феноменологической характеристикой органической жизни вообще, а также выражают основной способ связи между главными субстанциональными (структурными) особенностями жизни и ее основными атрибутами.
Если рассматривать условия непрерывности жизни, охватываемые биосферой Земли как целостной системой, то выявляется циклическая природа жизни. Она поддерживается последовательной реализацией таких свойств, как размножение, адаптация и эволюция, благодаря которым и сохраняется постоянство жизни на Земле. Каждый из атрибутов жизни правомерно рассматривать как функцию по поддержанию универсального круговорота жизни. Здесь есть объективная целесообразность, телеономность.
Итак, отношения целесообразности включаются в биологическую детерминацию, и потому биология учитывает их при разработке основных подходов к познанию жизни.
В дополнение к сказанному отмечу, что современная биология использует категориальный аппарат, который дает рациональное истолкование сложным явлениям адаптации, отбора устойчивых состояний живых систем, предетерминация их активного поведения, основанного на опережающем отражении внешних условий. Применительно к таким явлениям вводится термин «органическая целесообразность». Он характеризует комплекс процессов жизнедеятельности, фиксирует диалектическое единство устойчивости и изменчивости, отражает механизм, поддерживающий целостность материальной системы в данных условиях. Соответствующий механизм полностью укладывается в рамки тех связей, которые описываются понятиями диалектико-материалистической концепции детерминизма. Однако сеть этих понятий существенно обогащается в сравнении с той, которая используется для механического, физического или химического описания процессов и явлений. Органический детерминизм учитывает активное преломление внешних воздействий внутренними факторами, цикличность обратных причинных связей, приспособительную направленность (предетерминированность результатов действия). По поводу последней говорят как об условной и относительной целесообразности.
Разработка принципа телеономной организации систем получила новый импульс в свете достижений кибернетики. Метод изучения целесообразных отношений, развиваемый в кибернетике, весьма общий. Он строится на предположении, что существуют внутренние причины направленного поведения функциональных систем, которые определяют достижение некоторого конкретного результата.
Важной стороной телеономной детерминации сложных функциональных систем является наличие программы и кода целей, конечных результатов их функционирования. Они включают также механизмы сопоставления достигнутого состояния с программируемым и средства корректировки функционирования системы в направлении, определяемом исходной программой.
Функционирование телеономных кибернетических систем свидетельствует о том, что целесообразные отношения формируются на причинной материальной основе. Они складываются не в любых случаях регуляции явлений, не тождественны простой упорядоченности и законосообразности процессов.
С кибернетической точки зрения целеосуществление возникает в рамках системы, которая разделена на управляющую и управляемую подсистемы. Причем их взаимодействие может быть целесообразным, если управляющая система обладает достаточным разнообразием для переработки информации об управляемой системе. В сложных случаях возникает также необходимость в решении задач самопрограммирования, самонастройки управляющих систем. Здесь требуется учитывать существование механизмов перестройки алгоритмов и программ, которые определяют основные особенности поведения управляемой системы.
Научный аппарат кибернетики обеспечивает разработку формальных математических моделей описания телеономного поведения сложных систем. Этим достигается переход современной науки к количественным методам изучения целесообразности, благодаря чему расширяются практические приложения принципа телеономности. Он становится достоянием инженерно– технической и социально-инженерной деятельности.
Кибернетика содействует укреплению детерминистских оснований телеономного способа мышления, обогащая категориальный аппарат, расширяя предметную и методологическую сферу исследования проблемы целесообразности. Она отражает существование класса систем, обладающих активностью особого рода, для которых характерны процессы самоорганизации и самосохранения, а также процессы выбора собственного поведения в результате переработки разнообразной информации.
Обобщая результаты исследования проблемы целесообразности в биологии и кибернетике, следует отметить соотнесенность целесообразности со способностью функциональных систем обеспечивать решение стоящих перед ними задач. Одна из существенных задач связана с сохранением устойчивости по отношению к отклонениям и возмущениям, порождаемым внутренней и внешней средой ее существования. С этой точки зрения целесообразность организации совпадает с реализацией приспособительного, адаптивного поведения системы.
Адаптация предполагает установление определенного равновесия данной системы со своими условиями. Вместе с тем она включает реакции на те или иные влияния, а также воспроизводство в известных пределах основных качественных характеристик системы.
В рамках адаптационного процесса способность к целесообразному поведению выступает особой стороной отражения. Следует подчеркнуть, что неправомерно говорить о целесообразности всей отражающей материи, но для раскрытия адаптивных форм существования материальных объектов категория «целесообразность» имеет важное значение.
Адаптация на любом уровне предполагает самоактивность, наличие внутренней регуляции системы. Даже неживые системы, сохраняющие ту или иную внешнюю функцию и обеспечивающие тем самым свое единство со средой, активно поддерживают неравновесное состояние относительно внешнего окружения за счет сложных сетей преобразования внутренней энергии, согласования внутренних реакций различных частей и т. д. Эта их способность сознательно используется при строительстве различных сооружений, при разработке конструкций машин, приборов и т. д..