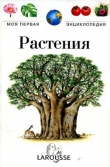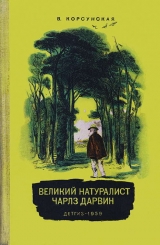
Текст книги "Великий натуралист Чарлз Дарвин"
Автор книги: Вера Корсунская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Как же Дарвин не только не заметил, что он подрывает мальтузианскую теорию в самом ее корне, но еще и приписал ей серьезное значение в формировании своих взглядов?
Ему казалось, что именно после прочтения этой случайно взятой, как он сам говорил «для развлечения», книжки, пришла в голову мысль, «что при таких условиях благоприятные изменения должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные – уничтожаться. Результатом этого и должно быть образование новых видов. Теперь, наконец, я обладал теорией, при помощи которой можно было работать».
На самом деле Дарвин обманулся лишь внешним сходством между его возникающей уже довольно отчетливо теорией естественного отбора и мальтузианством. В записной книжке от 1837 года имеется запись, выражающая мысль о том, что выживает и сохраняется все наиболее приспособленное, и «…гибель видов является следствием… неприспособленности к обстоятельствам». Сын его Френсис пишет по этому поводу так: «Удивительно, что для того, чтобы дать ему [Чарлзу Дарвину] ключ к решению задачи, понадобился Мальтус, между тем как в записной книжке 1837 г. имеется – хотя и неясно выраженное – …предвидение важности выживания наиболее приспособленного… Я вряд ли могу сомневаться в том, – заключает Френсис Дарвин, – что при его знакомстве с взаимозависимостью организмов и с тиранией условий, его опыт и без помощи Мальтуса выкристаллизовался бы в „теорию“, с которой можно работать».
Гуманный по натуре, враг насилия и угнетения, Дарвин отвлекается от людей, о которых говорит Мальтус, и думает только о том, что «…полезные изменения должны сохраняться, а бесполезные уничтожаться».
«Долгие поиски в книгах по земледелию и садоводству, – пишет он в 1845 году к одному из своих друзей, – и беседы со сведущими людьми привели меня к убеждению (я отлично понимаю, как до смешного самонадеянно это звучит), что я понял, каким путем новые разновидности превосходно приспосабливаются к внешним условиям жизни и к окружающим существам».
В борьбе за существование гибнут все организмы, не имеющие преимущества перед другими. Выживают и дают потомство лишь те животные и растения, которые обладают хоть какими-нибудь полезными признаками, отсутствующими у других. Выживают организмы, наиболее приспособленные к условиям жизни.
Дарвин назвал этот процесс, по аналогии с искусственным отбором, отбором естественным.
Чтобы подчеркнуть сходство искусственного отбора, производимого человеком, с процессом, происходящим в природе, он напоминает, что человек сознательно производит отбор совсем недавно.
Ему предшествовал бессознательный, стихийный отбор. Что делают, например, огнеземельцы, которых видел Дарвин во время путешествия, со своими собаками в голодные годы? Они всегда истребляют худших собак. В результате порода собак улучшается, но этой цели огнеземелец перед собой не ставил. Если бы не случилось голода, он не стал бы убивать худших собак, а сохранил бы их всех.
Естественный отбор строже искусственного. Самый опытный хозяин может не заметить какой-либо мелкий признак – полезный или вредный; в природе при ежечасном соревновании живых существ контроль и критика безошибочны, неумолимы; всё, что на пользу организму, всегда скажется в борьбе за существование. Дарвин пишет:
«Выражаясь метафорически, можно сказать, что естественный отбор ежедневно, ежечасно расследует по всему свету мельчайшие изменения, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно, невидимо, где бы и когда бы только ни представился к тому случай, над усовершенствованием каждого органического существа по отношению к условиям его жизни, – органическим и неорганическим».
Как же действует естественный отбор на организмы?
Из самой сущности его должно вытекать, что посредством отбора сохраняются только такие изменения, которые всё лучше и лучше приспосабливают организм к жизненным условиям.
Жизненные же условия складываются из отношений с другими существами и отношений с неорганической природой.
Поэтому малейшее изменение, которое делает растение или животное более приспособленным к климату, почве или дает ему защиту против врага, будет подхвачено естественным отбором.
Разве не замечательно, что самое обширное по числу видов и распространенное на земле семейство сложноцветных растений рассеивает свои семена на огромных пространствах при помощи всевозможных хохолков, парашютиков и прочих тонких летательных аппаратов! В этом заключаются явные преимущества в размножении сложноцветных по сравнению с другими семействами, распространяющими семена на ограниченном расстоянии.
Разительные примеры приспособления животных к условиям жизни видел Дарвин во время путешествия. Он вспоминает соляные озера в Патагонии, где в рассоле между кристаллами сернокислого натрия и извести он видел множество червей. По берегам бродили фламинго, поедая этих червей, пищу которых составляли микроорганизмы.
Тогда он видел там особый, замкнутый в себе мирок, приспособленный к соляным озерам. Теперь он понимал, что этот замкнутый в себе мирок сложился и жил своей особой жизнью в результате естественного отбора.
Дарвин открыл, как создавались в природе все эти тонкие приспособления любого живого существа к его условиям жизни. Зеленая гусеница капустницы, незаметная на зеленом листе; гусеница дубового шелкопряда, окрашенная под цвет сучка; муха, похожая на осу, хотя и не имеющая жала; уругвайский ножеклюв, бороздящий водную гладь своей нижней челюстью в поисках рыбы, – все это формы, которые создал естественный отбор.
Иногда в потомстве закрепляются отбором такие признаки и свойства, которые не приносят пользы организму. Есть какая-то внутренняя, скрытая, думал Дарвин, связь между изменениями разных частей организма: при изменении одной части изменяется и другая.
Любопытный факт был обнаружен в одном из штатов США во Флориде.
Все разводимые там породы свиней черные. Оказывается, что в лесах растет одно растение, которое пагубно действует на кости и копыта всех свиней иной окраски. Понятно, что флоридские заводчики предпочитают черные породы свиней.
Черный цвет не спасает свиней сам по себе, отдельно взятый… Но он стоит в связи с другими особенностями организации этих животных и в силу этого сохраняется.
Не раз замечали сельские хозяева, что удлиненные конечности у ряда животных сопровождаются удлинением черепа, у птиц – клюва. Указывали, что бесшерстные собаки обычно имели не вполне развитые зубы, что белые кошки с голубыми глазами всегда глухие. Мы можем видеть в садах, что сорта львиного зева со светлоокрашенными цветками обычно дают светло-зеленые стебли и листья. Сорта с пурпуровыми цветками имеют стебли и листья темно-зеленые с красным оттенком.
Во всех подобных случаях человек, отбирая растения или животных по какому-либо интересному для него признаку (цвет и длина шерсти, окраска лепестков), невольно закреплял и другой, связанный с ним признак.
В природных условиях естественным отбором вместе с полезным свойством может быть закреплено и бесполезное.
Каждая особенность организма, если она имеет существенное для него значение, может быть доведена отбором до любой степени совершенства.
Один раз в жизни кончиком клюва птенец пробивает яичную скорлупу. И к этому моменту клюв его бывает достаточно длинным и твердым. Только один раз насекомое вскрывает свой кокон; отбором созданы большие челюсти, при помощи которых насекомое справляется со своей задачей.
Но есть нечто, перед чем бессилен естественный отбор, – это произвести изменения, приводящие к гибели вида. Такие изменения появиться могут, но особи, ими обладающие, неизбежно погибнут.
«Чего не может естественный отбор – это изменить строение какого-нибудь вида, – говорит Дарвин, – без всякой пользы для него самого, но на пользу другому виду».
Было бы большой ошибкой полагать, что естественный отбор ведет все формы к какому-то безусловному совершенству.
Разве не летит ночная бабочка на огонь, хотя и гибнет при этом? Она собирает нектар по преимуществу с белых цветков, заметных ночью. Вот почему влечет ее к огню. Полет к цветку целесообразен, к огню – губителен. Однако бабочка совершает и тот и другой.
Разве не защищает пчелу ее жало? Но оно же и причина ее гибели: вонзив жало в тело врага, пчела не может выдернуть его обратно из-за имеющихся на нем загнутых назад зубцов, – она погибает. Яд каракурта – среднеазиатского тарантула – для многих животных смертелен, но совершенно безвреден для овец. Прекрасная броня имеется у черепахи, в виде ее панциря, но от хищных птиц он не защищает. Птица поднимает черепаху ввысь и бросает. Панцирь дает трещины, от него откалываются кусочки, а клюв и когти хищной птицы довершают остальное.
У цветков множество тонких приспособлений к опылению. И всё же громадное количество пыльцы расходуется непроизводительно. Ничтожное количество пыльцы попадает на женские цветки сосны, в то время как целые облака желтого «цветня» поднимаются с каждого дерева.
Насекомые опыляют цветки, но они же – шмели, мелкие жучки, мухи – нередко прокалывают венчик и высасывают нектар и сок из лепестков. Такие проколы можно видеть на нижних частях лепестков зверобоя, у основания венчика глухой крапивы. Цветки сохнут раньше, чем завяжется плод, а иногда опыления и совсем не происходит. Значит, не всегда посещение цветка насекомыми приносит растению пользу.
В битве жизни может погубить самый ничтожный недостаток и спасти такое же незначительное превосходство. В любой момент «песчинка может склонить чувствительные весы природы» (Тимирязев).
Вкратце сущность учения Дарвина о происхождении видов и ход его рассуждений заключается в следующем.
В прирученном состоянии организмы постоянно изменяются. Человек создает новые породы домашних животных и сорта культурных растений. Каким путем? Прежде всего он замечает различия между животными или между растениями. А такие различия всегда имеются. Нет даже двух щенков, ягнят совсем одинаковых. Среди молодого поколения домашних животных человек отбирает тех, которые обладают нужными для него признаками. Таких животных он отделяет и скрещивает между собой, а всех других уничтожает.
Эту работу человек повторяет из поколения в поколение; наследственностью признаки закрепляются.
Все домашние животные и культурные растения произошли от диких предков путем длительного отбора – искусственного.
А как происходит образование новых видов в естественных условиях жизни организмов?
И в природе действуют те же законы изменчивости, наследственности и отбора. Но отбор происходит без участия людей. Выживают организмы с полезными изменениями, дающими им возможность лучше приспособиться к условиям жизни.
Каждый организм борется с другими, а также с неблагоприятными условиями неорганической природы (с засухой, холодом и пр.).
Выживают организмы с полезными приспособлениями, позволяющими им уцелеть в борьбе за существование.
Если последующие поколения находятся в тех же условиях, то приспособления передаются по наследству, и усиливаются, подвергаясь естественному отбору.
Удивительное многообразие организмов и приспособленность их к среде возникли постепенно в результате длительного естественно-исторического процесса. Только так можно научно объяснить изумительное совершенство и гармонию органического мира.
Природа «…не чудеса творила, прямо выливая существа в изумительно совершенные формы, – говорит К. А. Тимирязев, – а только тщательно стирала следы своих ошибок. В несметном числе попыток, в беспощадном истреблении всех неудач и заключается причина этого совершенства».
Вот почему органический мир таков, каким мы его знаем.
В этом ответе на вопрос «почему» заключается самое главное, что дало учение Дарвина. До него старое мировоззрение требовало только описания растительного и животного мира.
На вопрос же, почему живая природа такова, какой мы ее знаем, старая наука ответа не давала. Она отсылала за ответом к религии.
Учение Дарвина о естественном происхождении целесообразности в органическом мире произвело настоящий переворот в мировоззрении. Оно устранило необходимость в признании высшей силы для объяснения явлений живой природы.
То, что было загадкой, чудом, – приспособленность живых существ к среде, – получило разумное объяснение.
«Так понемногу закрадывалось в мою душу неверие, – говорит Чарлз Дарвин, – и в конце концов я стал совершенно неверующим. Но происходило это настолько медленно, что я не чувствовал никакого огорчения и никогда с тех пор даже на единую секунду не усомнился в правильности моего заключения.»
Расхождение признаков
Почему рядом с высокоорганизованными растениями и животными существуют низкоорганизованные? Чем объяснить огромное разнообразие растений и животных в природе?
Если естественный отбор непрестанно совершенствует живые существа, сметая и уничтожая все слабые и несовершенные, то каким же образом могли сохраниться на земле инфузории, амебы, бактерии? Казалось бы, все низшие формы должны исчезнуть под натиском более высокоорганизованных.
Много прошло времени, по словам Дарвина, прежде чем он понял, в чем заключается главная причина многообразия живых существ на земле. Замечательно то, что породы домашнего скота первоначально были менее разнообразными.
Человек вел отбор в разных направлениях, чтобы полнее удовлетворить свои потребности.
Человеку нужны были скаковые лошади. Для перевозки тяжестей он нуждался в тяжеловозах, и он выводил породы тех и других. Лошади со средними качествами его меньше интересовали; их человек редко оставлял на племя.
Дарвин обратил внимание, что заводчики мало интересуются «средними образцами», но ценят только «крайности». В результате животные с промежуточными признаками мало-помалу совсем исчезают. Наоборот, животные с резкими отличиями из поколения в поколение, благодаря отбору, усиливают эти отличия.
Так были выведены от общих предков резко отличающиеся друг от друга породы лошадей, крупного рогатого скота, кур, голубей. Все они отличаются от своего прародителя. Можно сказать, что породы домашнего скота разошлись по своим признакам в разные стороны от первоначального предка. Этот процесс Дарвин назвал расхождением в признаках. Он пришел к мысли, что в естественных условиях, без вмешательства человека, также должен протекать процесс расхождения признаков.
Расхождение в признаках, в потребностях к условиям жизни – вот что спасает низшие формы и позволяет им существовать рядом с высокоорганизованными.
Инфузории питаются такими мелкими пищевыми частичками, которые в большинстве случаев не служат пищей для многоклеточных. К тому же инфузории размножаются так быстро, что, несмотря на огромное истребление их мальками рыб, они в изобилии населяют водоемы.
У песчаных берегов Черного моря встречается прозрачное рыбообразное животное, длиной 3–5 см. Это ланцетник, названный так за форму хвостового плавника, похожего на ланцет.
Ланцетник относится к типу хордовых. Хорда у него не заменяется впоследствии позвоночником, а остается на всю жизнь, как у осетровых рыб. Головной отдел не обособлен. Нервная система представляет собой мозговую трубку с отходящими от нее нервами. Кровеносная система состоит из двух продольных сосудов и нескольких поперечных; стенки сосудов в местах расширений пульсируют – это «сердца» ланцетника. Пищеварительная трубка прямая, без отделов.
Как видно по описанию, ланцетник ниже по своей организации, чем другие хордовые. Это низшее хордовое.
Как мог уцелеть ланцетник с его примитивной организацией, когда в процессе эволюции так усовершенствовались другие хордовые?
Он живет в такой среде, где совсем не встречается и не конкурирует с хордовыми. Рыбы держатся в толще воды, в то время как ланцетник роется в песке, хотя и того же самого моря. Ему приходится встречаться с некоторыми морскими червями, а не с представителями своего типа. Условия среды, в которой живет ланцетник, сохраняются.
И вот такое редкостное животное не вымерло.
Подобным образом удержалась и другая группа низших хордовых – асцидии. Во взрослом состоянии они ведут прикрепленный образ жизни, наподобие губок. Высшие хордовые животные не являются их конкурентами.
Так, благодаря расхождению в признаках, а в ряде случаев и сохранению условий среды обитания, существуют низшие хордовые – оболочники и ланцетник – наряду с высшими; одноклеточные – наряду с многоклеточными.
Всем известны паразитические черви – солитеры. У них нет кишечника, очень слабо развита нервная система, отсутствует способность к самостоятельному передвижению.
А вот дождевой червь. Его организация во многом сложнее: имеется пищеварительная, кровеносная, нервная системы, органы выделения. Дождевой червь совершает активные движения.
Можно предположить, что солитер как раз ранняя по происхождению форма, от которой взяли начало более совершенные, в том числе и дождевой червь. Это предположение совершенно неверно.
Дождевой червь и солитер, – это выяснено наукой, – ведут свое происхождение от общих предков, выше организованных, чем современный солитер.
Возможно ли, чтобы потомки были ниже, проще по своей организации, чем предки? Не противоречит ли это теории естественного отбора?
Нет, наоборот, такие факты еще раз подкрепляют теорию Дарвина.
Естественный отбор приспосабливает организмы к условиям жизни, а эти условия могут быть очень специфическими.
Жизнь червя-солитера протекает в условиях, резко отличающихся от условий жизни любого червя не паразита.
Солитер не нуждается в органах добывания и переваривания пищи. В этом направлении естественный отбор и упрощал организацию животного.
Но она совершенствовалась по другим, особым линиям. Тело солитера состоит из члеников. В каждом из них сильно развиты органы размножения. Плодовитость солитера огромна. Если погиб весь солитер, за исключением одного случайно оставшегося членика, то потомство его уже обеспечено. У солитера имеются присоски и прицепки, которыми он прикрепляется к стенке кишечника. Это специальное приспособление, предохраняющее паразита от смывания пищеварительными соками. Оболочки его тела не перевариваются в желудке «хозяина».
Всё это, как и сам цикл развития (пузырчатая форма – в мышцах свиньи, ленточная – в кишечнике человека), – приспособления, выработанные естественным отбором.
Здесь произошло упрощение общей организации животного и в то же время совершенствование специальных его приспособлений.
Естественный отбор должен происходить в разных направлениях. «Это вытекает из того простейшего соображения, – думал Дарвин, – что чем разнообразнее строение, общий склад и привычки потомков какого-нибудь вида, тем легче они будут в состоянии завладеть более многочисленными и более разнообразными местами в экономии природы, а следовательно, тем легче они будут увеличиваться в числе».
Почему сельский хозяин предпочитает посевы трав производить смесью семян разных родов и даже семейств? Он получает при этом бóльшие урожаи травы, чем при посеве одного вида. То же самое наблюдается и в природе.
На лужайке всего в один квадратный метр с небольшим Дарвин нашел двадцать видов растений, принадлежавших к восемнадцати различным родам. Потребности растений к свету, почве, влаге различны у разных видов. Корни одних располагаются на одной глубине, других – на другой. Одни растения выносят из почвы больше фосфора и калия, другие – азота, третьи сами обогащают почву азотом. Растения более высокие обычно нуждаются в большом количестве света, – под их пологом могут расположиться низкорослые и теневыносливые травы.
Вот почему на таком участке земли может произрастать бóльшее количество растений, если они относятся к разным систематическим группам. Условия существования на этом клочке земли используются ими гораздо полнее, чем растениями только одного вида.
Развитие жизни на Земле
Дарвин не ставил перед собой вопроса о том, как возникла жизнь на Земле, какие этапы в своем развитии прошел органический мир, считая, что наука еще не располагает для ответа на них достаточными данными. Но его теория естественного отбора послужила одной из основ для научных исследований в этом направлении.
По современным научным представлениям, когда-то Земля была расплавленной и состояла из отдельных атомов: никаких химических соединений еще не было. Они начали возникать с понижением температуры Земли. Постепенно образовалась твердая земная кора, хлынули первые горячие ливни, заполняя впадины и образуя океаны. Химические соединения и превращения их становились все разнообразнее и многочисленнее. И вот в теплых водах океанов возникли студенистые сгустки органических веществ, в том числе и такого типа как аминокислоты и белки. Они поглощали из воды растворенные в ней вещества, причем одни из них ускоряли процесс поглощения, другие его замедляли. В результате одни сгустки увеличивались, другие отставали в росте, третьи совсем распадались. Путем многих превращений, происходивших в сгустках, они стали приобретать сложное строение и функции, характерные для живой протоплазмы.
Так у белковых капелек-сгустков наметился обмен веществ, разумеется, в самой его простейшей форме. Белковые капельки, лучше поглощавшие вещества, росли, делились – размножались; капельки, не обладавшие этим качеством, разрушались и погибали. Так в природе было положено начало естественному отбору. А простейшие белковые живые капельки-сгустки явились первыми формами жизни на Земле. Из них на протяжении многих миллионов лет развивались все более сложные и совершенные организмы. Сначала это были такие, которые нельзя назвать ни растениями, ни животными. Разделение на два основных ствола живой природы – мира растений и животных – произошло много позднее. Главное различие между ними в способе питания и типе обмена веществ. Животные питаются теми органическими веществами, которые создают растения. Растения извлекают из воды растворенные в ней минеральные соли и из воздуха углекислый газ, сами созидая органические вещества.

Мадагаскарский жук на лишайнике

Ножеклюв

Муха. Оса

Ланцетники

Асцидии

Солитер свиной и человека
Такая способность растений сложилась у них с возникновением хлорофилла, обеспечивающего фотосинтез, – питание из воздуха на свету.
Первыми растениями были одноклеточные водоросли, потом и многоклеточные. Как показывает само название, первые растения жили в морях и пресных водоемах.
Затем появились зеленые растения, которые могли расти в прибрежных зонах, то заливаемых водой, то освобождающихся от нее, – первые сухопутные, вернее «земноводные», растения. Это были предки современных мхов и папоротникообразных.
Потом возникли голосеменные, предки сосен и елей. И, наконец, покрытосеменные, у которых семена, образуясь в плоде, лучше защищены и успешнее распространяются. Они заняли и теперь занимают господствующее положение среди растений.
Как же шло развитие животного ствола?
Наиболее древней группой животных были одноклеточные жгутиковые. Потом возникли колониальные формы. Колония состоит из многих клеток, но это еще не настоящий многоклеточный организм. Каждая клетка живет своей отдельной жизнью, хотя и связана с другими протоплазменными нитями. Можно взять отдельную клетку из колонии. Клетка будет жить, но в колонии останется не заживающее повреждение.
Огромный и сложный путь прошел животный мир, пока появились многоклеточные беспозвоночные животные.
Когда-то в морях жили различные формы кишечнополостных. От этого типа взяли начало высшие группы беспозвоночных организмов, предки позвоночных животных.
У кишечнополостных два слоя тела. Следующую ступень в развитии животного мира представили животные, у которых было уже три слоя тела: внешний, внутренний и средний. Это были предки современных плоских червей. Затем появились более совершенные типы червей. От одной группы из них взяли начало членистоногие – одна из двух вершин в животном мире. Теперь на земле живет до одного миллиона видов членистоногих.
От древних кишечнополостных произошли иглокожие, представители которых – морские звезды, ежи, лилии – живут в морях, и хордовые.
Самая же мощная и прогрессивная ветвь хордовых – подтип позвоночных – вторая вершина животного мира.
Предполагается, что первые позвоночные появились в начале палеозойской эры. В силлурийских морях жили рыбы.
С наступлением засушливого девонского периода начинается выход позвоночных из воды на сушу. Появляются земноводные с легочным типом дыхания.
Каменноугольный период при его теплом и влажном климате был эпохой расцвета земноводных растений и животных.
Но вслед за каменноугольным периодом вновь климат стал засушливым. Начинается развитие пресмыкающихся. Появляются и теплокровные животные: птицы и млекопитающие.
Эволюция растительного и животного мира вела к всё большему разнообразию органических форм путем приспособления их в процессе естественного отбора к сменявшимся условиям существования.
Картина развития жизни на земле – большая и специальная тема.
Здесь ее пришлось коснуться лишь в самых общих чертах.
Нельзя спешить!
Дед Чарлза Дарвина, Эразм Дарвин[27]27
Родился в 1731 году; умер в 1802 году.
[Закрыть], врач по профессии, был ученым и поэтом по призванию. Ему принадлежат крупные научно-философские произведения, написанные в поэтической форме.
Они увлекали Дарвина-внука красотой стихов.
Еще в юношеские годы он зачитывался произведениями деда – «Ботанический сад» и «Храм природы». Тогда Чарлз Дарвин не погружался в детали, не задумывался над достоверностью фактов.
Его интересовали общие картины природы, данные в этих книгах.
Эразм Дарвин писал, что живые существа на земле непрестанно изменяются и совершенствуются. Об этом говорят и ископаемые остатки животных и сравнение современных организмов.
Безгранично могущество великой богини Природы. Дивный храм ее стоит на месте, где некогда был земной рай и куда только «мудрец и добрый входят без запрета». И вот Муза поэта, проникнув в храм, вопрошает верховную жрицу Природы Уранию, в чем заключается первопричина жизни:
«Небесная наставница… Поведай
Первей всего мне мудрою беседой,
Какой источник дивный, полный сил,
Начало смертной жизни положил,
Дал тонким нервам чувство и движенье
И волокну живому сокращенье,
И духу жизнь эфирную внушил;
И как Любовь с Симпатией то грели
Отрадой грудь, то вдруг грозой гремели
И человека создали, творя
Свой социальный план, из дикаря».
Первый толчок к эволюции дан творцом. Он вложил в материю великое жизненное свойство – стремление к развитию. Организмы живут в различной природной обстановке. Под влиянием разной пищи и климатических условий, а также упражнения или неупражнения органов и в результате скрещиваний, возникают изменения организмов.
«Химический состав свой изменять
Должны все формы жизни в вечном споре,
Они живут, чтоб умереть им вскоре,
И умирают, чтобы жить опять!
Так вещество бессмертное умеет
Бурь преходящих побеждать порыв,
Не погибая в них, растет и зреет,
По временам лишь форму изменив…»
Работая над «Происхождением видов», Дарвин читает книги своего деда другими глазами, чем в юности. «В то время, – вспоминал Дарвин, – я очень восхищался „Зоономией“, но, перечитав ее во второй раз через десять или пятнадцать лет, я был сильно разочарован крайне невыгодным соотношением между рассуждениями и приводимыми фактическими данными».
Для внука уже давно стало недостаточно общей картины возникновения и развития живых существ:
«До времени, когда послал хаос,
Взрывались солнца в вихре, и без меры
Из сфер другие вырывались сферы;
Когда ж из них морей осела гладь
И стала всюду сушу омывать.
Согрета солнцем, в гротах на просторе
Жизнь организмов зародилась в море».
Но как развивалась жизнь? В поэтических строфах «Храма природы» Чарлз Дарвин не находит ответа. Его охватывает чувство разочарования.
С сожалением и горечью на самую дальнюю полку шкафа ставит он большие томы, страницы которых столько раз им перечитаны…
В книгах деда внук не находит помощи для себя: слишком велика в них доля воображения и мало фактов.
Даже там, где мысли их во многом созвучны, – в признании борьбы за существование в природе, – внук не обращается к авторитету деда.
А Эразм Дарвин писал:
«Свирепый волк с кормящею волчат
Волчицею – гроза невинных стад;
Орел, стремясь из-под небес стрелою,
Грозит голубке слабой смертью злою;
Голубка ж, как овца, опять должна,
Кормясь, губить ростки и семена.
Охотнице-сове средь ночи темной
Не жаль певца любви и неги томной,
А соловей съедает светляка,
Не посмотрев на прелесть огонька;
Светляк же, ночи светоч оживленный,
Вползая вверх, цветок съедает сонный».
Такую же картину борьбы за существование описывал Эразм Дарвин в мире растений:
«Деревья, травы вверх растут задорно,
За свет и воздух борются упорно.
А корни их, в земле неся свой труд,
За почву и за влажность спор ведут,
По вязу хитрый плющ ползет извивом.
Душа его в своем объятьи льстивом».
Итак, повсюду в природе идет уничтожение живых существ:
«Вкруг стрелы смерти голод заметал,
И мир одной огромной бойней стал».
Каждое живое существо обладает приспособлениями к нападению и самозащите, – утверждает Эразм Дарвин.
Эти же идеи занимали центральное место и во взглядах Чарлза Дарвина. Но он не хочет излагать свои воззрения только общими широкими мазками, как это делал его великий дед.
Нужны именно факты и факты. «Я смотрю на излишнюю тягу к обобщениям, как на безусловное зло», – пишет он Гукеру в 1844 году.
Он постоянно проверяет свои обобщения: не ушел ли от научных фактов в сторону фантазии.
На самом же деле Дарвин давно вышел на путь обобщений. Они проскальзывают в его «Дневнике путешествий». Еще в записных книжках 1837–1838 годов, рядом с памятками о днях заседаний в научных обществах и сведениями о продаже домов, встречаются заметки, прямо указывающие, что идея эволюции постепенно складывалась в его уме.
Краткие положения будущей теории происхождения видов Дарвин набросал в 1838 году.
Через три года, в 1842 году, Дарвин записал свои мысли о происхождении видов карандашом на тридцати пяти страницах в виде очерка. Этот очерк был найден под лестницей в шкафу, служившем не для бумаг, а «скорее как склад для предметов, которые не хотели уничтожать».
Плохая бумага, на которой карандашом был написан «Очерк», помарки, зачеркнутые фразы и слова, неразборчивые окончания говорят, что, вероятно, Дарвин делал эти краткие записи только для себя, как черновой набросок того, что ему стало ясно.
В течение двух ближайших лет Дарвин составляет второй очерк, уже значительно более полный, на двухстах тридцати страницах и делает следующее признание Гукеру:
«Я со времени своего возвращения из кругосветного путешествия был занят очень самонадеянной и – нет ни одного человека, который бы не сказал этого, – очень глупой работой. Я был так поражен распространением организмов на Галапагосских островах и т. д. и т. д., что я решил слепо собирать всякие факты, которые могли бы иметь хоть какое-нибудь отношение к вопросу, что такое виды. Я прочел груды книг по земледелию и садоводству и непрерывно собирал факты. Наконец, появились проблески света, и я почти убежден (совершенно противоположно мнению, с которого я начал), что виды (это все равно, что сознаться в убийстве) не неизменны. Да хранят меня небеса от ламарковской чепухи, „стремления к прогрессу“, „приспособления вследствие медленно действующей воли животного“ и т. д. Но заключения, к которым я пришел, мало отличаются от его заключений, хотя причина изменений совершенно другая. Я думаю, я нашел (вот здесь-то и самонадеянность!) простое средство, при помощи которого виды становятся великолепно приспособленными к разным целям. Тут-то вы застонете и подумаете про себя, на какого человека я тратил время и кому я писал письма!»