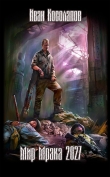Текст книги "Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь"
Автор книги: Вера Мильчина
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Впрочем, нередко сами депутаты передавали журналистам текст своих речей, написанных заранее, так как французское парламентское красноречие (в отличие от английского) не требовало постоянных импровизаций. Те из современников, кто имел возможность сравнить выступления английских и французских депутатов, отдавали пальму первенства англичанам, отказавшимся от произнесения писаных речей. В книге «Социальная диорама Парижа, сочинение чужестранца, проведшего в этом городе зиму 1823 и часть 1824 года» русский дипломат князь П.Б. Козловский писал: «Поистине непостижимо, отчего нация столь просвещенная и столь легко усваивающая знания, не может понять, что превращать законодательное собрание в академию, где каждый читает заранее приготовленные речи и где слóва просят еще до открытия заседания, значит полностью искажать природу подобного собрания. Ведь при таком порядке пропадает весь жар, все волшебство оживленных прений, в ходе которых люди излагают идеи, порожденные идеями противоположными, теми, которые только что высказали их противники; при таком порядке как раз и рождаются на свет эти бесконечно длинные речи, эти совершенно бесполезные преамбулы, эти повторения одних и тех же доводов, которые писатели и ораторы вынуждены воспроизводить почти слово в слово, потому что все пишут об одном и том же предмете. Вследствие такого положения дел всякий, кому довелось побывать на заседаниях английской палаты общин, не в силах слышать речей французских депутатов».
После того как председатель палаты усаживался в свое кресло, стоявшее особняком, занимали свои места секретари и секретари-редакторы, составлявшие протоколы заседаний; однако депутаты нередко опаздывали, и потому далеко не всегда заседание начиналось вовремя. По традиции, восходившей еще к временам Французской революции, расположение депутатов на трибунах соответствовало их политическим убеждениям: слева от председательского кресла сидели либералы, справа – монархисты, в центре – люди центристских убеждений. Впрочем, в ту пору от депутатов не требовалось формальной принадлежности к определенной партии. Существовали только неформальные объединения, скрепленные общностью убеждений, а не партийными билетами. Вне парламента депутаты определенных взглядов собирались в определенных салонах и обсуждали там последние новости, однако эти собрания чаще всего носили не политический, а светский характер.
На самой нижней скамье справа располагались министры, а слева – докладчики, представлявшие палате проекты законов. В тогдашнем парламенте не было специализированных комиссий на постоянной основе, и в начале сессии палата по жребию подразделялась на «секции». Проект всякого закона выносился на рассмотрение палаты лишь после того, как все секции его изучили, а две трети – поддержали, а затем выбрали генерального докладчика. Именно он представлял проект палате. Поскольку министры неизменно подвергались в палате нападкам депутатов от оппозиции, скамья, на которой они сидели, была прозвана «скалою страданий».
Кафедра из красного дерева и позолоченной бронзы, с которой произносились речи, располагалась прямо под огромной люстрой и была украшена барельефом с изображениями Истории и Славы (выполненными еще в 1798 году скульптором Лемо).
Открытое голосование депутатов производилось «вставанием»: сначала поднимались со своих мест те, кто подавал голос «за» (остальные продолжали сидеть); затем – голосующие «против». Открытым голосованием принимались отдельные статьи обсуждаемого закона, но для окончательного принятия всего текста закона использовалось голосование закрытое. В этом случае все депутаты один за другим направлялись к урне, установленной на кафедре. У каждого имелись два шара: белый и черный. Опустив один из шаров в эту урну, депутат относил другой шар в другую, «контрольную» урну, стоявшую перед секретарем председателя палаты (количество шаров, попавших в нее, подсчитывалось для проверки результатов основного голосования). Так было и в эпоху Реставрации, и при Июльской монархии.
В царствование Людовика XVIII, когда кабинет возглавлял умеренный политик герцог де Ришелье, оппозиционеры-ультрароялисты (сторонники будущего короля Карла X, в ту пору носившего титул графа д’Артуа) сплоченно выступали против предложений министерства и постоянно клали в «главную» урну черные шары, которые шутники прозвали поэтому «сливами графа д’Артуа».
Заседания обычно заканчивались около 5 часов вечера, но иногда затягивались и до шести – половины седьмого, после чего депутаты-парижане (которых было не больше полусотни человек) отправлялись обедать домой, а депутаты-провинциалы – в рестораны и трактиры. Впрочем, депутаты могли подкрепиться и не выходя из здания парламента: в западном флигеле имелась небольшая комната, где дебелая кухарка варила для них мясной бульон в огромном горшке, формой напоминавшем этрусскую вазу. Кухарка, если верить современнику-журналисту, была «политически подкованная». Она соотносила количество бульона с повесткой дня: когда в палате обсуждалось что-нибудь интересное для всех депутатов (например, ответ на речь короля или бюджет секретных фондов правительства), кухарка наполняла горшок до краев; в другие дни она ограничивалась половиной горшка, так как знала по опыту, что спрос будет невелик. Кроме бульона к услугам депутатов всегда были булочки, молоко и вино, а также смородиновый сироп или оршад (миндальное молоко с водой и сахаром). Деньги на все это выделялись из особого бюджета палаты. При Июльской монархии, согласно «Энциклопедии коммерсанта» 1840 года, депутатов и пэров снабжало бульоном специализировавшееся на его изготовлении предприятие под названием «Голландская компания»; оно располагалось в окрестностях Парижа, в Малом Монруже, и оттуда отправляло бульон своим постоянным клиентам.
Дворец, где происходили заседания палаты депутатов, очень быстро сделался модным местом; сюда даже на скучные заседания всегда приходили многочисленные посетители, причем не только господа, но и дамы. Поэтому вокруг зала заседаний пришлось достроить отдельные трибуны, предназначенные для принцев крови, членов дипломатического корпуса, членов палаты пэров, бывших депутатов, журналистов и остальной публики. Всех этих посетителей пускали в зал по билетам или приглашениям, распределяемым «квесторами» (так назывались люди, ведающие административно-хозяйственными делами парламента). В зале имелся и специальный сектор (около трех десятков мест) для людей без приглашений, которые, для того чтобы попасть на заседание, с утра стояли в «живой очереди»; впрочем, нередко и сюда сначала пускали особ, приглашенных заранее. На очень важных заседаниях часто разгорались споры из-за мест. Например, газета «Конститюсьонель» 28 февраля 1826 года сетует на то, что ложу, предназначенную для бывших депутатов, занимают «никому не известные особы», тогда как сами бывшие депутаты попасть туда не могут. Журналист пишет:
«Хочется надеяться, что в будущем, и в особенности в ближайшую среду, г-н председатель и г-да квесторы соблаговолят взять меры к тому, чтобы подобные злоупотребления не повторились».
Чтобы попасть на заседание, очередь следовало занимать не меньше чем за два часа до его начала, а если дискуссия обещала быть особенно бурной, то и раньше; получить входные билеты удавалось лишь самым упорным. А.Н. Карамзин попытался однажды, в начале января 1837 года, попасть в палату, не имея заранее пригласительного билета, но потерпел неудачу, о чем и рассказал в письме к матери:
«Сегодня поутру я хотел идти в камору [т. е. в палату, или камеру депутатов – от итальянского «camera»], но, не имея билета pour les tribunes réservées [в ложу для зрителей с билетами], я решился попробовать, сe que c’est qu’une queue [что такое хвост], и в этом хвосту дождаться очереди, чтобы попасть в tribune publique [на места для публики без билетов]. Эти хвосты – одна из частностей Парижа: вообразите себе, милая маменька, что камора открывается в 12 часов, а на лестнице под открытым небом, в мороз, образуется хвост с 8-ми часов утра. Эти молодцы не имеют другого ремесла, и когда время открытия подходит, то они места свои продают охотникам; кто дает больше, тот становится ближе. Я заплатил 5 франков, стал четвертым, подождал полчаса, продрог и ушел».
Наученный горьким опытом, в другой раз, желая послушать знаменитого своим красноречием легитимиста Берье, Карамзин «за 15 франков купил билет», и хорошо сделал, поскольку «трибуны были набиты битком».
Подобные очереди за билетами уподобляли заседания палаты депутатов театру, где торговцы контрамарками подрабатывали тем, что занимали место в такой же очереди-хвосте, чтобы потом продать его какому-нибудь опоздавшему любителю театрального искусства.
С другой стороны, далеко не все пригласительные билеты могли быть использованы. Каждый из четырех с половиной сотен депутатов эпохи Реставрации примерно раз в неделю получал билет, который имел право вручить любому, кому пожелает. Однако дамам не полагалось присутствовать на заседаниях в одиночестве, и поэтому либо их билет пропадал, либо они стремились раздобыть несколько билетов разом, чтобы отправиться в палату большой компанией.
Далеко не все светские красавицы всерьез интересовались политикой; они проводили по шесть часов на неудобных скамейках для того же, для чего ездили в Итальянский театр или в Оперу. Они хотели себя показать, а заодно послушать знаменитостей, блиставших не только в палате, но и за ее пределами (например, знаменитого поэта Ламартина или прославленного адвоката Берье). Когда ожидались выступление подобных ораторов, число слушательниц увеличивалось втрое по сравнению с обычными днями.
Среди постоянных посетительниц палаты депутатов Франции встречались и русские дамы. Например, в 1828–1829 годах здесь регулярно бывала княгиня Екатерина Павловна Багратион (урожденная Скавронская), с 1812 года жившая в Париже. По свидетельству осведомленного современника, доктора Верона, княгиня ездила в палату поддержать главу кабинета Мартиньяка, чей ораторский талант очень любила. Существовала, впрочем, и другая, менее «романическая» версия, согласно которой княгиня исполняла дипломатическое поручение русского царя, то есть попросту шпионила за депутатами и доносила обо всем, что происходило на заседаниях. Десятью годами позже, в 1840 году, на заседания палаты депутатов регулярно приезжала княгиня Дарья Христофоровна Ливен, чтобы извещать своего возлюбленного Франсуа Гизо о ходе обсуждений; он в это время отсутствовал в Париже, ибо занимал пост французского посла в Лондоне.
Разумеется, парламентское красноречие было в почете не только у дам, но и у представителей сильного пола. Газета «Мода» в 1829 году восклицала: «Прежде излюбленным предметом обсуждения служила молодежи танцовщица из Оперы; теперь молодежь обсуждает речи, произнесенные в палате».
Чуть раньше, в 1826 году, примерно тот же диагноз поставил Стендаль. По его словам, если до Революции человек острого ума сочинял стихи или статьи, то в эпоху Реставрации все переменилось: теперь умный человек обязан стать депутатом и ежегодно произносить перед коллегами «пару сносных речей» (или по крайней мере быть в курсе того, о чем с парламентской трибуны говорят другие).
Не случайно разные литераторы сравнивают с театральными представлениями не только способ проникать на заседания палаты (очереди в кассу), но и сам ход этих заседаний. Князь Козловский пишет в «Социальной диораме Парижа»: «Палата депутатов напоминает Оперу: публика валит туда валом, предвкушая возможность провести несколько часов с большой приятностью, вся обращается в слух, а уходит с заседания, как правило, объятая усталостью и невыразимой скукой». Греч рассказывает, что по прибытии в Париж получил от русского посла графа Палена «билет для входа в самый забавный из всех театров Франции – палату депутатов». В.М. Строев описывает заседания этой палаты следующим образом:
«Всяк может войти в палату пэров и депутатов и присутствовать при заседании, если только есть свободные места в ложах (tribunes), назначенных для слушателей. Толпа стоит у входа в палату и ждет; в известный час двери отворяются и желающие входят по очереди, один за другим, точно как в театр. Как скоро все места заняты, двери затворяются, и любопытные, не попавшие в очередь, остаются на улице и отлагают на завтра намерение послушать Берье или Тьера. В ложах сидят тихо, скромно, чинно; не смеют изъявлять ни гнева, ни удовольствия, ни печали, ни радости. За малейший шум президент прикажет очистить ложи (évacuer les tribunes) и всех без изъятия выгонят вон. Легкомысленные парижане превратили и палату депутатов в театр, и ходят туда как в спектакль, любоваться любимыми своими политическими актерами, смотрят на их парламентские поединки и потом рассуждают хладнокровно о трагедиях государственных, как будто дело идет о каком-нибудь водевильчике или балете. <…> Когда войдешь в первый раз в палату, думаешь, что попал в огромный театр, в котором слушатели соскучились. Депутаты разговаривают, читают, пишут; некоторые повернулись спиною к оратору, который, углубясь в огромную тетрадь, читает себе как-то рассуждение; слова его, произносимые быстро и невнятно, не долетают до большей части слушателей. Так всегда бывает, когда оратор читает речь. Каждый депутат думает: я могу прочесть все это завтра в моем журнале, и потому почитает себя вправе не слушать, писать, читать или беседовать с соседом.
Палата принимает совсем другую физиономию, когда на кафедру входит оратор-импровизатор. Едва раздается голос Берье, Тьера, Барро, Могена, Гизо, Вильмена, все превращаются в слух. Депутат знает, что живая речь не может быть вполне, совершенно передана стенографами и журналами; потому он слушает внимательно, старается не проронить ни одного слова».
Итак, хотя речи депутатов публиковались в газетах, парижане все равно стремились попасть на заседания палаты. Дело в том, что газетные отчеты почти никогда не воспроизводили речи, произнесенные с парламентской трибуны, дословно. Сами ораторы, разнося тексты своих выступлений по редакциям, порой правили их задним числом, а также вставляли одобрительные реплики зала и ремарки («Прекрасно!», «Точно!», «Бурные аплодисменты»), чтобы создать у читателей впечатление, будто их речь имела большой успех. Не уступали им и журналисты, сочинявшие отчеты о заседаниях палаты. Бальзак в памфлете «Монография о парижской прессе» (1843) описывает деятельность этих журналистов, которых иронически именует «палатологами»:
«Каждая газета обрабатывает заседания палат; этим занимается специальный журналист, который стенографирует произносимые в палатах речи, а затем переделывает их в соответствии с направлением той газеты, в которой служит.
Вот что входит в его обязанности:
Помещать полностью речи тех депутатов, чьи политические взгляды близки его газете, исправляя в них ошибки против французского языка и перемежая фразы ремарками: оживление в зале, сильное оживление в зале, величайшее оживление в зале. Если глава той политической партии, чьи взгляды выражает газета, берет слово, ему гарантировано следующее замечание: “После этой речи, глубоко потрясшей палату, заседание на некоторое время прерывается и депутаты обмениваются мнениями об услышанном”. <…> Напротив, когда дело доходит до речей политических противников, палатолог пересказывает их в нескольких словах или воспроизводит отрывочно, перемежая ремарками в скобках вроде: ропот, депутаты беседуют между собой, протестующие возгласы, оратора прерывают репликами из зала, шум в зале. <…> Люди, совершающие во имя отечества бесчестные поступки, превращаются под пером газетчиков в рыцарей без страха и упрека. Самые логичные действия правительства предстают лишенными смысла. Краснобай и бездельник, без единой идеи в голове, становится государственным мужем. Подлинного отчета о заседании не найти нигде, даже в “Монитёре”, ибо “Монитёр” не вправе иметь собственное мнение и описывать облик палаты; он принимает от ораторов исправленные варианты их речей и уничтожает своей официальной холодностью те страсти, которые бушевали в зале. Побывать на заседании – все равно что услышать симфонию. Прочесть отчеты о заседании в разных газетах – все равно что услышать по отдельности партию каждого инструмента; пусть вы даже соберете все газеты вместе, цельной симфонии из этого не получится: вам будет недоставать дирижера; кипение страстей, сшибка мнений, облик ораторов – всего этого вы не увидите, даже призвав на помощь воображение».

Заседание палаты пэров. Худ. Ж. Ганье, 1839
Не стоит думать, что язвительный Бальзак сильно сгустил краски. Русский путешественник В.М. Строев за пару лет до него пришел к сходным выводам:
«Сообщая речи палаты, журнал передает вполне только речи своих друзей, а из речей противников выпускает весь смысл, всю сущность, оставляя самые незначительные фразы. <…> Одна и та же речь хороша и дурна, и глупа и умна, смотря по журналу, в котором вы ее прочли. С некоторого времени вошло в привычку печатать в самых речах и действия палаты, т. е. ее одобрение, согласие или смех. И что же вышло? После речи Гизо Журнал прений [Journal des Débats] ставит: Палата рукоплещет, а National после той же речи печатает: Палата шикает. В Журнале прений палата всегда смеется над оппозициею, а в оппозиционных журналах над министрами и министерскими депутатами. Сравните два журнала: вам покажется, что вы читаете отчет о двух разных заседаниях: нимало! это одно и то же, но переделано журналистом по духу и нуждам журнала, на пользу друзей, на вред врагов».
После Июльской революции открытыми для посещений сделались заседания не только палаты депутатов, но и палаты пэров. Теперь на них также пускали публику по билетам. Впрочем, заседания пэров многолюдными не стали; дискуссии здесь проходили сравнительно спокойно, атмосфера царила слегка дремотная. Греч свидетельствует:
«Палата пэров собирается в Люксембургском дворце. Зала ее теснее депутатской, но также расположена полукружием. Дела в ней производятся гораздо тише и проще. Министры не произносят речей наизусть: ораторы не стараются блистать красноречием, и вообще, как мне казалось, валят чрез пень колоду. Зато в ней гораздо более тишины и приличия; все члены в мундирах».
Впрочем, и пэрам случалось привлекать к себе повышенный интерес общества; это происходило в те дни, когда их палата превращалась в судебный орган. Согласно Хартии 1814 года, палата пэров получила право судить обвиняемых в государственной измене и в покушении на государственную безопасность. «Дебют» ее в качестве такого суда был не слишком удачен: в декабре 1815 года пэры приговорили к смерти маршала Нея – за его переход на сторону Наполеона во время Ста дней. Маршал сам просил о том, чтобы его судил не военный трибунал, а верхняя палата парламента, однако его расчет на милосердие пэров не оправдался: 7 декабря Ней был расстрелян в аллее Обсерватории (неподалеку от того места, где его судили). Очевидно, что в данном случае пэры руководствовались отнюдь не стремлением к справедливости (Ней был далеко не единственным, кто во время Ста дней принял сторону возвратившегося императора), а лишь желанием «прислужиться» Бурбонам; поэтому они и устроили этот показательный процесс.
Впоследствии пэрам эпохи Реставрации пришлось судить шорника Лувеля, зарезавшего в ночь с 13 на 14 февраля 1820 года племянника короля, герцога Беррийского; Лувель был приговорен к смерти и казнен на Гревской площади 7 июня того же года. Перед судом палаты пэров предстали и участники либерального антиправительственного заговора, созревшего в среде офицеров-отставников, – так называемого заговора 19 августа 1820 года, или «заговора в “Базаре”» («Французским базаром» именовалось заведение на улице Каде, где заговорщики проводили свои собрания). В этом случае приговоры оказались весьма мягкими: из 75 обвиняемых лишь шестеро были осуждены на небольшие сроки тюремного заключения. Сразу после Июльской революции пэры судили министров свергнутого короля Карла X, чьи подписи стояли под королевскими ордонансами 26 июля 1830 года, нарушавшими прежнюю Хартию. Суд, как уже было рассказано в главе «Июльская революция в Париже», проходил с 15 по 21 декабря 1830 года в крайне сложной обстановке, поскольку народ настоятельно требовал для министров смертной казни. Тем не менее пэры не пошли на уступки толпе и сохранили министрам жизнь. Палата пэров заседала в Люксембургском дворце, а министры-подсудимые в это время находились в резиденции председателя палаты пэров – располагавшемся неподалеку Малом Люксембургском дворце. Чтобы подсудимые не могли ни сбежать, ни подвергнуться нападению парижской толпы, в здании, где они содержались, были произведены специальные работы: перекрыты каминные трубы, двери укреплены железными скобами и тяжелыми засовами и т. п.

Суд над министрами Карла Х в палате пэров. Худ. О. Пюжен, 1831
Большой Люксембургский дворец был оборудован для заседаний еще при Наполеоне, когда здесь собирались сенаторы. Долгое время пэры обходились прежним залом заседаний. Однако работы у них все прибавлялось, и суд над участниками апрельского рабочего мятежа 1834 года, состоявшийся в мае 1835 года, потребовал постройки дополнительного зала заседаний. Кроме того, бывший монастырь Дев Голгофы (рядом с Малым дворцом), где с конца XVIII века располагалась казарма, был переоборудован под тюрьму для обвиняемых, которых набралось больше сотни. С 1836 по 1841 год в Большом Люксембургском дворце шли работы, которые закончились его перестройкой и значительным расширением зала заседаний палаты пэров и прилегающих к нему помещений. Новый зал по своей конструкции напоминал палату депутатов: тот же полукруглый амфитеатр с местом председателя внизу, в самом центре.
Во второй половине 1830-х годов, а затем и в 1840-е годы пэры судили участников многочисленных покушений на жизнь короля Луи-Филиппа: Фиески, Алибо, Менье, а также Барбеса и Бланки (руководителей парижского восстания 12 мая 1839 года). В 1840 году им пришлось судить принца Луи-Бонапарта за попытку государственного переворота в Булони, а в 1847 году – бывшего министра общественных работ Жана-Батиста Теста за получение взятки в 94 000 франков от другого бывшего министра, Депана-Кюбьера. Тест во время следствия сидел в Люксембургском дворце в одной из тех камер, которые были построены в годы его пребывания на посту министра, – так сказать, под его собственным руководством и наблюдением.
Таким образом, пристальное внимание парижского общества привлекали заседания обеих палат: нижней практически постоянно, а верхней – от случая к случаю. Вообще жизнь в Париже при конституционной монархии была сильно политизирована. Во время Революции и при Империи политика тоже интересовала французов, но тогда публично обсуждать политические вопросы было небезопасно. А в эпоху Реставрации и Июльской монархии, хотя борьба противоположных политических лагерей продолжалась, словесная защита своих взглядов уже не могла стоить людям жизни. Тем охотнее парижане рассуждали на политические темы. Многие нравоописательные очерки той эпохи изображают парижан как людей, для которых политика стоит на первом месте. Авторы «Новых картин Парижа» (1828) посвящают этой политизированности парижан отдельную главу. Здесь посетители Оперы судят представления не по их музыкальным достоинствам, но преимущественно по политическим убеждениям композиторов, в книжной лавке вместо античных классиков продается бесчисленное множество политических брошюр-однодневок, а гостиничная привратница настойчиво предлагает постояльцу монархическую газету «Котидьен». При этом она гордо замечает, что и она, и муж ее, привратник той же гостиницы, – роялисты; поскольку муж до Революции был полотером в королевском дворце, им обоим, конечно же, не пристало служить в гостинице, хозяин которой – либерал, так что они делают это через силу. В отличие от привратницы, цирюльник – либерал, но политическими проблемами он увлечен ничуть не меньше ее; обслуживая клиента, он успевает высказать ему свое мнение об иезуитах и янычарах, о революции в Португалии и о восстании в Греции, об ожидающемся приезде в Париж английского премьер-министра и о собственном участии в походах Великой армии Наполеона. Эти политические монологи цирюльника – вовсе не литературная условность. А.И. Тургенев, рассказывая в письмах к брату об обстановке в Париже осенью 1830 года, постоянно ссылается на рассказы своего вполне реального цирюльника – своеобразной живой газеты. В столице Франции политические новости интересовали цирюльников ничуть не меньше, чем их клиентов.