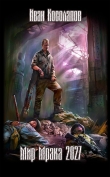Текст книги "Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь"
Автор книги: Вера Мильчина
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Те же двойные цели (и гигиенические, и политические) преследовал Рамбюто, проводя работы на острове Сите. В 1837 году здесь между папертью собора Парижской Богоматери и Гревским пешеходным мостом была проложена широкая (шириной в 12 метров) Аркольская улица. Кстати, обычно считают, что она получила свое название в честь города и моста в Северной Италии, где в 1796 году Бонапарт одержал победу над австрийцами. Существует, однако, другая версия: во время Июльской революции некий молодой человек был убит с трехцветным знаменем в руках на Гревском мосту, успев произнести перед смертью: «Помните, что меня зовут Арколь». В 1838 году между Дворцом правосудия и Аркольской улицей проложили улицу Константины (названную в честь алжирского города, который французские войска захватили осенью 1837 года). Кроме того, Рамбюто начал прокладывать новые, широкие улицы вокруг Дворца правосудия, что позволило облегчить подъезд к зданию.
Рамбюто много сделал и для «оздоровления» района вокруг Ратуши, который по его инициативе был, как и сама Ратуша, перестроен кардинальным образом. По ходу реконструкции было уничтожено немало старинных улочек; на их месте вырос новый фасад Ратуши. Уничтожена была среди прочих улица Рогатки Сен-Жан, которую Бальзак в повести «Побочная семья» называет «одной из самых кривых и темных в старинном квартале, где находится Ратуша». Бальзак пишет: «Просторнее всего улица Рогатки была у пересечения с улицей Ткачества, но и там ее ширина едва достигала пяти футов. В дождливую погоду по улице неслись потоки грязной воды, омывая стены старых домов и унося с собой отбросы, которые обыватели сваливали возле уличных тумб. Повозка мусорщика не могла проехать по этой вечно грязной улице, и жителям приходилось рассчитывать только на ливень. Да и как могла она быть чистой? В летнее время, когда лучи солнца отвесно падают на Париж, золотая полоса света, узкая, как клинок сабли, ненадолго озаряла мрак улицы Рогатки, но не могла высушить постоянную сырость, застоявшуюся на уровне нижних этажей черных, молчаливых домов. Там лампы зажигали в июле уже в пять часов вечера, а зимой и вовсе не тушили их».
Именно на месте этой затхлой и грязной улицы была проложена в 1838 году улица Лобау. Во всех перечисленных случаях в действиях Рамбюто можно увидеть предвестие той работы, какую наиболее полно и последовательно спустя два десятка лет осуществил барон Оссман – уже при другом политическом режиме.
Рамбюто занимался также благоустройством бульваров – и эта деятельность также имела политическую подоплеку. Префект начал с того, что в 1834 году расширил бульвары Бомарше и Дев Голгофы за счет их боковых аллей, а затем приступил к расширению всего полукольца Больших бульваров (от площади Мадлен до площади Бастилии). Он стремился уничтожить перепады высоты между бульварами и прилегающими к ним улицами. Теперь в случае народных волнений отряды кавалерии без труда развернулись бы на бульварах, а мятежники уже не смогли бы спрятаться в «низине» прилегающих улиц, как в июльские дни 1830 года.
Реконструкция набережных Сены и превращение их в единую магистраль от Лувра до моста Берси преследовали ту же цель – позволить войскам при необходимости легко развернуться. Однако выиграли от этой перестройки не только власти, но и парижские торговцы: теперь нагружать и разгружать корабли стало гораздо удобнее. Довольны были и любители прогулок. В.М. Строев замечает: «Набережные были узкие, почти непроходимые; бунтовщики обыкновенно оказывали на них жестокое сопротивление войскам, пользуясь теснотою места. После Июльских переворотов правительство решилось расширить их, будто бы для украшения города, и истратило миллионы. Теперь можно гулять по берегам Сены, везде гладкие тротуары, широкие, удобные. Около Тюльери набережная так же великолепна, как Английская в Петербурге».
В эпоху Реставрации и Июльской монархии Париж не только перестраивался, но и строился заново. Подрядчики осваивали прежде не заселенные территории, прокладывали улицы на месте пустырей или лесов. Благодаря этому в Париже возникали не только отдельные новые улицы, но и целые кварталы.

Дом Франциска I на Елисейских Полях. Худ. О. Пюжен, 1831
В эпоху Реставрации благодаря частному строительству за десять лет (с 1817 по 1827 год) в Париже появилось 2670 новых домов – почти на тысячу больше, чем было построено за предшествующие 13 лет. В середине 1820-х годов в Париже разразился настоящий строительный бум; для его характеристики современники употребляли такие слова, как «помешательство», «маниакальное пристрастие к возведению новых зданий», «строительный раж». В сентябре 1824 года газета «Конститюсьонель» писала: «Кругом только и видишь, что возводимые леса и груды строительного материала; целые полчища рабочих обтачивают камень и смешивают известь, дробят гипс и обтесывают дуб; элегантные и удобные дома вырастают в самых разных концах города, как по волшебству; возвратившись после недолгой отлучки, парижанин с трудом узнает родной квартал».
Особенно активно шло строительство на правом берегу Сены. Именно в 1820-е годы между Елисейскими Полями и идущей вдоль Сены аллеей Королевы возник «квартал Франциска I». Его название объясняется тем, что в 1823 году сюда из-под Фонтенбло перенесли дом, некогда принадлежавший этому королю Франции. Тогда же, в середине 1820-х годов, разделили на участки для продажи территорию так называемого сада Божона, который во второй половине XVIII века принадлежал финансисту Никола Божону. В 1825 году здесь были проложены улицы, получившие имена Лорда Байрона, Шатобриана и Фортюне (последнее название было дано в честь светской львицы г-жи Фортюне Амелен, которая приобрела участок в этом районе; сейчас улица носит имя Бальзака). Застройкой улиц в новых кварталах занимались частные компании, но затем дома переходили в собственность города. В 1826 году два торговца земельными участками, Йонас Хагерман и Сильвен Миньон, приобрели так называемую равнину Эрранси – громадный пустырь между деревней Поршероны и кварталом под названием «Малая Польша», а также просторный парк Тиволи. Все эти земли были с выгодой распроданы по частям, и в результате здесь возник так называемый Европейский квартал: все его улицы получили названия в честь крупных европейских городов.
В эпоху Реставрации активнейшим образом застраивались разные части квартала Шоссе д’Антен, прежде всего Сен-Жорж и Новые Афины, о которых уже было рассказано в главе девятой.
Наконец, на болотистой территории между Рыбным предместьем и предместьем Сен-Дени начал застраиваться новый Рыбный квартал. Он, однако, имел дурную репутацию, поскольку рядом располагалась фабрика по производству газа, отравлявшая воздух.
На левом берегу Сены новым был лишь квартал, выросший в самом конце 1820-х годов на территории бывшего монастыря Бельшасских Дам; здесь были проложены улицы, получившие имена тогдашних политических деятелей – Мартиньяка, Казимира Перье и Лас Каза.
В общей сложности с 1816 по 1828 год в Париже было проложено 65 новых улиц, образовались четыре новые площади и около 35 000 кв. м территории перешли в собственность города. Это немало способствовало их благоустройству. Так, в 1828 году палата депутатов одобрила закон, объявивший собственностью города площадь Людовика XV и Елисейские Поля. Городские власти, со своей стороны, обязались за пять лет вложить в благоустройство этих территорий 2 миллиона 230 тысяч франков. В результате площадь Людовика XV, в середине 1820-х годов даже не замощенная, к 1838 году совершенно преобразилась.
Об этом с восхищением пишет Строев: «Недавно еще это место было покрыто грязью; воры и разбойники останавливали проходящих; кареты объезжали площадь, чтобы не увязнуть в грязи и лужах. В пять лет площадь очищена, вымощена асфальтом, украшена обелиском и фонтанами, освещена газом и вечерние разбои прекратились. Город пожертвовал на это несколько миллионов».
Строительный бум в Париже создавал почву для спекуляций: по свидетельству современников, «на стройке играли точно так же, как играют на фондовой бирже государственными ценными бумагами; одни здания меняли собственника по пять раз на неделе, другие – ежедневно». Земельные участки стремительно возрастали в цене: участок на улице Клиши, купленный в 1820 году за 500 000 франков, в 1824 году продавался уже за полтора миллиона. За ферму на равнине Гренель, приносившую 7000 франков годового дохода, предлагали 1 200 000 франков. А участок к северу от парка Тиволи за три года (1822–1825) возрос в цене в 22 раза. Наконец, участки в районе улицы Риволи с середины 1800-х годов, когда ее только начали прокладывать, возросли в цене в 600 раз.
Депутаты от французских провинций возмущались тем, что парижане монополизировали все финансовые ресурсы страны, из-за чего строительство нового жилья ведется только в столице. С другой стороны, все чаще раздавались жалобы на то, что парижские строители слишком торопятся и от этого страдает качество новых зданий. Астольф де Кюстин в своей книге «Россия в 1839 году» (1843) назвал «империей фасадов» тогдашнюю Россию. Однако если заглянуть в опубликованную в 1822 году книгу доктора Клода Лашеза под названием «Медицинская топография Парижа, или Общее рассмотрение причин, которые могут оказать существенное влияние на здоровье жителей этого города», может сложиться впечатление, что и Париж 1820-х годов был такой «империей фасадов», где за роскошными фасадами скрывались здания, возведенные на скорую руку из строительного мусора и грозящие вот-вот рухнуть.
В Париже 1820-х годов уже раздавались «экологические» жалобы: строительство домов уничтожает сады и парки; парижане уже тогда беспокоились, что вскоре в городе не останется ни единого уголка, где можно было бы дышать полной грудью, и столица вот-вот превратится в каменную пустыню. Сам префект Шаброль в 1824 году выражал опасения, что после того как парижане разорят старые места для прогулок, придется устраивать новые; после того как они вырубят одни сады, придется срочно сажать другие.
Существовала и еще одна важная проблема: активное строительство нисколько не помогало решить «жилищный вопрос», стоявший перед парижанами скромного достатка; новые дома строились преимущественно в расчете на богачей. Чтобы вернуть деньги, потраченные на покупку земли под строительство и на роскошную отделку интерьеров, домовладельцы постоянно повышали квартирную плату (за период с 1817 по 1827 год она возросла в среднем на четверть). В результате бедняки продолжали тесниться в старом центре Парижа или же перебирались поближе к заставам, а многие дома новых кварталов, возведенные во время строительного бума, стояли полупустыми. Бедным людям квартиры в них были не по карману, богатые же не спешили перебираться в новые, еще не вполне обжитые районы города.

Биржа. Худ. О. Пюжен, 1831
Эпоха Реставрации не ознаменовалась появлением в Париже новых значительных общественных зданий. Городской бюджет оскудел, а годы эмиграции приучили вернувшихся на родину королей – и Людовика XVIII, и Карла X – к относительному аскетизму. Луи-Филиппу родовое пристрастие к роскоши было присуще в гораздо большей степени. Именно Луи-Филипп, хотя его и называли «король-буржуа», охотно тратил собственные деньги на украшение, обновление и расширение королевских резиденций; именно он превратил Версаль в музей французской национальной славы.
А в эпоху Реставрации такие общественные здания, как Дворец правосудия или Ратуша, претерпели лишь незначительные, косметические изменения (например, к заднему фасаду Ратуши был пристроен зал для приемов). Более радикально здание Ратуши было перестроено позже, уже при Июльской монархии, когда стараниями архитекторов Годда и Лезюэра ее общая площадь увеличилась почти в три раза.
Самыми значительными новыми постройками, возведенными в эпоху Реставрации для государственных нужд, стали здание Министерства финансов (на пересечении улицы Риволи с улицей Кастильоне) и здание Парижской таможенной службы на улице Гранж Бательер. Первое было построено в 1822–1827 годах; второе возведено в 1822–1825 годах; ни то, ни другое не дожили до наших дней.
Зато сохранилась Фондовая биржа, строительство которой было начато еще при Наполеоне, а завершено в эпоху Реставрации. Прямоугольное здание, окруженное со всех сторон колоннами, было спроектировано архитектором Броньяром как античный храм. Строить его начали в 1808 году на месте женского монастыря Дев Святого Фомы Аквинского, однако смерть архитектора в 1813 году и политические катаклизмы (падение Наполеона и смена политического режима во Франции) затормозили строительство. К 1819 году были возведены только четыре стены «дворца Броньяра» (как неофициально называли это здание), а торжественное открытие новой биржи состоялось лишь 4 ноября 1826 года (впрочем, окончательно достроена она была в следующем году). Государственная казна не справилась с финансированием грандиозного проекта и уже в июле 1819 года уступила городу права как на земельный участок, на котором возводилась биржа, так и на само здание. К этому времени уже было истрачено два миллиона, требовалось добавить еще шесть. Необходимая сумма сложилась из средств государственной и городской казны, а также денег парижских коммерсантов: взимаемый с них торгово-промышленный налог (patente) был по этому случаю увеличен на 15 сантимов. Фондовую биржу не только роскошно оформили, но и выстроили по последнему слову техники: крыша была сделана с использованием металлических конструкций, внутри действовала система парового отопления, специально разработанная физиками д’Арсе, Гей-Люссаком и Тевенаром.
Технический прогресс вообще в значительной мере способствовал благоустройству Парижа, в частности усовершенствованию городского освещения.
В начале эпохи Реставрации, как и при Империи, парижские улицы и площади освещались преимущественно масляными фонарями шестиугольной формы, которые висели на веревке над серединой улицы, отбрасывая тень, напоминавшую огромного паука. В 1817 году в Париже было около четырех с половиной тысяч таких фонарей, а к 1829 году стало на тысячу больше. С наступлением темноты двести сорок фонарщиков выходили на работу; каждому предстояло зажечь 20–30 фонарей. Опустив фонарь, фонарщик заливал в него масло, протирал стекла, зажигал фитиль, а затем снова поднимал фонарь на прежнюю высоту. На то, чтобы зажечь фонари во всем городе, уходило примерно три четверти часа. Фонари делились на постоянные и «временные»: первые следовало зажигать всегда, вторые – только в безлунные ночи. Жалованье фонарщикам платила частная компания, взявшая подряд на освещение улиц.
До определенного момента систему освещения улучшали только частично: например, заменяли фонари с двумя рожками пятирожковыми; устанавливали на мостах и на площадях вместо деревянных фонарных столбов чугунные. Кроме того, кое-где в центре города повесили отражательные фонари усовершенствованной конструкции, предложенной изобретателем Бордье; они давали больше света, но стоили дороже и потому повсеместно не прижились.
Радикальное обновление стало возможно только благодаря введению газового освещения. Первые образцы газовых фонарей появились еще в середине 1800-х годов, но реально такие фонари начали применять лишь в конце 1810-х годов. Впервые парижане увидели их в кафе на Ратушной площади, которое так и называлось «Газовым», и в одном из кафе пассажа Панорам.
Новинка вызывала ожесточенные споры. С одной стороны, уже в 1817 году нашлись люди, которые по заслугам оценили экономичность газового освещения. Так, газета «Журналь де Деба» 25 февраля 1817 года писала: «Уверяют, что уже в первый год введение такого освещения во всем городе позволит сэкономить 200 000 франков, а в следующие годы экономия еще возрастет». С другой стороны, противники газовых фонарей указывали на риск взрывов, неприятный запах, вспоминали и о том, что новое изобретение причиняет убытки производителям масла и свечей. Как бы там ни было, газовые фонари стали предметом всеобщего внимания. Не случайно в водевиле Скриба и Дюпена «Битва гор», представленном в 1817 году в театре «Варьете» и посвященном модным новинкам того времени, фигурировал персонаж по имени Лантимеш (Lantimèche, дословно – Антифитиль), выступающий против старых фонарей и масляных ламп.
Более или менее широко газовое освещение распространилось в Париже лишь к концу 1820-х годов. Первой площадью, которую осветили газовые фонари, стала Вандомская: 3 июня 1825 года здесь установили четыре светильника вокруг Вандомской колонны и два фонаря в начале улицы Кастильоне. Тогда же газовое освещение ввели в некоторых пассажах. В начале 1829 года десять газовых фонарей появились на улице Мира, потом – на площади и улице Одеона. В конце 1820-х годов газовое освещение было введено и в Пале-Руаяле, галереи которого, впрочем, и задолго до этого казались «царством света». Так, Ф.Н. Глинка, оказавшийся в Париже весной 1814 года, писал: «Сто восемьдесят огромных зеркальных фонарей украшают такое же число аркад. Каждый из них дробит, преломляет и отбрасывает множество ярких лучей, и все они вместе представляют прекрасный ряд лучеметных светил. Так освещены галереи сверху. Внизу каждая лавка светится, как прозрачная картина. Множество разноцветных ламп, паникадил и граненых хрусталей распространяют прелестное радужное зарево, очаровывающее взор».
Производили газ на четырех заводах. Самый старый из них располагался на территории Люксембургского сада; он обслуживал Люксембургский дворец (где заседала палата пэров), театр «Одеон» и часть аристократического Сен-Жерменского предместья. Второй завод располагался неподалеку от заставы Мучеников и обслуживал квартал Шоссе д’Антен и Монмартрское предместье, а также новый зал Оперы на улице Ле Пелетье. Третий, откуда газ подавался на улицу Сент-Оноре и в Пале-Руаяль, был выстроен вне городской черты, за Курсельской заставой. Наконец, самый большой завод вырос в Рыбном предместье, жители которого, впрочем, резко возражали против его постройки, опасаясь ядовитых испарений. Помимо этих крупных источников газа существовали еще и портативные его генераторы; по всей вероятности, именно их использовал хозяин кафе на Ратушной площади («пионер» газового освещения в Париже), так как крупные заводы начали действовать лишь в 1820-х годах.
Частные лица освоили газовое освещение даже раньше, чем муниципалитет: в 1828 году в Париже было уже пять с лишним тысяч абонентов газовых рожков.
Газовое освещение повсеместно распространилось на парижских улицах с конца 1830-х годов. Англичанка Фрэнсис Троллоп, побывавшая в Париже в 1835 году, жалуется в своей книге на «глубокую тьму, которая царит повсюду, где нет лавок с газовым освещением». Она замечает: «В кофейнях и ресторациях, расположенных по обеим сторонам бульваров, освещение такое яркое, что можно обойтись без добрых старых фонарей, призванных проливать свет на мостовую. Но стоит хоть немного отдалиться от этого царства света и веселья, и вы погружаетесь в ужасные потемки; можно сказать с уверенностью, что самый маленький провинциальный город в Англии освещен несравненно лучше, чем все те улицы Парижа, что находятся в ведении городской администрации. Если дома освещены газом, значит, трубы, по которым этот газ поступает, подведены к домам; в таком случае я не могу взять в толк, зачем предпочитать масляные фонари, источающие тусклый безрадостный свет, яркому сиянию газовых ламп, соперничающих с солнцем; мне объяснили, что все дело в договоре с фонарщиками, срок которого еще не истек. Если бы, однако, во Франции пеклись об общественной пользе с тем же тщанием, что и в Англии, притязания всех фонарщиков мира не могли бы помешать городским властям позаботиться о том, чтобы горожане ходили вечерами по светлым улицам, чего бы это ни стоило муниципалитету».
Сходным образом оценивал ситуацию и такой превосходный знаток Парижа, как Бальзак. Описывая в романе «Блеск и нищета куртизанок», действие которого происходит в конце эпохи Реставрации, контраст между освещенными торговыми улицами и соседними темными закоулками, он с тем же недоумением и негодованием восклицает: «Улица Ланглад, так же как и соседние с ней улицы, позорит Пале-Руаяль и улицу Риволи. <…> Узкие, темные и грязные улицы, где процветают не слишком чистоплотные промыслы, ночью приобретают таинственный облик, полный резких противоположностей. Если идти от освещенных участков улицы Сент-Оноре, Новой улицы Малых Полей и улицы Ришелье, где непрерывно движется толпа, где блистают чудеса Промышленности, Моды и Искусства, то, попав в сеть улиц, окружающих этот оазис огней, который бросает свой отблеск на небо, человек, незнакомый с ночным Парижем, будет охвачен унынием и страхом. Непроглядная тьма сменяет потоки света, льющиеся от газовых фонарей. Время от времени тусклый керосиновый фонарь роняет неверный и туманный луч, не проникающий в темные тупики. <…> Муниципальный совет не сделал ничего, чтобы оздоровить этот огромный лепрозорий…»

Канал Сен-Мартен. Худ. О. Пюжен, 1831
Впрочем, ситуация менялась очень быстро. В конце 1820-х годов газовые фонари еще были в Париже «непростывшей новостью», а уже в 1843 году на площади Согласия был проведен первый опыт освещения города с помощью электричества. К этому времени парижане «приручили» газ до такой степени, что в октябре 1840 года в городе были опробованы первые газовые плиты.
Отдельная, очень существенная статья благоустройства города – это забота о его водных артериях. По воде в Париж доставлялась большая часть товаров, необходимых для жизни, но река то мелела, то замерзала, часто была загромождена судами и сплавными плотами. Для облегчения судоходства в 1822 году было закончено начатое еще в 1802 году строительство стокилометрового Уркского канала, соединившего реку Урк с Сеной возле Парижа (впрочем, совершенствовать его продолжали и много позже этой даты). Кроме того, в эпоху Реставрации были проложены еще три крупных канала. Два из них позволяли кораблям плыть не напрямую через Париж, а в обход города: канал Сен-Дени длиной около 6 с половиной километров, с дюжиной шлюзов, был открыт 13 мая 1821 года; канал Сен-Мартен, длиной 4 с половиной километра, с девятью шлюзами и десятью мостами, – 4 ноября 1825 года. Последний канал во второй половине XIX века был частично убран под землю (и сохранился в таком виде до наших дней). Третий канал, открытый в октябре 1825 года, носил название Марии-Терезы; он позволил судам, шедшим по Марне (притоку Сены), не следовать за всеми изгибами реки, изобиловавшей в этом месте песчаными отмелями, и значительно укоротил их путь.
Город, располагавшийся по обеим сторонам большой реки, нуждался не только в новых водных артериях, но и в новых мостах. За пятнадцать лет эпохи Реставрации через Сену были переброшены мосты Архиепископского Дворца, Гревский и Антéна (последний располагался на месте нынешнего моста Инвалидов). Все они были построены в конце 1820-х годов, после того как закончилась неудачей попытка соорудить грандиозный мост через Сену на уровне эспланады Инвалидов (там, где сейчас проходит мост Александра III).
Что же касается старых мостов, то им требовался ремонт; в 1816 году этой процедуре подвергся мост Сите, соединявший острова Сите и Сен-Луи. В марте 1830 года стала очевидной необходимость полной реконструкции Нового моста; эта операция была произведена уже при Июльской монархии. Работы такого рода диктовались практической целесообразностью, зато другие усовершенствования мостов объяснялись исключительно эстетическими вкусами властителей. Например, при Людовике XVIII началось воплощение идеи, пришедшей в голову еще Наполеону, – украсить мост Согласия (в это время он именовался мостом Людовика XVI) двенадцатью колоссальными статуями. Изменились лишь персоналии: если Наполеон хотел увековечить собственных генералов, павших на поле брани, то Людовик XVIII решил почтить память великих слуг монархии. В состав роялистского пантеона вошли четыре министра (Ришелье, Сюлли, Кольбер и Сугерий), четыре полководца (Конде, Дюгеклен, Тюренн и Баярд) и четыре мореплавателя (Дюкен, Дюге-Труэн, Турвиль и Сюффрен). Огромные статуи из белого мрамора были установлены на мосту лишь при Карле X, в 1828–1829 годах. Они стоили огромных денег (более 200 000 франков), но на фоне реки смотрелись настолько неудачно, что в 1837 году решено было перевезти их в Версаль.
Выбор памятников для столицы государства – вопрос не только градостроительный, но и политический. Бурбоны это прекрасно сознавали. В июле 1816 года Людовик XVIII издал ордонанс о восстановлении королевской прерогативы – «права монарха определять, кто именно достоин публичной награды» (в частности, памятника). Впрочем, значение имела не только установка новых памятников, но и демонтаж старых. Не случайно весной 1814 года одним из первых жестов, ознаменовавших падение Империи, стало свержение статуи Наполеона с вершины Вандомской колонны, воздвигнутой в августе 1810 года. Сам император собирался установить на ней статую Карла Великого; между тем, поскольку колонна эта была изготовлена из 1250 переплавленных пушек, захваченных наполеоновской армией у русских и австрийцев, приближенные Наполеона настаивали на том, что украшать ее должно именно его изваяние. Император согласился, и колонну увенчала его статуя в античном наряде, согласно скульптурной моде того времени. Естественно, что политическому низвержению императора должно было соответствовать физическое низвержение его статуи с вершины колонны. Это произошло через неделю после капитуляции Парижа, 8 апреля 1814 года (свидетельства русских современников, присутствовавших при низвержении статуи, приведены в первой главе).
Статую заменили королевским белым знаменем. Оно развевалось на вершине колонны до 1818 года, а затем его сменила огромная королевская лилия. Статую же Наполеона, снятую с вершины Вандомской колонны, переплавили, и медь ее пошла на изготовление новой статуи Генриха IV на Новом мосту. Однако история Вандомской колонны на этом не закончилась. После Июльской революции на ее вершину вместо лилии водрузили трехцветный флаг, а в 1833 году там снова появился Наполеон – но уже в виде маленькой статуи в современном платье. По словам Генриха Гейне, он возвратился «уже не как император, не как Цезарь, а как представитель революции, несчастием искупивший грехи и очищенный смертью, как символ победившей власти народа».
Далеко не все современники сразу приняли новый облик императора. В.М. Строев пишет: «При возведении Вандомской колонны на вершине был поставлен Наполеон в древнем костюме; в руке он держал земной шар с победою. При восстановлении Бурбонов статуя сделалась анахронисмом, была снята и уничтожена. После Июльских переворотов неизвестно почему правительство вздумало восстановить Наполеона, и притом не в прежнем виде, а в сертучке, в знаменитой его маленькой шляпе. Скульптор исполнил эту мысль как нельзя лучше; но неприятно видеть мещанина (bourgeois, как говорят парижане) на вершине такого памятника».
Не меньше, чем низвержение статуи Наполеона, для властей эпохи Реставрации было важно восстановление упомянутого выше памятника Генриху IV на Новом мосту. Генрих IV, основатель династии Бурбонов, которая вернулась на французский престол в эпоху Реставрации, символизировал подлинные монархические ценности. Не случайно неформальным гимном роялистов стала песня «Vive Henri Quatre» («Да здравствует Генрих IV»), исполнение которой вызывало восторг парижской толпы. Прежняя конная статуя Генриха IV украшала Новый мост с 1614 года. В 1792 году ее, как и все прочие парижские статуи королей, сбросили с пьедестала и уничтожили. На площадке, где стоял памятник, во время Революции собирались установить 15-метровую статую Гения Революции (по проекту художника Жака-Луи Давида), но этой затее не суждено было реализоваться. При Наполеоне на этом месте стоял деревянный макет памятника Славе французского народа (задуманного императором), а после 1811 года там устроил свою кофейню торговец по фамилии Парис. В 1814 году, после падения императора, на Новом мосту установили временную гипсовую статую Генриха IV (работы Рогье), а скульптор Лемо между тем начал работать над статуей постоянной. Помимо Наполеона с вершины Вандомской колонны материалом для нее послужила также громадная статуя генерала Дезе (погибшего в 1800 году в сражении при Маренго), которая с августа 1810 года возвышалась на парижской площади Побед. Скульптор Клод Дежу изобразил генерала обнаженным атлетом, что шокировало многих французов, даже несмотря на набедренную повязку, игравшую роль фигового листка; после возвращения Бурбонов эту четырехметровую атлетическую фигуру (вместе с «вандомским» Наполеоном) отправили в переплавку. В цоколь нового памятника Генриху IV поместили целую «библиотеку роялиста»: книги о славном короле (в том числе поэму Вольтера «Генриада»), рассказ о возвращении Людовика XVIII на французский престол, Конституционную хартию 1814 года. Однако бонапартист Менель – чеканщик, принимавший участие в изготовлении памятника, – сумел вложить внутрь и символы совсем иной направленности: в руке Генриха IV он спрятал статуэтку Наполеона, а в брюхо коня вложил целый набор антироялистских памфлетов и песенок.
14 августа 1818 года статую начали транспортировать к месту назначения из мастерской, находившейся в Рульском предместье. До проспекта Мариньи ее довезла упряжь из восемнадцати быков, а затем их сменили лошади, вместе с которыми впряглись добровольцы-парижане, желавшие поучаствовать в установке памятника. Король Генрих занял свое место на Новом мосту 19 августа 1818 года, а спустя шесть дней, 25 августа (в день святого Людовика и, следовательно, тезоименитства короля Людовика XVIII), состоялось торжественное открытие нового памятника. По этому случаю всех желающих поили бесплатно за счет казны.
Возвращение статуй французских королей на парижские площади было для Бурбонов делом чести. После Генриха IV настала очередь «короля-солнца» Людовика XIV. Его конная статуя появилась в 1822 году на площади Побед – на том месте, где с 1686 года до Революции стоял другой памятник Людовику XIV, не конный, а пеший, а при Империи пугал парижан упомянутый выше обнаженный генерал Дезе. Церемония открытия, состоявшаяся 25 августа 1822 года (тоже в день святого Людовика), подчеркивала связь Бурбонов XIX века с великим королем века XVII-го. На площади Побед, торжественно украшенной и иллюминированной, заполненной толпами столичных жителей, присутствовали не только министры и маршалы, но также 156 инвалидов, причем среди них – 116-летний Пьер Юэ, который в юности успел побывать подданным Людовика XIV.