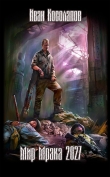Текст книги "Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь"
Автор книги: Вера Мильчина
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Следует пояснить, что министром, которого описывает Козловский, был не кто иной, как прославленный писатель Шатобриан (в 1823–1824 годах он возглавлял Министерство иностранных дел). Так вот, русского мемуариста особенно огорчило отсутствие в зале «групп женщин и мужчин, увлеченных приятной беседой» – именно потому, что такую беседу всякий гость ожидал услышать в любом парижском салоне, а тем более у Шатобриана, и, не обнаружив ничего подобного, был страшно разочарован. Зато другой салон, хозяйкой которого была герцогиня де Дюрас, жена высокопоставленного сановника и автор нескольких романов, произвел на Козловского самое благоприятное впечатление, ибо полностью отвечал представлениям о настоящем французском обществе, где «наслаждаются равенством, не досягаемым нигде, кроме царства ума»: «Здесь разговаривают обо всем, но выказывают такое чувство меры и такой хороший вкус, что царедворец не нашел бы, к чему придраться в отношении формы споров, а мыслитель – в отношении их содержания. Политика, новые сочинения, литература, театры становятся по очереди предметами беседы, герцогиня же обладает талантом, какой можно почерпнуть только из глубины собственного сердца, – способностью слушать всякого собеседника с доброжелательством и обращать внимание лишь на то, что показывает его в выгодном свете».
Именно такую идеальную светскость русские путешественники надеялись встретить в парижских салонах, а не встретив, роптали и негодовали. Высказывают мемуаристы и другие претензии. Парижские балы казались некоторым русским аристократам слишком беспорядочными, «анархическими». Дипломат Виктор Балабин свидетельствовал в дневнике 1843 года: «Нет ничего более противоположного, чем атмосфера бала в Санкт-Петербурге и в Париже. Если у нас все подчинено иерархии, то здесь во всем господствует анархия; у нас пять или шесть дам, вознесенных на вершину света милостью государя, голосом моды или собственной красотой, царят деспотически и блистают славой заслуженной или заемной, погружая всех остальных в безвестность и тьму. Здесь все происходит совершенно иначе, и светская львица, которая в одном салоне будет окружена толпою обожателей, в другом едва отыщет одного-двух друзей. То же самое и со львами: в одном кружке они блещут умом и красотой, но в тот же самый вечер в другом доме решительно отступают на второй план».
Кроме того, приезжие из России, даже самые доброжелательные, отмечали, что французские балы по сравнению с русскими «имеют вид тесный и бедный». Н.С. Всеволожский, например, пишет: «Парижских балов у частных людей нельзя сравнивать с нашими, потому что в большей части домов комнаты невелики, и следовательно, танцующие и зрители почти всегда стеснены. Я видал здесь балы званые в таких комнатах, где, казалось, не поместились бы и двадцать человек, а их теснилось и двигалось до полутораста».
Больше того, некоторым русским путешественникам казались тесными даже роскошные дипломатические салоны. Так, особняк австрийского посольства на улице Святого Доминика, нанятый послом Аппоньи в 1826 году у вдовы маршала Даву за 60 тысяч франков в год, считался одним из прекраснейших парижских дворцов. В нем было девять гостиных для приемов и английский сад. Но на фоне русских особняков и бальных зал этот дом мог показаться бедным и тесным; во всяком случае, таким его изображает А.Н. Карамзин в письме к родным от 10 января 1837 года: «Народу толпилось тьма в четырех комнатах, порядочно освещенных, из которых ни одной не было больше Вашей столовой; танцевали в двух, в одной паркет, а в другой крашеный пол!!! <…> Здесь вальсировать опасно, места мало, а неискусные французы так и виляют вправо и влево; я действовал решительно и в два тура сшиб с ног три пары; знай наших! Людей мало, буфет бедный, скверный чай, разливаемый из медного самовара, в сенях веревочный ковер!!.. Одним словом, парижские балы не чета нашим! и не могут выдержать сравнения ни в пышности, ни в красоте женщин, ни в искусстве танцоров, ни даже в богатстве и щегольстве уборов».
Не только русские аристократы, но и некоторые французские наблюдатели критиковали парижские балы и приемы. Вот описание «новых тенденций» светской жизни в «Историческом ежегоднике» Шарля-Луи Лезюра за 1821 год: «В частных домах повсюду устраиваются балы; в нынешнем году балы эти проходят не так, как раньше: в прежние времена хозяин дома приглашал к себе столько друзей или знакомых, сколько могут вместить его парадные залы, и мог при необходимости назвать каждого приглашенного по имени. Теперь не то: в залу, рассчитанную на сотню человек, приглашают две сотни, причем добрая половина из них хозяину дома неизвестна. В частный дом теперь входят так же непринужденно, как в кафе; гость предпринимает попытку добраться до хозяйки дома и засвидетельствовать ей свое почтение – попытку, которая, впрочем, зачастую оказывается тщетной, – а затем, исполнив эту докучную обязанность, принимается искать себе собеседников, с которыми он по крайней мере знаком; гости проталкиваются сквозь толпу, пихают друг друга локтями, наступают друг другу на ноги…»
Балов стало так много, пишет в январе 1824 года «Журналь де Пари», что чувствуется острая нехватка оркестрантов для музыкального сопровождения танцев; дело дошло до того, что в некоторых домах танцуют под одно лишь пианино.
Все дело в том, что круг людей, устраивающих балы и приемы, постоянно расширялся; представителям мелкой буржуазии хотелось вести себя так, как принято в светском обществе. Л. Монтиньи, автор книги «Провинциал в Париже» (1825), перечисляет неписаные правила для устроителей балов: частный дом должен стать похожим на общественное здание; ворота следует держать открытыми, двор и подножие лестницы осветить плошками; слуги должны выдавать гостям номерки в обмен на верхнюю одежду, оставляемую в гардеробной.
Американский путешественник оказался на вечере у парижского лавочника: из-за тесноты здесь было очень неудобно кружиться в вальсе или танцевать кадриль; на фортепьяно играли хозяйские дочери, а не профессиональные музыканты; грог, который подавали гостям, больше напоминал подслащенную воду. Тем не менее в небольшую гостиную, в другое время служившую столовой, набилось тридцать пять человек. По местным понятиям, это был настоящий бал. Гостям здесь даже предоставляли такой же выбор, как на балу аристократическом: те, кто не хотел танцевать, играли в карты. Аристократы, конечно, относились к таким вечерам с презрением и видели в них карикатурное и вульгарное подражание великосветским приемам. Но для самой буржуазной публики такое времяпрепровождение было чрезвычайно важным, поскольку способствовало ее приобщению к светскому образу жизни.
Впрочем, угнаться за знатными и богатыми господами людям из буржуазной среды было нелегко. Дельфина де Жирарден с аристократическим презрением и немалой язвительностью описывает в феврале 1840 года бал в доме одного из парижских буржуа: «Гостиная совсем невелика, и чтобы не потерять ни единого кусочка пространства, оркестр запихивают в альков соседней спальни; разодетые матери семейства мучаются на жестких скамьях, какие обычно стоят в школьных классах; прохладительные напитки подают очень скупо под тем предлогом, что позже будет сервирован ужин. После полуночи их перестают подавать вовсе – под тем же предлогом. В час пополуночи все гости умирают от жажды и смотрят вокруг с тревогой. Хозяйка дома имеет вид весьма озабоченный; она больше ни с кем не разговаривает, но ласково улыбается тем, кто собрался уходить. Является слуга с вопросом: “Не пора ли подавать?” – “Нет, – отвечает она, – здесь еще слишком много народу”. Она по-прежнему выжидает; выжидает так терпеливо, что самые отважные утрачивают мужество, а самые голодные не находят в себе сил бороться со сном. Наконец она командует: “Подавайте”. И когда вожделенный миг наступает, усаживается наедине с супругом за стол, накрытый на пятнадцать человек, меж тем как гостей на балу побывало целых три сотни. Ибо в празднествах такого рода верх тщеславия состоит в том, чтобы посулить гостям ужин, но верх дипломатии заключается в том, чтобы ужин этот им не достался».
Итак, светское общение становилось достоянием самого широкого круга лиц – но зато утрачивало ту изысканность и то очарование, какими обладало общение «избранных». Этот процесс «демократизации», начавшийся уже в эпоху Реставрации, продолжался и даже ускорялся при Луи-Филиппе.
«Противоядием» размыванию светского круга были призваны служить клубы, или «кружки» – сугубо мужские формы проведения досуга в местах, куда женщины доступа не имели. В главе третьей описан «кружок» как форма приема гостей у короля, но в Париже существовали и кружки другого рода; их быт исследован в книге А. Мартен-Фюжье.
Самым элитарным из них считался клуб под названием «Союз». Он был основан в 1828 году известным англоманом герцогом де Гишем и до 1857 года располагался на пересечении улицы Грамона и бульвара Итальянцев. Для вступления в этот «кружок» необходимо было заручиться рекомендациями двух членов клуба и пройти процедуру голосования, причем кандидатуру новичка должны были поддержать не менее дюжины членов. Вступительный взнос равнялся 250 франкам, а затем принятый в клуб был обязан платить столько же каждый год. Среди членов «Союза» были такие знаменитости, как дипломат Шарль-Морис де Талейран, прославленный денди граф Альфред д’Орсе, барон Джеймс Ротшильд. Этот последний был принят в клуб не как богатый банкир, а как генеральный консул Австрии в Париже. Деловые люди в «Союз» не допускались: это был кружок аристократов-монархистов и дипломатов. Основанный в конце эпохи Реставрации, клуб при Июльской монархии быстро превратился в союз людей, недовольных новой властью и тоскующих по старым временам. Преимущества, предоставляемые членам «Союза», перечисляет в дневнике секретарь русского посольства в Париже Виктор Балабин, принятый в этот клуб в 1842 году: «Здесь можно получить за 5 франков превосходный обед; здесь к услугам членов кружка всевозможные газеты, здесь каждый может держаться, как ему заблагорассудится, сесть или лечь, снять шляпу или надеть шляпу».
Одним словом, светский житель Парижа мог проводить здесь время в свое удовольствие, а отсутствие женщин сообщало этому времяпрепровождению особую непринужденность.
Другой клуб, основанный в 1833 году, носил не совсем обычное для светского сообщества название «Сельскохозяйственный кружок» (злые языки именовали его просто «Картошкой»). В него входили представители аристократических родов, интересующиеся экономикой и сельским хозяйством. В стенах клуба, расположенного в Нельском особняке на набережной Вольтера, устраивались лекции, посвященные научным, экономическим и художественным проблемам, – от производства сахара и улучшения железных дорог до судеб классической трагедии и выступлений актрисы Рашель. Но члены «Сельскохозяйственного кружка» собирались не только для того, чтобы слушать лекции: они читали газеты, играли в карты, беседовали.
Пожалуй, наиболее знаменитым парижским «кружком» был Жокей-клуб, основанный в июне 1834 года и располагавшийся в самом сердце модного Парижа – в районе бульваров. Первые два года клуб находился в доме на пересечении бульвара Итальянцев и Гельдерской улицы, а затем переехал в особняк на углу Монмартрского бульвара и улицы Друо (тогда – улицы Гранж Бательер), где оставался до 1857 года. Жокей-клуб изначально насчитывал шестьдесят членов, каждый из которых должен был заплатить вступительный взнос 150 франков, а затем платить ежегодно по 300 франков членских взносов. Из этой суммы 200 франков шло самому клубу, а 100 – в пользу основанного годом раньше Общества соревнователей улучшения конских пород во Франции. В это Общество входили не только посетители скачек, но и коннозаводчики, и любители верховой езды. Таких практиков в парижском светском кругу было не слишком много, зато желающих проводить время за разговорами о фешенебельном конном спорте нашлось немало, так что новых членов приходилось выбирать очень придирчиво. Чтобы вступить в Жокей-клуб, требовалось представить три рекомендации, а затем не менее шести членов клуба должны были единогласно высказаться в пользу кандидата. С помощью этих ограничений члены клуба старались сохранить его элитарный характер. В Жокей-клуб принимали людей разных политических взглядов – лишь бы они вели блестящий светский образ жизни. А вот писателя Альфреда де Мюссе в этот клуб не приняли – под тем предлогом, что он не ездит верхом.
Несмотря на жесткий отбор, число членов Жокей-клуба постоянно увеличивалось: в одном только 1838 году оно выросло на целую сотню человек. Парижане стремились вступить в Жокей-клуб, так как здесь они могли за сравнительно небольшую плату провести время с большой приятностью: поесть не хуже, чем в самых роскошных ресторанах Парижа, поиграть на бильярде и в карты (эту возможность они сохранили даже после 1837 года, в конце которого все игорные дома в Париже были официально закрыты). На обед надо было записываться с утра, а подавать его начинали с шести часов вечера, так что гости могли потом отправиться в театр или на бал; по окончании спектаклей они зачастую вновь возвращались в клуб.
Пристрастие мужчин к проведению досуга в клубах отнюдь не означало, что они чуждаются женского общества. Просто-напросто когда посетители клубов хотели провести время в обществе дам, они предпочитали более веселое и менее обязывающее общество дам легкого поведения.
Когда светскими людьми перестали считаться исключительно аристократы, принятые при дворе, в салонах стали блистать новые знаменитости – денди и «львы».

Парижский фат. Худ. П. Гаварни, 1841
Парижские денди 1830-х годов – это не просто элегантные молодые люди, тратящие огромные суммы на одежду, лошадей и экипажи, театр и рестораны. Это те, кто вводил самих себя в моду, превращая собственный внешний облик и поведение в образцы для подражания. О денди судили не по его происхождению и не по его занятиям, а исключительно по тому, как он преподносил себя окружающим, по его образу жизни и манерам. Для того чтобы выглядеть модно и элегантно, парижскому денди требовались большие деньги – в конце 1830-х около ста тысяч франков в год. Для сравнения скажем, что прославленная певица Малибран получала в год 75 тысяч, а годовое жалованье средней модистки не превышало тысячи франков. Публикация в газете «Антракт» от 10 января 1839 года позволяет судить о расходах парижского денди. 14 тысяч франков ему требовались для того, чтобы нанять квартиру с конюшней в модном квартале – на улице Риволи или на улице Горы Фавор. 20 тысяч франков уходили на покупку и содержание трех караковых жеребцов (для утренних прогулок) и еще одной лошади – для вечерних прогулок в экипаже. В 18 тысяч франков обходились услуги ювелира, снабжавшего денди часами и цепочками, камеями и кольцами, портсигарами и запонками. 5 тысяч франков денди отдавал портному, который шил ему фраки и рединготы, костюмы для верховой езды и для охоты; столько же поступало в карман сапожника; 4 тысячи франков стоили сорочки, 3 тысячи – шляпы, полторы тысячи – перчатки (ежедневно требовались две пары новых), одну тысячу – трости и хлысты (которые в театрах приходилось сдавать в гардероб, тоже за деньги); 800 франков в год уходили на духи. Недешево обходилась и многочисленная челядь, без которой денди обойтись не мог; 7,5 тысячи франков он платил слугам: 3 тысячи – камердинеру, который его брил и завивал, 2,5 тысячи – кучеру, 2 тысячи – мальчику-груму, который сопровождал хозяина во время поездок в город. 4 тысячи франков денди тратил на еду, 3 тысячи – на посещение театров (плюс еще 200 франков на лорнеты и зрительные трубки), 1200 франков – на цветы. Около 6 тысяч в год уходило на чаевые, уплату карточных долгов и проигранные пари.
Впрочем, денди важно было не просто потратить деньги, но сделать это так, чтобы обратить на себя внимание. Например, журналист Сен-Шарль Лотур-Мезере заслужил в 1830 году прозвище «кавалера с камелиями», поскольку первым стал носить в петлице этот цветок, который стоил целых 5 франков (столько же, сколько обед в неплохом ресторане). Денди-журналиста дороговизна не смущала: порой он менял цветок даже два раза в день. Впрочем, Лотуру-Мезере не суждено было навеки связать свое имя с «фешенебельным» цветком: в 1848 году Александр Дюма-сын выпустил свой роман «Дама с камелиями», и «дама» вытеснила «кавалера» из умов светской публики.
От денди отличались «львы» – люди, возбуждавшие всеобщее любопытство не просто своим внешним видом, но какими-либо свершениями. В 1830–1840-е годы «львами» называли тех, кого сейчас назвали бы «звездами». К числу таких «львов» относились бесстрашные путешественники, побывавшие в Африке или в Персии, а также приезжие из экзотических стран. Когда посол тунисского бея прибыл в Париж вместе с восемью женами, его страстно захотели увидеть в своих гостиных все дамы квартала Шоссе д’Антен, и африканец на время сделался парижским «львом». Роль «львов» могли играть прославленные музыканты или авторы нашумевших книг. При этом все денди мечтали хоть на несколько дней сделаться «львами», то есть привлечь к себе всеобщее внимание. Согласно афоризму Дельфины де Жирарден, «денди – это тот, кто хочет, чтобы на него смотрели, а лев – тот, на кого все хотят смотреть». Писательница приводит в пример представление «Дочь эмира», которое с большим успехом давалось в 1839 году в театре «У ворот Сен-Мартен». В нем американский дрессировщик Ван Амбург изображал араба, отданного на растерзание хищникам; американец выходил на сцену в обществе самых настоящих тигров и львов, но оставался целым и невредимым; больше того, целым оставался и ягненок, которого Ван Амбург запускал в клетку с хищниками. Дельфина де Жирарден задает вопрос: кого из выступающих в этом спектакле можно назвать «львом»? И отвечает: не хищника и не ягненка, а только дрессировщика.
В 1840-х годах в Париже появились не только «львы», но и «львицы». Так называли не «дам полусвета» (как во второй половине XІX века), а светских женщин, которые стремились выделиться с помощью «мужских» рекордов. «Львицы» принимали участие в скачках с препятствиями, стреляли из пистолета и ездили на охоту, а прогуливаясь в колясках по Булонскому лесу или Елисейским Полям, курили настоящие гаванские сигары.
Глава девятая
Парижские кварталы. городское жилье
Сен-Жерменское предместье. Квартал Маре. Квартал Шоссе д’Антен. Предместье Сент-Оноре. Пале-Руаяль. Бульвары. Многоэтажные дома. Жилье для приезжих: гостиницы, семейные пансионы, меблированные комнаты, наемные квартиры
И французы, и иностранцы регулярно отмечали, что Париж есть не что иное, как «собрание нескольких разных городов под одним именем» (леди Морган), а обитатели каждого квартала «представляют собой самостоятельную нацию» (слова Этьенна де Жуи, публиковавшего в середине 1810-х годов нравоописательные очерки под псевдонимом «Пустынник с улицы Шоссе д’Антен»).
Другой нравоописатель, Л. Монтиньи, утверждал в 1825 году, что даже места для прогулок у парижан строго связаны с их сословной принадлежностью. Так, элегантная дама ни за что не согласится дышать воздухом в Люксембургском или в Ботаническом саду, потому что эти места считаются совершенно не аристократическими: в первом гуляют в основном няньки с детьми, рантье и студенты, во втором – иностранцы, а из парижан – лишь люди незнатные. «Фешенебельный» (от английского fashion – мода) молодой человек изберет для прогулок бульвар Итальянцев, причем прогуливаться будет только по одному-единственному участку северной стороны этого бульвара (от кафе Риша на углу улицы Ле Пелетье до «Парижского кафе» на углу улицы Тебу). Единственным местом, где разные разряды гуляющих парижан могут совпасть в одном пространстве, Монтиньи называет сад Тюильри.
Как уже было сказано в пятой главе, Париж в эпоху Реставрации и при Июльской монархии был поделен на 12 округов и 48 кварталов. Однако помимо административного существовало еще и другое, неформальное деление: разные части города имели различную репутацию.
Один из русских путешественников, В.М. Строев, лаконично сформулировал эти различия: «Тюилери, Вандомская площадь и Елисейские Поля – жилище короля и место гулянья; Шоссе д’Антен, Пале-Рояль и предместие Монмартрское – жилище богатых негоциантов и людей, живущих доходами; Пуассоньерское предместие с окрестностями – здесь живут небогатые семейства, ищущие не веселости, а дешевизны; Лувр и улица Сент-Оноре – убежище среднего класса; Сен-Денисское и Сен-Мартенское предместия – здесь живут рабочие и ремесленники; квартал Тампля – самый дешевый; кварталы Сент-Авуа и Арсис отдалены от шума и движения парижского; в Маре (на Болоте) живут старики и старухи, а в Сент-Антуанском предместии черный народ; остров св. Лудовика не похож на другие части Парижа по своему уединению и бесшумию; Сен-Жерменское предместие – жилище благородных герцогов, перов и всяких аристократов, по рождению, по богатству и по таланту; Латинский квартал – Сорбонна, Медицинская академия и студенты с своими гризетками; Ботанический сад и Обсерватория, предместия Сен-Марсель и Сен-Жак – тут живут ученые и самый простой народ, работающий поденно на фабриках».

Сен-Жерменское предместье. Худ. А. Монье, 1828
Некоторые районы Парижа сохранили свою «специализацию» и по сей день: так, Латинский квартал (на левом берегу Сены) по-прежнему остается студенческим, а остров Сен-Луи (у Строева «св. Лудовика») по-прежнему тих, однако в целом репутация кварталов за полтора столетия изменилась, причем в некоторых случаях весьма радикально.
Например, остров Сите в первой половине XIX века, до грандиозной перестройки Парижа, произведенной префектом Оссманом, выглядел совсем иначе, чем сейчас, когда здесь толпятся туристы. Знаменитый роман Эжена Сю «Парижские тайны», действие которого начинается в ноябре 1838 года, открывается описанием «лабиринта темных, узких, извилистых улочек Сите – прибежища и места встречи всех парижских злоумышленников». Сите глазами Эжена Сю – это «грязная вода, текущая посреди покрытой слякотью мостовой»; «обшарпанные дома с немногими окнами в трухлявых рамах почти без стекол»; «темные крытые проходы, ведущие к еще более темным, вонючим лестницам»; «лавчонки угольщиков, торговцев требухой или перекупщиков завалявшегося мяса»; гулящие девицы, которые в ожидании клиентов прячутся в «крытых арочных входах – сумрачных и глубоких, как пещеры». Это изображение Сите – вовсе не художественное преувеличение романиста, о чем свидетельствует отзыв русского дипломата Д.Н. Свербеева, которого пятнадцатью годами раньше тоже неприятно поразили «теснота, духота, безобразная нечистота, особливо того квартала, в котором находилась церковь Notre-Dame».
Репутация разных кварталов города имела для его жителей огромное значение. Для парижанина 1820–1840-х годов сказать о человеке, что он житель Сен-Жерменского предместья или обитатель Маре, значило дать едва ли не исчерпывающую характеристику его политических убеждений и бытовых пристрастий, его манеры обставлять дом и одеваться. Примерно так же мы сейчас рисуем обобщенный портрет человека, сказав, что он живет на Рублевском шоссе или, напротив, в Южном Бутове.
Пожалуй, самым знаменитым из всех парижских кварталов было Сен-Жерменское предместье. Недаром его иногда называли просто Предместьем (с заглавной буквы). Впрочем, такое именование в XIX веке уже было анахронизмом, так как Сен-Жерменское предместье давно находилось в черте города. Оно располагалось на левом берегу Сены; с востока его ограничивала улица Святых Отцов, с запада – Дом инвалидов, с севера – набережная Сены, с юга – ограда семинарии Иностранных миссий. В состав Предместья входили пять длинных улиц: Бурбонская (с 1830 года – Лилльская), Университетская, Гренельская, Вареннская и Святого Доминика.
С середины XVIII века квартал был заселен аристократами, которые чередовали жизнь в городе с пребыванием в Версале, близ королевского двора. Во время Революции многие жители Сен-Жерменского предместья отправились в эмиграцию, а не успевшие бежать погибли на эшафоте; имущество тех и других было национализировано и распродано. Однако с 1796 года бывшим владельцам начали постепенно возвращать их собственность, а в 1825 году был принят закон о частичной компенсации аристократам стоимости потерянного имущества – «закон о миллиарде для эмигрантов». Полученные средства позволили некоторым семьям отремонтировать свои особняки, и к концу эпохи Реставрации Сен-Жерменское предместье вновь оказалось полностью заселенным. Жизнь в особняке постепенно становилась признаком принадлежности к старинной аристократии (тогда как представители крупной буржуазии предпочитали жить в роскошно обставленных просторных квартирах многоэтажных домов). Одна лишь улица Святого Доминика насчитывала двадцать пять особняков, построенных в XVIII, а то и в XVII веке.
Сен-Жерменское предместье отличалось от других районов французской столицы и манерами своих обитателей, и внешним видом улиц и домов. Английский денди, заглавный герой романа Э. Бульвер-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828), признается: «Я люблю этот квартал. Если только мне доведется еще раз посетить Париж, я непременно поселюсь там. Это особый мирок, совершенно не похожий на те, хорошо знакомые англичанам улицы и переулки, где они по преимуществу обитают. В этом предместье вы действительно находитесь среди французов – среди окаменелых остатков старого строя; вас поражает унылое, но освященное веками величие зданий – там вам нигде не попадется сверкающий белизной, выстроенный в самом модном стиле дворец какого-нибудь nouveau riche [нового богача]. Все, даже неровные булыжники мостовой, дышит надменным презрением к новшествам; стоит вам только перейти один из многочисленных мостов, и вы мгновенно переноситесь в другую эпоху, вдыхаете воздух иного века. <…> Старинные особняки с их угрюмыми фронтонами и горделивым презрением к комфорту; лавки – такие, какими они, по всей вероятности, были в аристократические дни Людовика XIV, прежде чем под влиянием вульгарных британцев лавочники обнаглели, а товары подорожали; общественные здания, по сей день красноречиво свидетельствующие о великой щедрости прославленного grand monarque [великого монарха]; кареты с расписными украшениями и внушительным кузовом; могучие лошади нормандской породы с огромными неподрезанными хвостами; слегка надменные, хоть и весьма учтивые люди, на которых Революция как будто не наложила печати демократического плебейства, – все это оставляет смутное, неясное впечатление седой старины. Даже к веселью там примешивается нечто торжественное, а в роскоши сквозит обветшалость. Там вы видите великий французский народ не изменившимся, не запятнанным общением с ордами тех кочующих многоязычных иноплеменников, что стекаются на великую парижскую ярмарку наслаждений».
Слова «Сен-Жерменское предместье» обозначали не только определенное место на карте Парижа, но и особый стиль жизни, старинное изящество языка и манер. Под Сен-Жерменским предместьем подразумевали те двести-триста парижских семейств, которые могли похвастать древностью рода и дворянских титулов, а также близостью к королевскому двору. Настоящие герцоги и графы из Сен-Жерменского предместья не считали ровней себе не только нуворишей-буржуа, но и представителей имперской знати (которые тоже владели особняками в этом районе Парижа).
После падения Наполеона старые аристократы, при Империи не желавшие служить «узурпатору», вернулись на королевскую службу. Сен-Жерменское предместье располагалось очень удобно для них – прямо напротив Тюильри, так что придворным было достаточно пересечь мост через Сену, чтобы попасть во дворец.
Принадлежать к Сен-Жерменскому предместью значило исповедовать монархистские убеждения, противиться революционным и имперским новациям, иметь за своей спиной множество поколений родовитых предков, возрождать обычаи и стиль жизни Старого порядка. Конечно, особняки, где «дышал дух Сен-Жерменского предместья», встречались и вне этого парижского квартала, так что «человеком Сен-Жерменского предместья» мог оказаться и тот, кто жил в другом районе города. Важен был не адрес, а социальное происхождение. Сен-Жерменское предместье отторгало чужаков, даже если они весьма высоко поднялись по служебной лестнице. Так, богатейший банкир Антуан Руа (состояние которого доходило до 40 миллионов франков), получивший титул графа и звание пэра от Людовика XVIII, в январе 1829 года решил устроить большой бал. Руа, в это время занимавший пост министра финансов, пригласил в свой особняк на улице Риволи, на правом берегу Сены, всю знать Сен-Жерменского предместья, всех придворных. Однако не явился никто из аристократов – за исключением князя де Полиньяка, который казался в доме нувориша «иностранцем, изучающим обычаи и нравы далекой страны».
При Июльской монархии символический смысл выражения «Сен-Жерменское предместье» сделался еще более очевидным. Теперь людьми Сен-Жерменского предместья стали считаться все легитимисты – то есть те аристократы, которые сохранили верность старшей ветви Бурбонов и последовательно бойкотировали власть «узурпатора» Луи-Филиппа. Жители Предместья признавали своими государями только изгнанного короля Карла X и его внука герцога Бордоского. Поэтому, продолжая играть значительную роль в культурной, общественной и даже политической жизни страны, легитимисты порвали с королевским двором: они никогда не присутствовали на балах в Тюильри и не занимали придворных должностей. Дельфина де Жирарден придумала для их жизненной позиции определение, которому было суждено большое будущее в ХХ веке, – «внутренняя эмиграция».

Квартал Маре. Худ. А. Монье, 1828
Сен-Жерменское предместье было кварталом благородным, но не современным. Был на парижской карте и другой квартал, который тоже казался крайне старомодным, но совсем на другой лад. Это квартал Маре. Некогда, в XVII веке, этот район Парижа, окружавший заложенную Генрихом IV Королевскую площадь, слыл новым и модным. Однако в начале XIX века Маре превратился в глухую провинцию внутри Парижа, и столичные щеголи притворялись, что вообще не знают о его существовании.
Англичанка леди Морган в своей второй книге о Франции (1830) отмечает, что «квартал Маре не известен ни фешенебельным дипломатам, ни завсегдатаям Тюильри», а сочинитель «Физиологии провинциала в Париже» (1842) Пьер Дюран (псевдоним Эжена Гино) пишет: «Маре – отдельная провинция, которая не имеет ничего общего с Парижем; жители Маре, как правило, разбираются в парижской жизни даже меньше, чем жители Кемперле или Кастельнодари [провинциальные французские городки]».