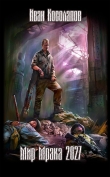Текст книги "Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь"
Автор книги: Вера Мильчина
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Излюбленной темой нравоописательных очерков было отставание квартала Маре от моды. «Пустынник с улицы Шоссе д’Антен» вкладывает в уста «литератора из Маре» такую характеристику своего квартала: «Конечно, моды квартала Шоссе д’Антен становятся известны в Маре не так быстро, как в Вене, Берлине или Петербурге, но в конце концов, по прошествии жалких шести месяцев, знакомимся с ними и мы. Мы с вами просто-напросто проживаем в разных полушариях, а экватором нам служит улица Сен-Дени. Мы – ваши антиподы, а мода – наше общее солнце; оно светит нам не одновременно, но будьте уверены, что рано или поздно его лучи доходят и до нас».
После этого следует перечисление экстравагантных новинок, уже вышедших из моды в более передовых кварталах, но попавших в большой фавор у жителей Маре. Модные новинки доходили до Маре в последнюю очередь и зачастую здесь не приживались. Рядом с кварталом Маре (на бульваре Тампля) располагалось «Турецкое кафе», которое удовлетворяло всем требованиям самого взыскательного и современного вкуса. Однако Л. Монтиньи замечает: «Для такого прекрасного заведения потребна соответствующая публика, между тем у здешних посетителей на лбу написано, что они выросли в Маре; стоит увидеть хотя бы, как они с разинутым ртом восторгаются красотами “Турецкого кафе”. Восторг этот граничит с тупостью, а наряды их, головные уборы и прически не имеют ничего общего с нынешними временами: кажется, будто перед наблюдателем проходит смотр всех фасонов, бывших в моде с 1789 года до наших дней… Это, можно сказать, настоящие пирамиды квартала Маре, его египетские мумии».

Квартал Шоссе д’Антен. Худ. А. Монье, 1828
Выражение «житель Маре» обладало не меньшим символическим смыслом, чем слова «житель Сен-Жерменского предместья»; «жителями Маре» именовали узколобых ханжей и скряг. У Бальзака есть повесть «Побочная семья» (1830), главный герой которой, прокурор Гранвиль, женившись на набожной провинциалке, поселяется в Маре. Он «хоронит себя» в этой глуши по воле жены, однако собственные пристрастия влекут его в другие районы Парижа. Поэтому для своей любовницы Гранвиль снимает квартиру в квартале Шоссе д’Антен, где «все молодо и полно жизни, где моды являются во всей своей новизне, где по бульварам гуляет элегантная публика, а до театров и прочих развлекательных заведений рукой подать».
«Молодой» квартал Шоссе д’Антен располагался на правом берегу Сены, между бульваром Итальянцев и улицей Сен-Лазар. На востоке границей квартала служили улицы Монмартского Предместья и Мучеников, на западе – улицы Аркады и Утеса. Еще в начале XVIII столетия на этом месте (в ту пору район носил название Поршероны) располагался большой лесной массив, принадлежавший частично откупщикам, а частично – аббатству Монмартрских Дам. В 1720 году все эти земли разделили на участки для продажи и начали застраивать; постепенно новый квартал начали именовать Шоссе д’Антен (по названию его главной улицы). Финансисты и художники охотно селились здесь еще со второй половины XVIII века, однако пора активной застройки квартала Шоссе д’Антен наступила только в эпоху Реставрации.
Предприниматель Лаперьер, главный сборщик налогов департамента Сена, вместе с архитектором Константеном застроил Белую улицу, улицы Пигаля, Башни Монмартрских Дам, Ларошфуко, Сен-Лазар и Тебу. Чтобы привлечь покупателей, Лаперьер в начале 1820-х годов придумал для части нового квартала, располагавшейся между улицами Ларошфуко и Башни Монмартрских Дам с одной стороны и улицами Белой и Сен-Лазар с другой, название «Новые Афины». Лаперьер обыграл симпатии своих соотечественников и к современным грекам, восставшим против турецкого ига, и к древнегреческой культуре: парижанам XIX века лестно было чувствовать себя преемниками древних афинян. Застройкой соседней части квартала Шоссе д’Антен, получившей название Сен-Жорж (между улицами Ларошфуко и Мучеников), занимался биржевой маклер Алексис-Андре Дон (с 1833 года тесть Адольфа Тьера – политического деятеля, который при Июльской монархии дважды, в 1836 и 1840 годах, возглавлял кабинет министров).
Среди обстоятельств, привлекавших парижан в квартал Шоссе д’Антен, самым существенным была близость Бульваров, которые к этому времени превратились в коммерческий и развлекательный центр Парижа, причем Парижа нового. Русский дипломат Г.-Т. Фабер в своем «Взгляде на состояние общественного мнения во Франции в 1829 году» очень точно выразил то ощущение, которое испытывал путешественник, очутившийся в квартале Шоссе д’Антен: «В течение одного вечера, переместившись из Сен-Жерменского предместья в квартал Шоссе д’Антен, попадаешь из пятнадцатого или шестнадцатого века в год 1789-й. Достаточно пересечь Сену по мосту, чтобы очутиться у антиподов».
Новый квартал населяли, во-первых, богатые банкиры и промышленники, а во-вторых, люди искусства. На улице Артуа в особняке, принадлежавшем до Революции откупщику Лаборду, жил банкир Жак Лаффит; в 1830 году он активно поддержал Июльскую монархию, и потому улица получила его имя (которое носит и поныне). По соседству с Лаффитом с середины 1830-х годов жили в собственных особняках банкиры братья Ротшильд (Джеймс и Соломон), а также управляющий Французского банка Жозеф Перье (брат премьер-министра Казимира Перье). Среди именитых жителей квартала Шоссе д’Антен следует назвать промышленников Давилье и Бенжамена Делессера (брата префекта полиции, о котором шла речь в главе пятой), банкиров Оттингера, Боше и Агуадо, биржевых маклеров Татте и Бурдона де Ватри. Наконец, упомянутый выше Адольф Тьер выстроил на площади Сен-Жорж особняк для своего семейства и для родителей своей жены.
Список творческих людей, живших в квартале Шоссе д’Антен, состоит из имен еще более славных: художники Делакруа, Жерико, Орас Верне, Поль Деларош, Ари Шеффер, актеры Тальма и Арналь, актрисы мадемуазель Марс и мадемуазель Дюшенуа, певица Полина Виардо и танцовщица Тальони, певцы Дюпре и Роже, писательница Жорж Санд и композитор Шопен. Некоторые из «артистических» домов в этом квартале пользовались особенно шумной известностью. Например, мадемуазель Марс в 1824 году приобрела особняк на углу улицы Башни Монмартрских Дам и улицы Ларошфуко. 21 марта 1827 года она устроила в нем бал-маскарад, который стал заметным событием светской жизни Парижа и даже удостоился отчетов в прессе. Свыше тысячи гостей танцевали в залах и прогуливались по галерее, которая вела «в элегантную теплицу, где в любое время года можно насладиться благоуханием цветов и экзотических растений» (газета «Пандора»). К услугам гостей были разнообразные буфеты и стол на 25 персон, на котором в течение ночи постоянно обновлялись кушанья и приборы. Актеры, литераторы и художники веселились бок о бок с аристократами и финансистами, причем все гости были одеты в самые живописные костюмы – тирольские и неаполитанские, турецкие и китайские, и даже в наряды олимпийских богов.
Таким образом, квартал Шоссе д’Антен был богатым и модным; переезжая сюда, человек демонстрировал всему Парижу, что высоко поднялся по социальной лестнице и живет «наравне с веком». Характерная зарисовка дана в одном из очерков «Пустынника с улицы Шоссе д’Антен»: у молодой жены богатого банкира есть все: «шалей целые сундуки, платья – счету нет, головной убор что ни день, то новый». Бытописатель продолжает: «Чего же, кажется, недоставало ей? Но при пышном туалете, в обществе людей, на балах, в опере и на гуляньях причудница скучает! Судорожное движение нервов и припадки истерики мучат ее. Какая же всему этому причина? Тщеславие! Ей стыдно стало жить в прекрасном доме, на прекрасной улице, но в соседстве с портным!.. И вот она до тех пор больна тоскою, пока муж не купит ей дом на Шоссе д’Антен» (перевод Ф.Н. Глинки).
Однако для некоторых жителей квартала Шоссе д’Антен он вовсе не был пределом мечтаний. Одна из героинь романа Бальзака «Отец Горио» (1835), Дельфина де Нусинген, «готова вылизать всю грязь из луж от улицы Сен-Лазар до Гренельской улицы», лишь бы ее приняла живущая на этой улице виконтесса де Босеан. Чтобы понять эту фразу, нужно знать социальную и символическую географию Парижа. Дельфина – дочь фабриканта вермишели Горио, вышедшая замуж за банкира Нусингена. Она живет на улице Сен-Лазар, в богатом квартале Шоссе д’Антен, но ей этого мало; ее мечта – быть принятой в аристократическом Сен-Жерменском предместье.

Предместье Сент-Оноре. Худ. А. Монье, 1828
Бальзаковская героиня была далеко не единственной, кого посещали подобные желания. Поэтому в Париже часто заключались взаимовыгодные браки между жителями разных кварталов: знатные, но бедные невесты выходили за богатых, но неродовитых женихов, а невесты состоятельные, но рожденные в буржуазных семьях, – за женихов родовитых, но небогатых. Ситуация эта была такой распространенной, что нашла отражение в литературе. В 1827 году на сцене Французского театра комедии с успехом шла пьеса «Три квартала», первый акт которой происходит в доме торговца из Маре, второй – у банкира из квартала Шоссе д’Антен, а третий – у маркизы из Сен-Жерменского предместья. В каждом из этих домов есть девушка на выданье, причем все три невесты воспитывались вместе в одном и том же монастыре. Судьбы их, однако, складываются по-разному: дочь торговца выходит замуж за приказчика своего отца и остается в родном Маре, сестра банкира выходит за знатного, но бедного виконта, обитателя Сен-Жерменского предместья, а племянница маркиза – за банкира из квартала Шоссе д’Антен.
Еще один квартал, который современники воспринимали как единое целое, хотя он и не имел столь ярко выраженной репутации, как Сен-Жерменское предместье или Шоссе д’Антен, – это предместье Сент-Оноре. Как и Сен-Жерменское предместье, оно располагалось в самом центре города, но не на левом, а на правом берегу Сены. Границами этого квартала служили Вандомская площадь и бульвар Мадлен, улицы Предместья Сент-Оноре, Анжуйская Сент-Оноре и Королевская Сент-Оноре. В предместье Сент-Оноре жили представители той либеральной аристократии, которая не стремилась восстановить старые, дореволюционные порядки, а в 1830–1840-е годы охотно сотрудничала с «июльским» режимом. Кроме того, здесь проживали дипломаты и богатые иностранцы, такие как княгиня Багратион, или дочь английского адмирала Кейта, вышедшая за графа Шарля де Флао (побочного сына Талейрана), или итальянка, покровительница художников и музыкантов, княгиня Бельджойозо. Здесь же обитали прославленные французские политики – дипломат Талейран и «герой Старого и Нового Света», участник американской Войны за независимость и двух французских революций (1789 и 1830 годов) генерал де Лафайет.
Существовали в Париже и такие кварталы, которые были почти полностью отданы индустрии развлечений. Два из них достойны отдельного рассказа – Пале-Руаяль и парижские Бульвары.
О Пале-Руаяле русский путешественник Н.С. Всеволожский сказал: «это целый город, и город богатый, роскошный, составившийся и существующий в сердце Парижа».
Пале-Руаяль (Palais-Royal, то есть Королевский дворец) вначале назывался Palais-Cardinal (Кардинальский дворец), так как был построен в 1629–1633 годах для кардинала Ришелье, но по завещанию первого владельца, умершего в 1642 году, перешел во владение короля Людовика XIII и его прямых наследников. В 1692 году Людовик XIV подарил Пале-Руаяль своему брату Филиппу, герцогу Орлеанскому, и с тех пор дворец принадлежал Орлеанской династии. В начале 1780-х годов потомок и тезка герцога Филиппа Орлеанского выстроил по трем сторонам сада, прилегающего к дворцу, галереи с аркадами; в честь сыновей герцога они получили название Валуа (с восточной стороны сада), Божоле (с северной) и Монпансье (с западной). Чтобы расплатиться с долгами, 60 помещений в этих галереях герцог продал, и с тех пор Пале-Руаяль (или Пале-Рояль, как называли его русские мемуаристы XIX века) сделался одним из центров парижской торговли и индустрии развлечений. Здесь, «в средоточие шума, бегания, девок, новостей, роскоши, нищеты, разврата» (К.Н. Батюшков), располагались лавки, кафе, рестораны, игорные дома и даже бордели. Каждое заведение занимало одну, а самые богатые – несколько аркад.
В 1784 году из-за недостатка средств с южной стороны сада была возведена галерея не каменная, а деревянная (парижане прозвали ее «Татарским лагерем»). Она пользовалась дурной славой, поскольку здесь было немало притонов, где посетители имели особенно много шансов стать жертвой воров и жуликов. Впрочем, в XIX веке здесь же размещались и заведения более чем почтенные, например лавка известного книгопродавца Дантю и продуктовая лавка г-жи Шеве, куда из разных концов света доставлялись деликатесы, способные удовлетворить самого взыскательного гурмана.
Конфискованный во время Революции, дворец Пале-Руаяль уже 18 мая 1814 года был возвращен законному владельцу. Луи-Филипп пригласил архитектора Фонтена, который в течение восемнадцати лет приводил в порядок и перестраивал дворец. Кроме того, в 1826–1828 годах Деревянная галерея, насквозь проеденная крысами, была снесена, и на ее месте в течение 1829–1831 годов выстроена галерея, получившая название Орлеанской. Тогда же префект Дебеллем принудил торговцев удалить с фасадов своих заведений вывески, фонари и прочие украшения, заслонявшие аркады.
Представление о том, как выглядела Деревянная галерея Пале-Руаяля в начале 1820-х годов (когда ее реконструкция еще не началась), можно получить по отрывку из романа Бальзака «Утраченные иллюзии»: «Это бараки или, точнее, дощатые лачуги, неряшливо крытые, скудно освещенные слабым светом, пробивающимся со стороны двора и сада сквозь щели, именуемые окнами, но более похожие на грязные отдушины харчевен за парижскими заставами. Лавки образовывали две галереи высотою около двенадцати футов. <…> И со стороны двора, и со стороны сада вид этого причудливого дворца являл самый наглядный образец парижской неопрятности: облезшая клеевая краска, отвалившаяся штукатурка, ветхие вывески, фантастические объявления. Наконец, парижская публика немилосердно пачкала зеленые решетки как до дворе, так и в саду. <…> Прекрасная каменная галерея, ведущая к Французскому театру, представляла в ту пору узкий проход, чрезвычайно высокий и с плохим перекрытием, не защищавшим от дождя. Она называлась Стеклянной галереей, в отличие от галереи Деревянной. Кровля над этими вертепами находилась в столь плохом состоянии, что против Орлеанов был возбужден процесс известным торговцем кашемировыми шалями и тканями, у которого в одну ночь было испорчено товаров на значительную сумму. Торговец выиграл тяжбу. Просмоленный холст, натянутый в два ряда, местами заменял крышу. В Деревянной галерее, так же как и в галерее Стеклянной, полом служила натуральная парижская почва, удобренная слоем земли, занесенной на сапогах и башмаках прохожих. Тут люди поминутно проваливались в ямы, спотыкались о бугры затверделой грязи, без устали подчищаемой торговцами, и от новичка требовалась известная сноровка, чтобы не упасть. <…> В продолжение двадцати лет биржа собиралась напротив, в нижнем этаже дворца. Стало быть, здесь составлялось общественное мнение, создавались и рушились репутации, заключались политические и финансовые сделки. <…> Там были только книжные лавки, поэзия, политика, проза, модистки, а вечером там появлялись публичные женщины. Там процветали новости моды и книги, новые и старые светила, заговоры Трибуны и выдумки книжной торговли. Там продавались новинки, и парижане упорно желали их покупать только здесь. <…> Так как отопить помещение было невозможно, торговцы пользовались жаровнями, и каждый представлял сам себе пожарную охрану, ибо при малейшей неосторожности в четверть часа могло сгореть все это царство досок, высушенных солнцем и как бы накаленных пламенем проституции, наполненных газом, муслином, бумагами, обвеваемых сквозным ветром. Модные лавки ломились от непостижимых шляпок: сотнями выставленные на металлических стержнях, увенчанных грибом, созданные, казалось, скорее для витрин, чем для продажи, они оживляли галереи радугою красок. В течение двадцати лет прохожие спрашивали себя: на чьих головах эти пропитанные пылью шляпы окончат свое жизненное поприще? <…> Книгопродавцы и модистки жили в добром согласии. В пассаже, пышно именуемом Стеклянной галереей, гнездились самые своеобразные промыслы. Там обосновались чревовещатели, всякого рода шарлатаны, зрелища, где нечего было смотреть, и зрелища, где вам показывали весь мир. <…> Лишь только собиралась публика, молодые люди, безденежные, изголодавшиеся по литературе, приступали к дармовому чтению книг, выставленных у дверей книжных лавок. Приказчики, обязанные оберегать лотки с книгами, милосердно дозволяли бедным людям перелистывать страницы. <…> Великими и единодушными сожалениями сопровождалось разрушение этих отвратительных дощатых бараков».

Галерея Пале-Руаяля. Худ. О. Пюжен, 1831
После Революции 1830 года Луи-Филипп, провозглашенный королем французов, вынужден был перебраться из родового гнезда во дворец Тюильри, более подобающий королю, но дворец и сад Пале-Руаяля все равно остались его собственностью. «Одно только право сдать внаем стулья в саду приносит королю-гражданину 32 000 франков в год», – сообщает в 1832 году Э. Рош в очерке из сборника «Париж, или Книга ста и одного автора». Стулья получали за небольшую плату те, кому не хватало бесплатных мест на каменных скамейках, расположенных вдоль аллей. В летнее время на лужайке в центре сада были расставлены круглые столики с мороженым, которое пользовалось у посетителей большим спросом. Право торговать в саду напитками и мороженым имел только владелец кафе Фуа в галерее Монпансье, причем первоначально ему не разрешено было ставить в саду столики, и вместо них использовались стулья. В саду Пале-Руаяля находился также полукруглый павильон с колоннами под названием «Ротонда», который был возведен владельцем кафе «Погребок», расположенного в галерее Божоле. Здесь же, в саду, стояли еще три небольших павильона: в двух можно было за небольшую плату получить для прочтения свежие газеты, третий же, состоявший из восьми кабинок, предназначался для удовлетворения нужд менее возвышенных; впрочем, появился он здесь не раньше 1830-х годов.
Кафе, рестораны и магазины Пале-Руаяля славились не только среди парижан, но и среди иностранцев, охотно посещавших здешние галереи. Из заведений Пале-Руаяля особенно широкую известность имели рестораны Вери, Вефура и Провансальских братьев, кофейня «Тысяча колонн», кофейни Фуа, Ламблена, Валуа, «деликатесные» продуктовые лавки Корселле и Шеве.
Здесь же к услугам любителей рисковать были игорные заведения, а до начала 1830-х годов в Деревянной галерее функционировало множество публичных домов разного класса и уровня. Однако при «июльском» режиме «нимф радости, которых бесстыдство превышает всё» (как писал о них русский поэт Батюшков) отсюда удалили, что придало Пале-Руаялю вид гораздо более пристойный и буржуазный.
Л. Монтиньи в 1825 году писал: «Если Париж, как неоднократно утверждали, есть столица мира, то квартал Пале-Руаяля есть повторение Парижа в миниатюре». Местоположение квартала давало ему огромные преимущества. Монтиньи уточнял: «Поблизости раскинулся прекрасный парк Тюильри; неподалеку пролегают прекраснейшие из бульваров; в Пале-Руаяле работают пять театров: Французский театр, Королевская академия музыки [Французская опера], Комическая опера, Итальянская опера и малый театр Водевиля, а шестой, театр Варьете, располагается поблизости [на Монмартрском бульваре, дом 7]; главнейшие заведения столицы: Биржа, Библиотека, Банк, Казначейство и Почта – также находятся по соседству. В этом же квартале имеют свои станции главные почтовые конторы, а по меньшей мере три пятых всех домов превращены в меблированные квартиры».
Хотя к 1830-м годам у Пале-Руаяля появились конкуренты (прежде всего Бульвары, о которых речь пойдет чуть ниже), его слава не померкла. Больше того, в эту пору Пале-Руаяль воссиял не только в переносном, но и в прямом смысле. Э. Рош замечает в 1831 году, что с тех пор, «как был изобретен способ проводить газ по трубам, словно воду из Сены», более двухсот светильников стали проливать свет на сад и аркады галерей. Магазины после введения газового освещения (о котором подробнее говорится в главе десятой) засияли ярче прежнего, причем все продаваемые там сокровища – золото и сталь, серебро и хрусталь, шелк и драгоценные камни – отражались в бесчисленных зеркалах.
Пале-Руаяль был предназначен для приятного времяпрепровождения и для торговли предметами роскоши. Русский мемуарист Н.С. Всеволожский замечает: «Пале-Рояль сосредоточивает в себе всю роскошь, все наслаждения, все прихоти, какие только можно пожелать». А французский литератор Э. Рош пишет: «Потрясенный иностранец задается вопросом, не представляет ли собою весь Пале-Руаяль не что иное, как огромный базар, или, может быть, где-то здесь прячется тайное, невидимое обычному взгляду пространство, в котором жители могли бы наслаждаться покоем и сном. Нет, такого пространства в Пале-Руаяле не существует; промышленность захватила его весь целиком: на первом этаже расположились магазины; над ними к услугам посетителей бани, игорные дома, рестораны, бильярдные залы, кофейные заведения, кабинеты для чтения, выставки; а верхние этажи отданы артистам всякого рода: художникам, граверам, дантистам, парикмахерам и проч., а также некоторому числу султанш, которым суровая полиция предписывает в течение дня обозревать театр своих предполагаемых побед лишь из окошек. Семьи простых буржуа не могут поселиться в Пале-Руаяле, как поселились бы они в любом другом уголке Парижа; здесь селятся только торговцы, только те, для кого вся жизнь сводится к торговле; всякий, кто избирает Пале-Руаяль местом жительства, лишает себя тем самым возможности наслаждаться домашним уютом, отказывается раз и навсегда от радостей отдыха в семейном кругу; напротив, он обрекает себя на необходимость постоянно иметь дело с посетителями, с публикой, ему приходится тесниться, уступая место товарам и покупателям; в Пале-Руаяле живут не для того, чтобы жить, а для того, чтобы торговать. <…> Взгляд наблюдателя узнает здесь приезжих из самых разных стран, провинциалов из самых разных департаментов, холостяков, студентов, изгнанников, политических смутьянов, наконец, авантюристов, надеющихся на счастливый случай, который позволит им поесть, побывать в театре или вкусить иных удовольствий».
День в Пале-Руаяле, как и во всем Париже, подчинялся определенному ритму, и одни группы посетителей сменяли другие по заведенному порядку. Самым ранним утром, до десяти часов, сад принадлежал школьникам и нянькам с детьми. Около десяти утра являлись читатели газет, к услугам которых были павильоны, торгующие периодическими изданиями или, за меньшую плату, предоставляющие их для чтения здесь же в саду. Затем заполнялись залы кофеен, ибо у парижан уже в 1820-е годы появилась привычка плотно завтракать в этих заведениях. В полдень раздавался выстрел пушки, установленной в саду Пале-Руаяля, и по нему парижане сверяли часы. К этому времени сад заполнялся как праздными фланерами, так и прохожими, идущими по делам. К пяти наступало время обеда в ресторациях, а отобедав, посетители отправлялись в театры.
Мало кто мог устоять перед соблазнами Пале-Руаяля. Ф.Н. Глинка свидетельствовал в «Письмах русского офицера»: «В сем-то Пале-Рояле человек может найти все, что нравится благородному и низкому вкусу, все, что крепит и разрушает здоровье, все, что украшает и зарезывает время и наконец, все, что питает развратные склонности и выманивает из сердца добрые навыки, а из кошелька – деньги! <…> Войдем в славные здешние галереи. Они очень длинны и очень нешироки. Тут вечная ярмарка!.. Люди всякого состояния, всяких лет и всяких народов шумными толпами теснятся взад и вперед. Тысяч по двадцати выходит ежечасно, и в течение года весь миллион парижских жителей верно тут побывает. <…> Тут всегда множество людей едят и пьют всех родов прохладительные, а другое множество гуляет в саду. Во втором этаже залы наполнены всеми средствами терять деньги, преимущественное из всех есть игра в рулетку. Тут же, подле, заемный банк. В одну минуту можно занять и разбогатеть, в другую проиграть и обеднеть». Два десятка лет спустя те же ощущения испытал Н.С. Всеволожский: «Под арками и перед лавками знаменитое гулянье, куда сбираются ежедневно праздные и деловые жители Парижа; первые зевают на лавки и смотрят сквозь стекла на все сокровища, в них разложенные: тут галантерейные и модные магазины, там собрания редкостей, книжные лавки; тут съестные припасы, лакомые и дорогие у Шеве, у Корселя [Корселле]; невольно заглядишься и промотаешь что-нибудь, то есть купишь по большей части не нужное».
В 1814 году, когда войска антинаполеоновской коалиции вошли в Париж, лавки и в особенности игорные заведения Пале-Руаяля пользовались огромной популярностью среди русских, прусских, английских военных. Маршал Блюхер, по легенде, однажды проиграл за вечер в игорном заведении галереи Валуа полтора миллиона франков. Это дало злым языкам повод говорить, что союзники оставляют во французских игорных домах и домах терпимости суммы куда большие, чем те, какие получили в виде контрибуции от французского правительства (на самом деле, разумеется, контрибуция была куда значительнее: ее общая сумма равнялась 700 миллионам).
Таков был Пале-Руаяль до запрещения азартных игр и до вынесения публичных домов на окраину города. Однако к концу 1830-х годов обстановка здесь изменилась. В.М. Строев, побывавший в Париже в 1838–1839 годах, свидетельствует: «Недавно еще Пале-Рояль считался первым местом в Париже для прогулки, веселья, пиров. Теперь он стал спокойнее, смирнее. Игорные домы, перед которыми толпились тысячи искателей счастия и богатства, закрыты. Прелестницы, выставлявшие себе напоказ и привлекавшие приезжих, выгнаны. Пале-Рояль очищен от разбоя игры и сладострастия. Если он потерял в многолюдстве, то стал чище, опрятнее, пристойнее. Теперь можно гулять по его красивым галереям с женою и дочерью; можно пустить в Пале-Рояль молодого человека, не боясь, что он проиграется в пух и не воротится домой. Бывали примеры, что несчастные игроки стрелялись у дверей самих игорных домов. Бывали случаи, что отцы семейств живали по месяцам в приютах неги и сладострастия, забывая жен и детей, и выходили из Пале-Рояля без кошелька, без часов, в долгах. Теперь нет ни заманчивых карт, ни приманчивой красоты: в Пале-Рояле ходишь свободно, безопасно; ничто и никто не поджигает страстей. Но парижанам не понравилось изгнание карт и разврата; они оставили Пале-Рояль и ищут развлечения на бульварах, куда переселились красавицы, и в домишках, где скрывается картежная игра под непроницаемою тайною. <…> Одни иностранцы и приезжие платят дань Пале-Роялю. Нельзя же, приехав в Париж, не посмотреть на хваленое чудо; а придя в Пале-Рояль, нельзя не соблазниться, не купить миленьких вещиц, выставленных хазовою [выигрышной] стороною и с ослепительным блеском. Французы, гуляющие в Пале-Рояле, смеются над приезжими провинциями и путешественниками, а торговцы набивают карманы, и слава Пале-Рояля цветет по-прежнему, хотя он уже не похож сам на себя».
Помимо Пале-Руаяля было еще одно место, которое всякий современник, описывавший Париж эпохи Реставрации и Июльской монархии, непременно упоминал наряду с отдельными улицами и площадями, пассажами и набережными. Это Бульвары. Репутация Бульваров к этому времени уже сложилась: они воспринимались как центр роскоши и развлечений, как одно из самых модных торговых и веселых мест в городе.
Наименование Большие бульвары закрепилось за улицами, о которых здесь пойдет речь, лишь во второй половине XIX века, после того как в 1860 году в состав Парижа были включены так называемые внешние бульвары. В первой половине XIX века такой оговорки не требовалось: участок правобережного Парижа, идущий от площади Бастилии до площади Мадлен, назывался просто Бульварами.
Строго говоря, кольцо бульваров проходило и по левому берегу. Там располагались «южные» бульвары: Больничный, Монпарнасский, Сен-Жак. Они были задуманы Людовиком XIV еще в начале XVIII века, а проложены в 1760-е годы. Однако если парижанин или приезжий говорил, что собирается на Бульвар или только что вернулся с Бульвара (по-французски это слово употреблялось в единственном числе), никому и в голову бы не пришло, что он имеет в виду какой-нибудь из левобережных бульваров. Под Бульваром или Бульварами (с большой буквы) подразумевалось совсем другое, совершенно особенное место, предназначенное для приятного времяпрепровождения.
Возникли Бульвары во второй половине XVII века, когда на месте разрушенной крепостной стены были устроены широкие (шириной около 36 метров) аллеи для прогулок, обсаженные несколькими рядами деревьев. Они обозначали официальную границу Парижа на правом берегу; за ними начинались предместья (faubourgs), которые до 1702 года не входили в состав Парижа, хотя были тесно с ним связаны (в отличие от самостоятельных поселений – bourgs). Поэтому улицы, шедшие из центра города, при пересечении Бульваров меняли свои названия: улица Сен-Дени превращалась в улицу Предместья Сен-Дени, улица Тампля – в улицу Предместья Тампля и т. д. Бульвары начинались от площади Бастилии и продолжались до нынешней площади Мадлен. В состав этого полукольца входили следующие участки: бульвар Дев Голгофы, бульвар Тампля, бульвары Сен-Мартен, Сен-Дени, Благой Вести, Рыбный, Монмартрский, Итальянцев, Капуцинок, Мадлен.
До конца XVIII века Бульвары были почти деревенской окраиной Парижа, и посещали их только любители прогулок на свежем воздухе. В отличие от узких и темных улочек центра Парижа, Бульвары были широкими и светлыми. Постепенно здесь стали появляться развлекательные заведения: панорамы (на углу Монмартрского бульвара и только что проложенного пассажа, который так и назвали: пассаж Панорам), кабинет восковых фигур Курция, театры марионеток и канатоходцев. В театрах на Бульварах вообще не было недостатка: на одном только бульваре Тампля в середине 1830-х годов работали два драматических театра, один цирк (в ту эпоху приравнивавшийся к театру) и два театра мимов и канатоходцев. На бульваре Сен-Мартен находились театры «Амбигю комик» и «У ворот Сен-Мартен», на бульваре Благой Вести – «Драматическая гимназия», на Монмартрском бульваре – театр «Варьете», и это далеко не полный список. Многие театры закрывались, а потом открывались вновь, и жизнь на бульварах кипела.