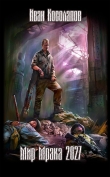Текст книги "Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь"
Автор книги: Вера Мильчина
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Реакция на новый памятник «королю-солнцу» была неоднозначной. В.М. Строев, например, увидел в нем не более чем скверное подражание петербургскому Медному всаднику: «На площади Побед стоит конная статуя Лудовика XIV, произведение плохое, тяжелое. Король сидит на коне, который поднялся на дыбы; видно, что художник подражал превосходному памятнику, воздвигнутому в Петербурге императрицею Екатериною. Фельдмаршал Фельяд, из благодарности к королю, купил несколько домов, срыл их, заложил площадь и поставил на ней статую своему государю. Он даже оставил значительную сумму на освещение памятника и на позолоту его, когда будет нужно. Революция разрушила статую Лудовика и поставила тут изображение генерала Дезе. Бурбоны возобновили прежний памятник в 1822 году, поручив его скульптору Бозио, который долгом почел занять мысль и даже форму у нашего петербургского памятника. Но между обоими произведениями нет никакого сравнения: у нас конь летит, едва касаясь земли; в Париже лошадь приросла к пьедесталу и видно, что она не хочет двинуться с места. Фигура Петра величественна, как бы в лучах славы; фигура Лудовика горда, надменна; в ней более чванства, чем величия. Наш памятник от парижского, как небо от земли».
В 1829 году на Королевскую площадь вернули памятник Людовику XIII, стоявший там с 1639 года. Он тоже был разрушен во время Революции, и в эпоху Реставрации было решено реконструировать его в прежнем виде. Эту работу скульпторам Корто и Дюпати поручили еще в 1816 году, но закончена она была лишь через 13 лет. Новый-старый памятник, изготовленный из огромной глыбы белого каррарского мрамора, был открыт 4 ноября 1829 года (в День святого Карла); то были последние именины Карла X, отпразднованные во Франции: на следующий год в этот день он из короля уже превратился в изгнанника. Памятник Людовику XIII также разочаровал нашего соотечественника В.М. Строева: «В самом отдаленном квартале, на Королевской площади, стоит статуя Лудовика XIII из белого мрамора. Трудился над нею известный Дюпати, но выбрал мысль плохую и выполнил ее худо. Король, верхом на коне, держит в руках уздечку. Конь толст, жирен, неуклюж, всеми ногами прикован к пьедесталу. Что хотел представить художник? Простую прогулку короля? Такая мысль не годится для памятника. Кругом площади бедная железная решетка, изломанная, ветхая. Пора бы подумать о поправках. Уж лучше вовсе не иметь памятников, чем держать их в черном теле».
У властей эпохи Реставрации был еще один замысел – установить памятник жертве Революции королю Людовику XVI на том самом месте, где до Революции возвышался памятник Людовику XV, а в 1793 году стояла гильотина, которая и пресекла жизнь короля. 27 апреля 1826 года Карл X издал ордонанс о переименовании площади Людовика XV в площадь Людовика XVI; 3 мая того же года в ходе религиозной процессии был заложен памятник королю-мученику. Однако к 1830 году был закончен только пьедестал задуманного памятника, а после Июльской революции о продолжении работы не могло быть и речи. Площадь вновь стала называться так же, как в 1795–1814 годах, – площадью Согласия, а в ее центре был воздвигнут Луксорский обелиск, подаренный Франции египетским пашой Мехметом-Али в 1831 году. Торжественно открытый 25 октября 1836 года, обелиск стал одним из главных элементов общего убранства площади Согласия, которое было спроектировано архитектором Жаком Итторфом.

Слон на площади Бастилии. Проект архитектора Ж.-А. Алавуана, 1809–1810
В эпоху Реставрации не осуществился еще один проект «монументальной пропаганды» властей – воздвигнуть мавзолей на том месте, где вечером 13 февраля 1820 года был убит герцог Беррийский. Чересчур пышный мавзолей не понравился вдове герцога; она предпочла соорудить в память о нем простую часовню, однако Июльская революция помешала и этому плану. По той же причине на Круглой площади Елисейских Полей не появился памятник Людовику XV, а на площади Бурбонского Дворца – статуя Людовика XVIII (за установление которой в октябре 1824 года, вскоре после смерти короля, проголосовал Муниципальный совет Парижа).
В эпоху Реставрации не успела обрести окончательного оформления и площадь Бастилии. В 1820-х годах здесь возвышался громадный слон – макет из дерева и гипса, который был установлен еще при Наполеоне в ожидании той поры, когда его заменит бронзовый слон-фонтан, призванный снабжать горожан водой. Однако эта идея не понравилась префекту департамента Сена Шабролю. Он задумал украсить площадь Бастилии другим, «патриотическим» фонтаном – колоссальной статуей, символизирующей Париж, в окружении четырех фигур, изображающих главные реки Франции. Однако после 1830 года идея фонтана была отброшена. Вместо него на площади Бастилии решили воздвигнуть колонну в память о героях, павших во время «трех славных дней» Июльской революции. Колонну эту строили семь лет (1833–1840), причем начинал ее проектирование архитектор Алавуан (до этого как раз закончивший седьмой проект фонтана-слона), а закончил другой архитектор, Дюк. Под основанием колонны был устроен склеп, куда торжественно перенесли останки 504 жертв, отдавших жизнь за революцию. Между тем макет слона так и стоял на площади, чуть в стороне от колонны, и медленно разрушался; лишь в 1847 года он наконец был продан за 4000 франков и разобран. Облик его запечатлел Виктор Гюго в романе «Отверженные»: «Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и гипса, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, теперь же небо, дождь и время перекрасили его в черный. <…> Это было какое-то исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах ввысь, рядом с невидимым призраком Бастилии. <…> Слон разрушался с каждым годом; отваливавшиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса. Высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря тому медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним».
Июльская колонна была отнюдь не единственным монументом, воздвигнутым в Париже при Луи-Филиппе. Еще до ее окончания, 29 июля 1836 года, в шестую годовщину Июльской революции, на площади подле заставы Звезды была торжественно открыта Триумфальная арка. Возвести в Париже арку в честь побед французской армии задумал еще Наполеон в 1806 году, после сражения при Аустерлице. Первый камень Триумфальной арки был заложен в августе того же года, однако ни при Империи, ни в эпоху Реставрации достроить ее не успели; только к 1836 году было закончено оформление арки барельефами, изображающими воинские подвиги времен Революции и Империи.
Триумфальная арка напоминала французам о былой славе их отечества; превознося победы Наполеона, власти чутко реагировали на те настроения народа, о которых Генрих Гейне писал еще в конце 1831 года во «Французских делах»: «За пределами Франции не имеют никакого представления о том, как еще сильно привязан к Наполеону французский народ. Наполеон – это для французов магическое слово, которое электризует их и оглушает. <…> Как евреи не произносили всуе имени бога своего, так и Наполеона редко называют здесь по имени, и зовут его чаще Человек, l’homme. Но повсюду можно видеть его изображения – из металла, из дерева, из гипса, на гравюрах и во всевозможных видах».
Луи-Филипп не хотел воевать и даже получил ироническое прозвище «Наполеон мира». Однако он позволял французам гордиться своими былыми победами и потому воздавал Наполеону всевозможные почести. Когда в 1833 году статую императора вернули на вершину Вандомской колонны, король первым воскликнул: «Да здравствует император!» Апофеозом этой политики стал перенос праха императора с острова Святой Елены в Париж, в собор Инвалидов (это событие состоялось 15 декабря 1840 года).
При Июльской монархии в Париже была завершена не только Триумфальная арка, но и еще две монументальные постройки, начатые в предшествующие эпохи: церковь Мадлен и Пантеон, вновь превращенный из церкви Святой Женевьевы в усыпальницу великих людей и украшенный новым фронтоном. «Король французов» активно поощрял строительство в Париже. Генрих Гейне свидетельствовал в статье 1833 года: «Художники все жалуются на чрезмерную скупость короля. Говорят, он, будучи герцогом Орлеанским, более ревностно покровительствовал искусствам. Ворчат, что он заказывает сравнительно слишком мало картин и платит за них сравнительно слишком дешево. Однако, если не считать короля баварского, он лучший ценитель искусства среди монархов. Сейчас, быть может, его ум слишком уж охвачен политикой, чтобы он мог заниматься искусством так же ревностно, как прежде. Но если несколько поостыла его страсть к живописи и скульптуре, то любовь его к архитектуре приняла почти неистовые формы. В Париже никогда столько не строилось, сколько строится сейчас по воле короля. Всюду возводятся новые здания, прокладываются совершенно новые улицы. В Тюильри и в Лувре все время стучат молотками».
Власти эпохи Реставрации заботились не только о замене памятников, оставшихся им в наследстве от Империи, но и об искоренении топонимов, связанных с победами наполеоновской армии, и о присвоении (или возвращении) улицам и площадям названий «монархических». Так, Лилльская улица стала Бурбонской (впрочем, ненадолго: в 1830 году она вновь сделалась Лилльской), Киберонской улице (названной в честь победы республиканцев над роялистами в 1795 году) вернули имя герцога де Монпансье, улица Конвента превратилась в улицу Дофина, улица Мабли (названная в честь философа-просветителя XVIII века) – в Энгиенскую (в честь герцога Энгиенского, расстрелянного в 1804 году по приказу Наполеона). Набережная, которой при Наполеоне присвоили имя Монтебелло (в честь маршала Ланна, который получил титул герцога де Монтебелло за победу в сражении при этом итальянском городе), в эпоху Реставрации была переименована в набережную Сен-Мишель. Некоторые названия, данные при Империи, не были связаны ни с Революцией, ни с Наполеоном, но в эпоху Реставрации изменяли и их – просто для того, чтобы порвать с предыдущим периодом: так, набережная Катинá превратилась в 1815 году в набережную Архиепископского Дворца, хотя маршал Никола Катинá (1637–1712) служил не Наполеону, а Людовику XIV.
После Июльской революции принцип переименования по политическим мотивам сохранился, однако вектор его сменился еще раз: теперь парижане начали отказываться от монархических названий. Так, набережные канала Сен-Мартен, до 1830 года носившие имена Людовика XVIII и Карла X, после Июльской революции были названы набережными Вальми и Жеммáпа – в честь двух сражений французской республиканской армии в 1792 году (в них принимал участие Луи-Филипп). Площадь Людовика XVI вновь сделалась площадью Согласия, улица Карла X превратилась в улицу Лафайета. Изменилось даже название улицы Принцессы Крови, хотя она была обязана им сестре Луи-Филиппа принцессе Аделаиде Орлеанской (1777–1847); в 1830 году этой улице присвоили имя студента Политехнической школы Вано, который погиб во время Июльской революции при штурме Вавилонских казарм, расположенных в том же квартале.
Глава одиннадцатая
Производство и снабжение
Промышленные выставки. Состояние парижской экономики. Снабжение топливом и продовольствием. Бойни и рынки. Цены на хлеб и вино
В 1820–1840-х годах Париж был крупным промышленным и торговым центром. Об этом позволяют судить, в частности, данные налоговой службы: в департаменте Сена на тысячу жителей приходилось 52 человека, плативших так называемый торгово-промышленный налог, которым облагались все торговцы и предприниматели; примерно пятая часть денег, поступавших в казну страны в результате уплаты этого налога, приходила из департамента Сена.
Париж был таким огромным и густонаселенным городом, что почти все, произведенное здесь (от станков до модной одежды), потреблялось самими парижанами. В 1847 году доля парижских товаров, которые вывозились в другие города Франции или за границу, равнялась всего 11 % от общего объема столичного производства.
Национализация имущества церкви во время Великой французской революции дала толчок развитию промышленности в Париже, так как огромные помещения бывших монастырей оказались в распоряжении предпринимателей. Если при Империи власти относились к развитию промышленности в столице скорее настороженно, то при Людовике XVIII и Карле X для промышленников наступил, можно сказать, режим наибольшего благоприятствования. Карл X ежегодно дарил 3000 франков Обществу поощрения национальной промышленности. Ратуша предоставляла свои залы для публичных заседаний «Атенея ремесел» – организации, созданной для стимулирования технических изобретений. Наконец, в 1819 году в Лувре состоялась выставка Национальной промышленности, где демонстрировалось не только оружие (как на прежних выставках), но и произведенные во Франции предметы мирного обихода (шали и ткани Терно, часы Брегета и т. п.).
Две следующие выставки прошли в 1823 и 1827 годах. Людовик XVIII из-за подагры не мог присутствовать на выставках 1819 и 1823 годов, однако охотно покровительствовал их организаторам и участникам, особенно производителям дешевых товаров повседневного потребления. Зато Карл X почтил своим присутствием выставку 1827 года даже не один, а целых два раза.
Вслед за Людовиком XVIII интерес к выставке 1819 года проявило и парижское высшее общество: все улицы, ведущие к Лувру, были запружены каретами аристократов. Напротив, выставка 1823 года оказалась беднее предыдущей, поскольку ее бойкотировали многие либеральные промышленники, недовольные консервативной политикой правительства. В результате и эта выставка, и следующая (1827 года) оказались, по сути дела, не национальными, а по преимуществу парижскими: две трети экспонатов были произведены в столице.
При Июльской монархии выставки промышленных товаров, изготовленных во всей Франции, прошли в Париже в 1834, 1839 и 1844 годах. В начале 1840-х годов для них был выстроен на Елисейских Полях огромный деревянный дворец площадью больше двух гектаров. Выставка 1844 года началась весьма печально: страшная гроза, разразившаяся 9 июня, снесла крышу и затопила помещения дворца; в результате были испорчены многие ковры, разбиты фарфоровые вазы, так что убытки исчислялись почти миллионом франков. Тем не менее уже на следующий день выставка открыла свои двери и даже удостоилась посещения королевской четы. Если последняя выставка эпохи Реставрации собрала полторы с лишним тысячи участников, то на последней выставке Июльской монархии их было уже без малого 4 тысячи.
Поощрения промышленности со стороны общественности носили преимущественно моральный характер, препятствия же к ее развитию были сугубо материальными. Громоздкие подводы и фургоны, доставлявшие сырье на предприятия и вывозившие готовую продукцию, с трудом передвигались по узким парижским улочкам. Кроме того, власти облагали все промышленные предприятия, расположенные в черте города, повышенными налогами на сырье и топливо: ведь эти предприятия не платили ввозные пошлины (один из основных источников пополнения городской казны), и власти пытались компенсировать таким образом финансовые потери (особенно существенные в тех случаях, когда речь шла о производстве алкоголя). Поэтому с начала 1830-х годов самые крупные предприятия начали переезжать в пригороды: условия для подвоза сырья и вывоза продукции там были гораздо более удобные, а сырье вдобавок не облагалось ввозным налогом.
Развитие промышленности тормозила также деятельность муниципального Санитарного совета, организованного еще в 1802 году по инициативе химика Каде-Гассикура. Многочисленные королевские ордонансы и полицейские указы постоянно расширяли перечень тех отраслей промышленности, для открытия которых требовалась предварительная «экологическая экспертиза»; к 1825 году в этом перечне насчитывалось уже около двух сотен наименований. Получали разрешение на открытие своих предприятий далеко не все. Несмотря на это, экологическая ситуация в Париже оставалась неблагополучной. Например, на берегу реки Бьевры помимо знаменитой мануфактуры Гобеленов располагалась еще сотня различных предприятий (среди них два десятка дубильных цехов и столько же кожевенных мастерских), и все они спускали свои отходы в реку. В результате вода становилась черной и зловонной, что не мешало прачкам стирать в ней белье. Вдобавок время от времени река пересыхала, и это затрудняло деятельность предприятий, расположенных на ее берегах. Работы по очищению Бьевры и постепенному превращению ее в подземную водную артерию удалось завершить лишь в начале ХХ века.
Санитарный совет регулировал и использование на парижских предприятиях новой техники, такой, например, как паровые машины. Они начали входить в употребление на столичных фабриках еще в эпоху Реставрации, однако их считали чрезвычайно опасными – и не без основания, поскольку они нередко взрывались. Для установки новой паровой машины требовалось разрешение Санитарного совета; в год таких разрешений выдавалось около десятка (в 1825 году – году наивысшего экономического подъема – целых 19 штук), и к 1830 году паровых машин в Париже насчитывалось около 130.
При Июльской монархии к обстоятельствам, тормозившим развитие парижской промышленности, добавился еще и «социальный фактор»: Луи-Филипп и его префект Рамбюто не поощряли создание в столице больших заводов, потому что боялись скопления рабочих – возможного источника мятежей.
Некоторые столичные производства традиционно были связаны с определенными кварталами: так, дубильщики трудились в предместье Сен-Марсель на берегу Бьевры; горшечники облюбовали Новую улицу Святого Медара (в районе Королевского Ботанического сада); шляпники имели мастерские на Каирской улице; изготовители роялей – в квартале Маре и т. д. Предместье Сен-Марсель славилось также фабрикой Гобеленов, точнее, Королевской мануфактурой тканей, основанной еще в середине XV века Жаном Гобеленом. Все любознательные путешественники считали своим долгом побывать на этой фабрике. А.И. Тургенев посетил ее в октябре 1825 года и описал свои впечатления в дневнике: «Нас повели прямо в рабочие комнаты (ткацкие), и смотритель раскрывал начатую работу каждого стола, чтобы показать нам производство работ и то, что уже сделано на каждом столе. Живость красок и прочность тканей удивительные! Все черты, все оттенки живописи выражены во всем их блеске и с удивительною верностью. Картины, с коих ткачи списывают свои ткани, вывешены у них за спиною. Художник имеет перед собою ткань свою (canevas), а за собою модель, на которую он иногда взглядывает для сравнения оттенков (la teinte des fils) с тою частью картины, которую он выражает на ткани своей. Подражание природе кистью повторяется еще раз шерстяною тканью. <…> Для работников есть школа рисования, и в сем же самом заведении ежедневно делается курс химии, appliquée à la teinture [применительно к крашению тканей]. <…> Четыре ateliers [цеха], в каждом несколько станов».
С другой стороны, в Париже имелись и кварталы, где сосуществовали самые разные ремесла, например Сент-Антуанское предместье, испокон веков служившее местом обитания трудового люда (недаром именно здесь в 1789 году начались волнения, которые привели к взятию Бастилии). В Сент-Антуанском предместье можно было отыскать мастерские по изготовлению мебели, фарфоровой и металлической посуды, хлопчатых и шерстяных тканей, обоев и ковров, крахмала и клея и многого другого.
Среди отраслей парижской промышленности первое место по объему и интенсивности развития занимало строительство. Строители были связаны с многочисленными поставщиками, от которых получали необходимые материалы. И в эпоху Реставрации, и при Июльской монархии строительство оставалось приоритетной сферой производства, хотя годы строительного бума регулярно сменялись периодами относительного затишья.
Но втором месте по степени распространенности стояли ремесла, связанные с изготовлением тканей, пошивом одежды, изготовлением ювелирных украшений, а также ремесла, связанные с интеллектуальной и художественной сферой, – такие как книгопечатание, изготовление гравюр и музыкальных инструментов и проч. Это вполне предсказуемо.
Гораздо удивительнее другой факт: уже в эпоху Реставрации в Париже были хорошо развиты различные отрасли тяжелой промышленности. Здесь работало около сотни химических предприятий, производивших серную кислоту и глауберову соль. Из останков животных, поставляемых скотобойнями, изготовлялся «животный уголь», который широко использовался на сахарорафинадных заводах. Сахар-сырец поступал с Антильских островов в большом количестве, и новые заводы по его переработке открывались постоянно (в одном только 1822 году возникло шесть таких заводов). Создавались и заводы по производству крахмала из картофеля, а также пивоваренные заводы (к 1823 году в Париже их было три с лишним десятка).
Во французской столице активно развивалась металлургия, возникали плавильни и литейни, где изготавливались необходимые для строительства железные конструкции. Кроме того, в городе действовали многочисленные фабрики по производству инструментов для разных отраслей промышленности. Правда, порой они располагались не в самом городе, а в его окрестностях. Так, большой завод Менби и Вильсона, где пять паровых машин приводили в движение многочисленные станки, мехи и молоты, был расположен в ближайшем пригороде Парижа – Шарантоне. На этом заводе, где трудились семь сотен рабочих, были построены первые металлические пароходы, плававшие по Сене.
Состояние парижской экономики зависело от меняющейся исторической обстановки, причем эта связь порой носила парадоксальный характер. Когда летом 1815 года, после сражения при Ватерлоо, союзные войска вошли в Париж, жители столицы оказались в очень трудном положении. Каждый из двенадцати округов был подчинен офицеру союзной армии, а все вместе – прусскому генералу барону фон Мюфлингу. Содержание союзных войск в течение 1815–1816 годов обошлось городу в 42 миллиона франков! Казалось бы, все это не могло не подействовать на экономику самым губительным образом; однако появление огромного числа иностранцев оказалось в высшей степени благоприятным для развития торговли и ремесел: офицеры посещали кафе и рестораны, покупали модные товары для своих жен и дочерей, спускали немалые суммы в игорных домах. Парижские легенды гласили, что великий князь Константин Павлович потратил за месяц пребывания во французской столице 4 миллиона франков, англичанин герцог Веллингтон – 3 миллиона за полтора месяца, прусский фельдмаршал Блюхер со своим штабом – 6 миллионов… Пусть даже эти цифры преувеличены, не подлежит сомнению, что иностранцы существенно пополнили кошельки многих парижан: ювелиров, портных, рестораторов, актрис, женщин легкого поведения и прочих.
В конце ноября 1815 года (после подписания второго Парижского договора) знатные иностранцы начали покидать Париж, и его торговое благоденствие пошло на спад. Сказались и необходимость платить репарации, и промышленная конкуренция со стороны Англии (которой не было при Империи благодаря континентальной блокаде). Вдобавок 1816 год оказался неурожайным, Парижу грозил голод, стремительно росло число нищих и безработных, увеличивался объем закладов в ломбардах, а курс государственной ренты снижался.
Новый подъем парижской экономики начался летом 1818 года: в городе вновь оживилось строительство, так что рабочих рук даже не хватало; активно действовали типографии и прядильные фабрики. 9 октября 1818 года на Ахенском конгрессе было подписано соглашение о полном выводе оккупационных войск с территории Франции. Казалось бы, радостное известие должно было оздоровить ситуацию, однако оно, напротив, умножило число финансовых спекуляций на французской бирже и спровоцировало резкие колебания курса ренты. Следствием стало банкротство многих мелких финансистов и коммерсантов, и в последующие два года говорить об экономическом росте не приходилось.
До 1822 года продолжалось накопление капиталов, а в первой половине 1823 года финансовый мир вновь начало лихорадить: банкиры опасались дурных последствий отправки французского экспедиционного корпуса в Испанию для защиты тамошней королевской династии от революционеров. К тому же представители либеральной буржуазии, выступавшие против этой войны, нарочно раздували панику, что приводило к новым банкротствам и росту безработицы. Впрочем, к осени 1823 года война в Испании успешно завершилась, и финансовый мир Франции воспринял это как знак укрепления режима. Поэтому в 1824, а особенно в 1825 году начался такой бурный подъем строительства, какого Париж не видел за все годы Реставрации (об этом уже шла речь в главе десятой). Благотворную роль сыграли и торжества по случаю коронации нового короля, Карла X. Однако уже в конце 1825 года начали сказываться последствия британского финансового кризиса, все экономические показатели опять поползли вниз, а число несостоятельных должников в долговых тюрьмах Парижа выросло в полтора раза.
Некоторое оживление производства наметилось в 1828 году, но зимой 1828/1829 годов ситуация снова осложнилась из-за неурожая, а год спустя – из-за неслыханных холодов, парализовавших как строительные работы, так и доставку топлива и других товаров.
Наконец, очередной подъем экономики был остановлен уже не природой, а политикой – в июле 1830 года, как известно, в Париже произошла революция, которую сразу окрестили «революцией банкиров и журналистов». С журналистами все ясно: именно они протестовали против ордонансов Карла X, отменявших свободу печати. Что же касается банкиров, то они (в частности, те, кто входил в число депутатов) также принимали активное участие в событиях «трех славных дней» и вскоре получили реальную политическую власть. Однако назначение Лаффита главой правительства не прибавило коммерсантам уверенности в завтрашнем дне, поскольку этот финансист сам был близок к банкротству. Муниципальные благотворительные мастерские, которые должны были дать беднякам возможность хоть как-то заработать на жизнь, сами попали в затруднительное положение, так как у городских властей не осталось денег на их содержание. Тогда префект Одилон Барро договорился с банкиром Казимиром Перье о займе 2 миллионов франков: эта сумма позволила одновременно и привести в порядок парижские мостовые, искореженные во время июльских уличных боев, и дать работу многим парижанам, потерявшим ее из-за революции. Впрочем, при обилии бедствующих жителей столицы и такая немалая сумма была, в сущности, каплей в море.
Постепенно ситуация начала выправляться, но не во всех отраслях промышленности. Для Июльской монархии было особенно характерно преобладание средних промышленных предприятий над крупными. Конечно, в Париже продолжали работать крупные текстильные фабрики и металлургические заводы, однако многие предприятия химической промышленности, самые губительные для экологии города, в 1830–1840-е годы переехали в Жавель, Пасси, Пантен и Бельвиль (эти коммуны до 1860 года не входили в состав Парижа). При этом потребности горожан в лекарствах, средствах гигиены и парфюмерии по-прежнему удовлетворялись маленькими лабораториями и лавочками, располагавшимися в квартале Маре или в окрестностях Лувра.
Хотя технический прогресс способствовал открытию крупных механизированных фабрик одежды и обуви, значительная часть этих традиционных парижских товаров тоже производилась в маленьких мастерских, где редко трудилось больше десятка человек. При Июльской монархии сохранилась и «привязка» мелкого ремесленного производства к определенным округам и кварталам Парижа. В четырех округах правого берега изготавливали в основном одежду и продукты питания. Окраинные кварталы второго и третьего округов (Монмартрское и Рыбное предместья) специализировались на текстильном производстве: здесь, в частности, создавалась большая часть парижских шалей. В пятом, шестом, седьмом и восьмом округах (в центре и на востоке столицы) изготавливались всевозможные «парижские мелочи»: портфели и несессеры, зонты и веера, трости и хлысты, украшения из настоящих и поддельных драгоценных камней, позументы, басоны и галуны, изделия из бронзы. Восьмой округ, кроме этого, специализировался на производстве мебели (в Сент-Антуанском предместье по-прежнему трудились лучшие краснодеревщики Парижа). На островах и на левом берегу Сены промышленное производство было развито гораздо меньше – за исключением квартала кожевенников в двенадцатом округе. В Латинском квартале, входившем в состав одиннадцатого округа, благодаря обилию учебных заведений процветали типографы и переплетчики.
Сырье и товары доставлялись в Париж по преимуществу водным путем (поскольку гужевой транспорт стоил в 3–4 раза дороже). Например, доставка одной тонны грузов из Гавра в Париж по воде обходилась в 30–35 франков, а доставка по суше стоила от 90 до 120 франков. Вследствие такого положения дел Париж оказывался главным портом Франции, и общий объем доставляемых в столицу товаров более чем в два раза превосходил доставку во все морские порты страны, вместе взятые. Большую долю в этом объеме занимал лес, предназначенный для строительства, и дрова, необходимые для отопления домов; эти последние прибывали в город в виде гигантских сплавных плотов длиной до 70 метров и шириной до 4,5 метра.
Водным путем прибывали в Париж очень многие вещи, необходимые для столичных жителей, от промышленных товаров (бумага, ткани, стекло) до продуктов питания (сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты). Из Гавра доставлялись заморские товары, с берегов Атлантики – соль, из Бордо – вино и виноградный спирт, с берегов Средиземного моря – растительное масло и сухофрукты. В середине 1820-х годов в Париж ежегодно прибывало около 15 000 судов разного рода и около 4500 сплавных плотов.
Однако водный путь функционировал не всегда: препятствия для судоходства создавали и летнее мелководье, и зимние льды, и весенние паводки, затапливавшие пристани. В общей сложности Сена между Парижем и Руаном оставалась судоходна примерно половину года, но и в эти периоды путь по реке не всегда был удобен: выше Парижа судам мешали сотни сплавных плотов, в черте города русло загромождали разнообразные торговые заведения и купальни.