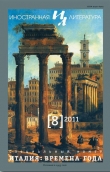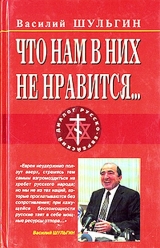
Текст книги "Что нам в них не нравится…"
Автор книги: Василий Шульгин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Приложение № 9, А
(к стр. 73)
Показание Валера
В сборнике «На чужой стороне» (выпуск XI, 1925 г.) напечатано показание некоего Валера, настоящая фамилия которого – Болеросов. Показание это взято из материалов «Особой Следственной Комиссии на Юге России».
В своем показании Валер между прочим говорит:
«В этот период происходило комплектование Че-Ка; и по национальностям можно смело говорить о преимуществе над всеми другими евреев. Ввиду того, что число сотрудников Че-Ка колебалось от 150 до 300, то и точные цифры привести здесь нельзя. Я не ошибусь, если скажу, что процентное отношение евреев к остальным сотрудникам Че-Ка равнялось 75: 25, а командные должности находились почти исключительно в их руках.
Наиболее впечатлительные и крикливые по своей природе, они своей суетней по помещению Че-Ка создавали обстановку безраздельного господства. Правда, этот период я все же называю еврейским по двум соображениям: 1) громадное большинство (7: 3) членов Комиссии были евреи; 2) за этот период не было ни одной казни еврея (исключая сотрудника Че-Ка Каца).
Этот период богат зато особым оттенком работы (Союз русского народа, составление списков для проведения в жизнь красного террора) и благодушным отношением к делам евреев, по мнению большинства членов Комиссии, по недоразумению не понимающих революции и ее задач».
Валер приводит и личный состав командных должностей в Киевской чрезвычайке:
Председатель – Блувштейн (еврей).
Дехтяренко Петр (русский) – заместитель председателя и заведующий секретным отделом.
Шуб (еврей) – секретарь комиссии.
Цвибак Самуил (еврей) – заведующий юридическим отделом.
Цвибак Михаил (еврей) – заместитель заведующего оперативным отделом (заведующим был Яков Лифшиц – еврей).
Фаерман-Михайлов (еврей) – комендант.
Кац (еврей) – заведующий тюремным подотделом.
Каган (еврей) – заведующий хозяйством.
Ганиотский (вероятно, еврей, но не наверное) – заведующий общей канцелярией.
Финкельштейн (еврей) – командир Особого Отрада при Че-Ка.
Мотя Гринштейн (еврей) – заведующий спекулятивным подотделом.
Рабичев (вероятно, еврей) – бухгалтер.
Савчук (русский).
Шварцман (еврей) – заместитель заведующего секретным отделом.
Манькин (еврей) – заместитель заведующего юридическим отделом.
Яковлев (русский) – инспектор секретного отдела.
Ковалев (русский) – инспектор секретного отдела.
Лошкевич (не выяснено) – инспектор секретного отдела.
Рубинштейн Наум (еврей) – секретарь юридического отдела.
Мантейфель (еврей) – член коллегии юридического отдела.
Валер дает характеристику некоторых чекистов:
«Блувштейн (он же Сорин)… играл роль большого вельможи, знающего свой высокий удельный вес у большевиков…» «…Его участие в убийстве низложенного Императора Николая II и Его семьи создавало особый революционный ореол…» «Побуждая младших сотрудников закреплять свое революционное сознание собственноручным расстрелом жертв Че-Ка, Сорин сам лично участвовал в расстрелах…»
«Цвибак Самуил, родом из Симферополя. Студент-юрист второго курса. Упрям и зол… груб до рукоприкладства, участвовал сам в расстрелах…»
«… Цвибак Михаил… юмор и незлобивость создали ему среди служащих Че-Ка общую любовь. При всем том этот человек, вероятно, из подражания, участвовал в расстрелах жертв Че-Ка… «_»… Лифшиц Яков – сильный оратор среди рабочих кругов… Не будучи членом комиссии, он обладал колоссальным влиянием на дела Че-Ка. Жестокий до беспредельности… В расстрелах жертв Че-Ка участвовал не как гастролер, а как профессионал.»
«… Фаерман-Михайлов, комендант Че-Ка… жесток, труслив, нахален, самоуверен, сластолюбив, и в результате оставленный всеми был расстрелян одесской Че-Ка (по слухам)… был долго палачом жертв киевской Че-Ка..»
«… Шварцман Яков, член Комиссии… крупный политический работник и деятель. Жесток. Самолично расстреливал. Избивал и пытал арестованных…»
«… Рубинштейн – дипломат, коварен, сластолюбив, по-своему добр, жесток с заключенными. Участвуя в расстрелах из любопытства, он смаковал агонии жертв, в одну из которых выпустил последовательно около 30 пуль…»
Приложение № 9, Б
Синодик «Киевлянина»
Нижеприведенный поименный перечень лиц, убиты: коммунистической партией в 1919 году (с февраля по август), составлен по траурным объявлениям, появившимся в «Киевлянине». Как известно, Киев был отнят Деникинцами у большевиков 18 августа и опять отдан большевикам 3-го декабря 1919 года. В этот трехмесячный «светлый промежуток» люди, потерявшие близких, могли оповестить родных и друзей о своем горе при посредстве газет что было немыслимо при большевиках.
Разумеется, настоящий список далеко не полон. Очень многие по тем или иным причинам совсем не дали траурных объявлений; некоторые направили их в другие, кроме «Киевлянина», газеты. Но при всем том список этот дает представление, на кого обрушились чекисты в Киеве; что же касается провинции, то она только в исключительных случаях подала свой «траурный голос», так как «освобожденный Киев» был отрезан от Края «слоеным пирогом» из деникинцев, большевиков и петлюровцев, танцевавшими кровавую кадриль на груди «Малороссии счастливой».
Список составлен не по алфавиту, а хронологически то есть в порядке поступления печальных объявлений и «Киевлянин». В распоряжении автора не было полного комплекта номеров газеты, почему могут быть пропуски и по этой причине.
«Киевлянин», № 1 от 21 августа 1919 г.
Флоринский, Тимофей Дмитриевич, проф. Универ. св. Владимира.
Дворжицкий, Е. А.
Армашевский, проф Университета св. Владимира.
Страхов, В. В., почетный мировой судья.
Мальшин, Н. В. служил в Гос. Контроле.
Никифоров, А. Ф
Коноплин, В. В., владелец модного магазина.
Приступа, Г. И., домовладелец.
Можаловский, П. И., член суда.
Станков, К. Ф., владелец модного магазина.
Башин, И. А., член Киевской биржевой артели.
Бобырь, А. П. Члены клуба русских националистов
Цитович, Александр Львович, управляющий Обществом Взаимного Кредита.
Гомоляка, П. А., владелец магазина.
Слинко, А. П., владелец магазина.
«Киевлянин», № 2
Чайковская, Ольга Николаевна (в Чернигове).
Янковский, Дмитрий Порфириевич, директор 6-й гимназии.
Фомок ученики 6-й гимназии
Бушмакин ученики 6-й гимназии
Тизенгаузен, Алексей Алексеевич.
Радзимовский, Валериан, почет, мир. судья.
Колбасьев, Виктор Викторович.
Колбасьев, Михаил Викторович
Колбасьев, Андрей Викторович.
Гендриков, Юрий Анатольевич.
Мартынова, О. В., сестра милосердия.
Горбунов.
Богуцкий.
Шпика, Иосиф, чех.
«Киевлянин» № 3
Левестам, Борис Николаевич. Служащие земельного банка
Малютин, Константин Евгеньевич. Служащие земельного банка
Саломон, Владимир Александрович. Служащие земельного банка
Воротеляка, Константин Димитриевич Служащие земельного банка
Егоров, Михаил Иванович.
Стасюк, Харитон Осипович.
Балк, Любовь Харитоновна.
Паукер, Герман Антонович, инженер-путеец.
Вигура, Константин Андреевич, член Судебной Палаты.
Вешке, Карл Павлович.
Жевахов, князь Дмитрий Владимирович, товарищ председателя Окружного Суда.
Бимман, Евгений Павлович, поручик.
Львович, Василий Ипполитович, чинов, акцизн. упр.
Бурдынский, Александр Иванович.
Недашковский, Василий Семенович, преде, домового комитета
Ткаченко, Иван Николаевич, штаб-ротмистр.
Довгирд, Антон Фадеевич, товарищ прокурора.
Калинин, Адриан Федорович, товарищ прокурора.
Солнцев, Дмитрий Дмитриевич, юнкер.
Савицкий, П. П., товарищ прокурора.
Квятковский, Н. И., товарищ прокурора.
Максимович, М. И., товарищ прокурора.
Калиновский, А. П., товарищ прокурора
Матусевич, Н. В., товарищ прокурора.
Раич, Н. П., товарищ преде. Окружного Суда.
Гудим-Левкович, В. П., тов. преде. Окружн. Суда.
Милобендзкий, Виктор Казимирович, ротмистр.
Попов, Владимир Николаевич, штабс-ротмистр.
Снигуровский, Евгений Степанович, полковник.
Филиппченко, Леонид Иванович, поручик.
Саченко, Сергей Трофимович. Служащие Госуд. контроля
Сорочинский, Константин Игнатьевич. Служащие Госуд. контроля
Марченко, Петр Иванович. Служащие Госуд. контроля
Тюменев, Митрофан Георгиевич.
Султанский.
Смирнов, Владимир Васильевич, генерал.
Бомбах, Николай Викторович, подполковник.
Шульга, Всеволод Константинович. Служащие Киевского Удельн. Окр
Шульга, Владимир. Служащие Киевского Удельн. Окр
Мельницкий, Клавдий Александрович. Служащие Киевского Удельн. Окр
Медер, Петр Владимирович, генерал-лейтенант.
Волков, Аркадий Николаевич, генерал от инфантерии.
Готвальд, Алоизий Иванович.
«Киевлянин», № 5
Павлович, Иосиф Яковлевич, директор 8-й гимназии.
Сабанеев, Лазарь. Ученики гимназии
Сабанеев, Даниил. Ученики гимназии
Севастьянов, Вадим.
Пересвет-Солтан, Иордан Николаевич, присяжный поверенный.
Павлов, Федор Федорович.
Синюк, Иван Пантелеймонович Железнодорожные служащие
Милорадович, Дмитрий Дмитриевич Железнодорожные служащие
Генрихсен, Борис Густавович, товарищ прокурора.
Трубецкой, Иван Петрович, князь, мировой судья.
Лабенский, Семен Андреевич, журналист.
Хржановский, Иосиф Марцелович.
Юноцкевич, Елена Владимировна.
Былинский, Владимир Романович, полковник
Шманский, капитан Дружина «Наша Родина»
Соколов, Дружина «Наша Родина»
братья Сабанеевы и др Дружина «Наша Родина»
Случевский, Израиль Борисович, в гор. Остроге.
Матченко, Иван Павлович, педагог, почет, мир судья
«Киевлянин», № 7
Громов, Александр Семенович, инженер-технолог.
Бондаренко, Василий Андреевич, на ст. Новомиргород.
Шкотт, Павел Петрович.
Добрынин, Михаил Николаевич, присяжный поверенный.
Вольф, Иван Викентьевич
Пиорункевич, Иосиф Эдуардович.
«Киевлянин», № 8
Киркин, Михаил Михайлович, подполковник.
Никольский, Сергей Александрович, поручик
Полибин, Александр Владимирович, статский советник.
Голлянская, Валентина Федоровна.
Кнотте, Нина Ивановна.
Кононов, Федор Яковлевич, банковский служащий
Суковкин, Николай Иоасафович, киевский губернатор, сенатор.
Молодовский. Георгий Георгиевич. Члены киевской
Рышковский, Викентий Романович. Биржевой
Тоболин, Александр Александрович. артели
Вороненке, Апполинарий Александрович, агроном
Рагоза, Александр Францевич, генерал от инфантерии
Плейер, Иван Осипович, штабс-ротмистр.
Хлюстин, Дмитрий Николаевич.
«Киевлянин», № 11
Шорохов, П. В.
«Киевлянин», № 14
Цитович, Клеоник Игнатьевич, основатель Союза русских рабочих.
«Киевлянин», № 15
Брояковский, Тимофей Августович, сотруд. страх, общества «Россия».
«Киевлянин», № 16
Красовский, Александр Иванович, член губ. земской Управы.
Фридрихова, Евгения Григорьевна (в Чернигов, губ.).
Науменко, Владимир Павлович, педагог, редактор «Киевской Старины».
«Киевлянин», № 18
Неминский, Н. С., служащий Киевского земельного банка.
«Киевлянин», № 20
Шабловский, Болеслав Иванович (в имении «Красная Слобода»).
Глинская, Александра Ивановна.
Крюгер, Анна.
«Киевлянин», № 21
Остромыслянский, Н. В., из прокуратуры.
Новиков, Афанасий Семенович.
Верлизов, Николай Гаврилович.
Пащенко, Александр Савич, редактор «Двуглавого Орла».
Бех, П. С., преподаватель Фундуклеевской гимназии.
«Киевлянин», № 22
Андриевский, Семен Степанович.
Лобков, Владимир Михайлович, доброволец (на ст. Фастов)
Павлов, Федор Федорович, полковник.
«Киевлянин», № 23
Кратохвиль, Ян, чех.
«Киевлянин», № 24
Чайковский, Николай Николаевич, штабс-ротмистр.
Чайковская, Мария Александровна.
Хрусталев-Носарь, Георгий Степанович (в Переяславле).
Приложение № 10
(к стр. 99)
Список некоторых псевдонимов
Подложные русские фамилии / Настоящие – еврейские
Троцкий / Бронштейн
Стеклов / Нахамкес
Мартов / Цедербаум
Зиновьев / Апфельбаум
Каменев/ Розенфельд
Суханов / Гиммер
Сажерский / Крохмаль
Богданов / Зильберштейн
Урицкий / Радомысльский
Ларин / Лурье
Камков / Кац
Ганецкий / Фюрстенберг
Мешковский / Гольдберг
Рязанов / Гольденбах
Мартынов / Зибар
Солнцев / Блейхман
Пятницкий / Зивин
Звездин / Войнштейн
Маклаковский / Розенблюм
Лапинский / Левенштейн
Бобров / Натансон
Гарин / Гарфельд
Глазунов / Шульце
Приложение № 11
(к стр. 110)
О революционной печати в 1905 году
Из передовой «Киевлянина» от 16 декабря 1905 года.
Но как быстро Немезида творит свой суд! В типографиях готовилась «революция», оттуда вылетали отравленные ядом анархии, злобы и лжи революционные газеты; непосредственно стоявшие в этой революционной лаборатории наборщики и другие типографские служащие оказались наиболее развращенными, и, быть может, они составляют главный контингент боевых дружин, так как в Москве в типографиях работает несколько тысяч человек. И немедленно последовала кара Немезиды: крупнейшая типография Сытина сгорела, и в ней вооруженные наборщики, поджегшие типографию и затем разбежавшиеся, сожгли семейства других наборщиков, которые жили в здании. Какая ужасная кара, павшая на несчастных жен и детей А владелец типографии Сытин? Он издавал раньше дешевые издания для народа и составил на них, как говорят, миллионное состояние; а затем он начал нагло торговать зажигательной революцией в «Русском Слове». Много он сделал зла Москве и России, но революция сожгла и его собственное революционное гнездо…
Приложение № 12
(к стр. 150)
СЧЕТ В. М. Пуришкевича
Член Государственной Думы от Бессарабской губ. Владимир Митрофанович Пуришкевич, которому по злой иронии судьбы самому выпало впоследствии вступить на путь своеобразного террора (убийство Распутина), в период первой революции (1905–1907 годы) особенно возмущался кровавой работой террористов-революционеров. Эти свои чувства он поспешил перевести в плоскость некой реальной работы, что вообще было свойственно его натуре. Он стал собирать имена погибших, обстоятельства, при которых произошли акты террора, биографические сведения, портреты. К этой работе Пуришкевич привлек целый ряд лиц. В результате он издал некую маленькую библиотечку в несколько томов под названием «Книга Русской Скорби». Васнецов, Соломко и другие русские художники сделали заглавные листы для этих изданий. Это было хорошее дело – долг уважения и благодарности со стороны уцелевших погибшим. К стыду нашему, мы, уцелевшие и после второй революции, до сих пор не собрались приступить к такой же работе в отношении бесчисленных жертв последней и притворяемся, что мы не понимаем простой истины: если мы живы, то только потому, что искупительную за нас жертву принесли они, погибшие.
Пуришкевич далеко не довел своей работы до конца. Текущая политика отнимала у него слишком много сил и работы. Но, разумеется, он пробовал установить общее число погибших и пострадавших от террористов первой революции. Однажды, во время одной из своих речей в Государственной Думе, упомянув о революционном терроре, Пуришкевич при помощи думских приставов развернул черную ленту, на которой тесно, одна к другой, были наклеены фотографии убитых: ленты хватило чуть ли не на всю ширину зала. Тогда же Пуришкевич сделал заявление, что, по его подсчетам, число раненых, искалеченных и убитых террористами «Освободительного Движения» определяется в двадцать тысяч человек.
Приложение № 13
(к стр 153)
О событиях 1905 года в Томске
(Телеграмма «Российского Телеграфного Агентства»)
Томск, 21 октября 1905 года.
С восьми часов утра 20 октября на площади начал собираться торгующий и рабочий народ и сильно негодовал, что магазины и торговые помещения закрыты, что стачечники не дают мирно продолжать работу. В народе говорили: «Нам новых порядков не нужно Деды наши управлялись Царем и имели Царя, и мы без Царя жить не желаем и не будем». Хоть в толпе был шум, тем не менее пьяных не было. Появились национальные флаги, собравшийся народ старался получить из участка портрет Государя, что удалось после усиленных хлопот. Когда два портрета Государя были переданы, раздалось несмолкаемое «ура», манифестанты, будучи совершенно ничем не вооружены, направились на соборную площадь. На пути к ним примыкали новые лица. Если кто-нибудь не снимал шапки перед портретом Государя или показывал неуважение к портрету, толпа срывала шапки и подвергала избиению. Возле дома архиерея манифестанты остановились, просили отслужить в соборе благодарственный молебен о здравии Государя В это время в театре начался митинг, на который собралось до трех тысяч. Когда получено было известие, что к соборной площади приближаются манифестанты, находившиеся на митинге покинули здание театра, а когда манифестанты поравнялись с собором, то отделившаяся группа от толпы покинувших театр встретила первых револьверными выстрелами.
Сначала участники патриотической манифестации дрогнули, но потом толпа обрушилась на стрелявших. Получилась ужасная картина Началось беспощадное избиение манифестантами лиц, принадлежащих к указанной группе, они стали спасаться, кто куда мог. Таким образом, до шестисот человек, много женщин и детей попало в здание управления Сибирской дороги и в театр. Манифестанты обложили здания и требовали, чтобы укрывшиеся вышли. Последние ответили выстрелами. Полиция и войска отсутствовали. Но пока манифестанты расправлялись с противниками, в казармах солдаты спешно строились в ряды, получали патроны. Наконец, сотня казаков и рота солдат выступили и оцепили театр и управление дороги. Манифестанты не унимались; разбивали окна, проникали внутрь здании, обливали керосином, начали жечь Театр и управление дороги превратились в море огня. В нем горел скрывшийся народ на глазах войск и сорокатысячной собравшейся на этом месте толпы жителей города. По мере того, как языки огненного моря охватывали этаж за этажом, осажденные подымались выше, взбирались даже на крышу и стреляли в толпу. Многие выбрасывались из окон, спускались по водосточным трубам, стараясь спастись. Манифестанты не давали пощады, явившаяся пожарная команда манифестантами не была допущена к тушению пожара. Манифестанты беспощадно жгли, как спрятавшихся, так и самое здание, которое, по их мнению, являлось гнездом смут и забастовок, потому что служащие железной дороги первыми выступили в новом движении. В 11 часов вечера обрушились крыши и потолки. Манифестанты допустили тогда пожарную команду к делу, а сами отступили и направились по домам. Все дела службы тяги погибли.
Приложение № 14
(к стр 153)
О событиях в Нежине в октябре 1905 года
(Корреспонденция «Киевлянина»)
Филологический институт, техническое училище, значительное число средних и низших учебных заведении и обилие еврейства гарантировали нашему небольшому сравнительно городу восприимчивость почвы для развития крайних социалистических учений, включительно до коммуны.
Давно уже воздух казался насыщенным электричеством, чувствовалось малейшая искра – и свобода, свобода с револьвером и бомбой в одной руке и с красным знаменем в другой, засияет над городом Этой искрой был акт 17-го октября
18-го октября ликующая толпа студентов, гимназистов и евреев, главным образом евреев, отправилась закрывать все учебные и торговые заведения, а равно присутственные места, где только попадались портреты Государя, везде они разрывались в клочья, между прочим, растерзанию подвергся и портрет в кабинете прокурора Окружного суда.
Все покорялось героям «освободительного движения», и некоторая заминка произошла лишь в двух местах Толпа ворвалась в казначейство, навстречу ей выступил казначей и, вынув два револьвера, произнес такую речь «Я принял присягу Государю и считаю себя обязанным исполнять требования только моего начальства, а не ваши, признаю только то правительство, какое существует, а переменится оно – об этом даст знать мое начальство Предупреждаю, что всякую попытку прикоснуться к вверенным мне деньгам я буду отражать вот этими револьверами, и прикоснуться к ним можно не иначе, как только переступив через мой труп» Решительный тон казначея и вид двух револьверов произвели впечатление господа революционеры ретировались Другой случай отпора произошел в магазине купца Литвиненко требование закрыть магазин он не удостоил даже ответом, а на повторение такового пробурчал только «Убирайтесь-ка подобру-поздорову, пока не влетело» Был торговый день, когда в город обыкновенно съезжается масса окрестного крестьянства, находилось несколько крестьян и в магазине Ли-твиненко, один из них подошел к вожаку революционеров и закатил ему оплеуху, подошли и другие крестьяне и тоже «поучили» Опешившие революционеры подхватили на руки своего вожака и спешно ретировались.
В тот же день вечером в филологическом институте был назначен митинг, широкое оповещение собрало большую толпу, среди которой находилось много крестьян, приглашенных с целью разнести затем по домам и деревням радостную весть о победе, одержанной революцией, о славных деяниях спасителей народа Собрание вышло весьма многолюдное и заняло обширный двор института, кафедрой же ораторам служило выходящее во двор крыльцо Председателем митинга был избран студент Полились речи Первыми ораторами выступили «президенты» партии Бунда, социально-революционной и иных, им подобных Совершенно излишне передавать содержание речей они заучены и везде одинаковы, призыв к дальнейшей борьбе с правительством и оскорбление Государя Между прочим, на митинге присутствовал выпущенный в тот день на поруки учитель одной из народных школ, арестованный незадолго перед тем за распространение прокламации известного содержания, по его адресу пелись хвалебные гимны, его прославляли, как народного героя, и в заключение возвели на крыльцо, осветив со всех сторон Торжество героя было полное, но, увы, непродолжительное.
Стоустая молва разнесла содержание речей по городу, но впечатление получилось прямо противоположное ожидаемому Стали собираться сначала небольшие, а затем все увеличивающиеся кучи народа (по терминологии еврейских и еврействующих органов печати – хулиганы и черная сотня), речей они не произносили, а лишь обменивались лапидарными фразами.
«Кто это бунтует?'» – «Известно, жиды и студенты» – «Да как же они смеют ругать нашего Царя?» – «Как они смеют рвать царские портреты?!» – «Этого позволить нельзя!» – «Нельзя, надо покарать!»
И покарали Произошел стихийный погром еврейского имущества, спаслось лишь несколько лавок, имевших толстые железные двери, которых не могли одолеть примитивные орудия погрома.
Русский народ – сила, пока это еще темная, непросвещенная масса, но у него есть священные имена, их он чтил и всегда будет чтить, оскорбите эти имена, и народ утратит свое всегдашнее спокойствие, станет той стихийной силой, которая без оружия, с одними кулаками пойдет на выстрелы, все сметет на своем пути
21 числа, в день восшествия на престол Императора Николая II, в местном соборе состоялось торжественное богослужение, по окончании коего огромная толпа крестьян, не менее трех тысяч человек, по большей части прибывших из деревень, с церковными хоругвями и несколькими портретами Государя во главе, направились к зданию филологического института Институт оказался наглухо закрытым, послышались голоса, требовавшие открытия Здание казалось мертвым Требования становились все настоятельнее, стали раздаваться громкие голоса, затем крики «Отворите, а то разнесем, камня на камне не оставим» Угроза подействовала, и двери института открылись Народ успокоился, вошел чинно и потребовал явки всех студентов, бледные, дрожащие, они явились «А где же председатель? Зовите его!» (председательствовавший на митинге) Отвечают – нет. «Врешь! Искать его!» Отрядили несколько человек: те поискали и действительно откуда-то вытащили его и привели. Поразительным казалось сравнительное спокойствие и порядок среди этой массы оскорбленного народа. Не было ни галдения, ни особенного шума, разумеется, не было и речей, а произносились лишь краткие вопросы и сентенции, вроде следующих: «Кто вам позволил бунтовать? Как вы смели рвать портреты нашего Царя? Как вы смеете поносить его? Довольно (годи) бунтовать, будете теперь каяться, будете прощения просить. Сейчас, чтоб здесь был царский портрет!»
Несколько студентов немедленно принесли большой, во весь рост, портрет Государя из запертой актовой залы. «Несите к собору!» Беспрекословно исполнили студенты и это требование, как равно и требование петь народный гимн; в импровизированном хоре должны были принять участие и все евреи, которых толпа присоединяла к шествию. Надо говорить правду – пели усердно, ибо за ними следили. Остановки производились у всех тех учреждений, где были растерзаны портреты Государя, и под грозным взглядом крестьянства пение гимна в этих местах было особенно громким. У здания Городской Управы народ требовал немедленной отправки Государю телеграммы с ходатайством закрыть институт: «Бо студента не хочут учитца, а тилько бунтують, та Царя ругають; не треба нам студентив и жидив».
Шествие было торжественное, и по мере приближения к собору толпа все росла и росла. Портрет был установлен на площади; раздалась команда: «Бунтовщики, на колена!» Без малейшего колебания все студенты и евреи опустились на колени прямо в грязь. «Присягать! Жиды особо!» Студенты, стоя на коленях и подняв правые руки, громко произносили требуемую от них клятву: «Не бунтовать, Царя поважать». Затем поодиночке они должны были подходить к портрету, становиться на колени и целовать его. Тем же порядком приводились к присяге и евреи, но для этого был вытребован раввин и принесен особый еврейский балдахин.
«А давайте сюды список усих демократив!» (об этом списке говорилось на митинге, а сотни раз произнесенное слово «демократы» прочно укрепилось в памяти крестьян). Подали и список. Стали делать проверку; как только не оказывалось налицо занесенного в список «демократа», немедленно отряжалось на поиски несколько крестьян, разыскивали и приводили к присяге; евреи требовались все, независимо от того, фигурировали ли их имена в списке, множество евреев массами заперлись в нескольких домах; эти дома открывались, евреев чинно вели на площадь и по установленному ритуалу приводили к присяге.
Злой рок толкнул героя учителя, о котором говорилось выше, появиться перед собором; к присяге его не привели, но побили так усердно, что он едва мог подняться. Вся эта церемония была весьма длительной и закончилась лишь ночью.
Погром утих, но, понятно, возбуждение улечься сразу не могло.
Приехал черниговский вице-губернатор, обратился с речью к народной толпе; говорил о необходимости порядка, прекращения всяких волнений, говорил, как огорчен Государь вестями о погромах, о тяжелой за них ответственности. Народ слушал внимательно, молча, но по окончании речи раздались голоса: «Жиды обидели нашего Царя! Не треба нам жидив».