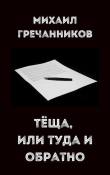Текст книги "Собрание сочинений. Том 2"
Автор книги: Варлам Шаламов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Яков Овсеевич Заводник
Яков Овсеевич Заводник был постарше меня – в революцию ему было лет двадцать, а то и двадцать пять. Он был из какой-то громадной семьи, но не из тех, что были украшением Ешибота. При типичной ярко еврейской внешности – чернобородый, черноглазый, большеносый – Заводник не знал еврейского языка, а на русском произносил короткие зажигательные речи, речи-лозунги, речи-команды, и я легко представлял Заводника в роли боевого комиссара гражданской войны, поднимающего красноармейцев на колчаковские окопы и увлекающего в бой личным примером. Заводник и был комиссаром – боевым комиссаром колчаковского фронта, имел два ордена Боевого Красного Знамени. Горластый крикун, драчун, не дурак выпить, «дерзкий на руку», как говорят на блатном языке, Заводник лучшие годы, свою страсть, оправдание жизни вложил в рейды, в бои, атаки. Кавалеристом Заводник был превосходным. После гражданской Заводник работал в Белоруссии, в Минске, на советской работе вместе с Зеленским, с которым сдружился во время гражданской войны. Зеленский, переехав в Москву, взял с собой и Заводника в Наркомат торговли.
В 1937 году Заводник был арестован «по делу Зеленского», но не был расстрелян, а получил пятнадцать лет лагерей, что по началу тридцать седьмого было крупным сроком. Как и у меня, в его московском приговоре было оговорено отбывание срока на Колыме.
Дикий характер, слепое бешенство, которое охватывало Заводника в важные моменты судьбы, заставляло скакать навстречу колчаковским пулям, не изменило Заводнику и на следствии. В Лефортове он со скамейкой бросился на следователя и пытался его ударить в ответ на предложение разоблачить врага народа Зеленского. Заводнику сломали бедро в Лефортове, надолго загнали в больницу. Когда бедренная кость срослась, Заводника отправили на Колыму. С этой лефортовской хромотой Заводник и жил на приисках и в штрафных зонах.
Заводник не был расстрелян, он получил пятнадцать лет и пять «по рогам», то есть поражение в правах. Его одноделец Зеленский был давно на луне. Заводник подписал в Лефортове всё, что могло спасти жизнь, и Зеленский был расстрелян, и нога была сломана.
– Да, подписал всё, что у меня просили. После того как у меня сломали бедренную кость и кость срослась, я был выписан из Бутырской больницы и доставлен для продолжения следствия в Лефортово. Я все подписал, не читая ни одного протокола. Зеленский уже был расстрелян к тому времени.
Когда в лагере спрашивали происхождение хромоты, Заводник отвечал: «Это еще с гражданской». Но на самом деле хромота была лефортовского происхождения.
На Колыме дикий характер Заводника, взрывы бешенства быстро привели к целому ряду конфликтов. Во время своей жизни на приисках Заводник был неоднократно избиваем бойцами, надзирателями из-за его громогласных и бурных скандалов, возникающих по каким-то пустякам незначительным. Так, в драку, в целое сражение с надзирателями штрафной зоны Заводник вступил из-за нежелания остричь бороду и волосы. В лагерях стригут под машинку всех; сохранение прически, волос у арестантов – некая привилегия, поощрение, которым все заключенные пользуются неукоснительно. Медицинским, например, работникам из заключенных разрешается носить волосы, и это вызывает всегда всеобщую зависть. Заводник был не врач и не фельдшер, но зато борода его была густая, черная, длинная. Волосы не волосы, а какой-то костер черного огня. Защищая свою бороду от стрижки, Заводник кинулся на надзирателя, получил месяц штрафняка – штрафного изолятора, – но продолжал носить бороду и насильно [был] острижен надзирателями. «Восемь человек держали», – с гордостью рассказывал Заводник, борода отросла, и Заводник опять носил [ее] открыто и вызывающе.
Борьба за эту бороду была самоутверждением бывшего фронтового комиссара, нравственной его победой после стольких нравственных поражений. После многих приключений Заводник попал надолго в больницу.
Было ясно, что никакого пересмотра дела он не добьется. Оставалось ждать и жить.
Кто-то подсказал начальству использовать склад характера, натуру героя гражданской войны, его крикливость, напористость, личную честность, неуемную энергию для исполнения обязанности лагерного десятника или бригадира. Но ни о какой легальной штатной работе для врагов народа, для троцкистов, не могло быть и речи И вот Заводник появляется в статусе члена команды выздоравливающих известного ОП (оздоровительный пункт), ОК – оздоровительный команды, – появляется со стихотворной присказкой:
Сначала ОП, потом ОК,
На ногу бирку, и – пока.
Но Заводнику не привязали бирку на левую щиколотку, как делают при погребении лагерника. Заводник стал заготовлять дрова для больницы.
На планете, где десять месяцев зима, это очень серьезная проблема. Сто человек круглый год держит на этой работе Центральная больница для заключенных. Зрелость лиственницы – триста-пятьсот лет. Лесосеки, отводимые больнице, были хищничеством, конечно. Вопрос возобновления лесного фонда на Колыме не ставился, а если и ставился, то как бюрократическая отписка или романтическая мечта. В этих двух понятиях есть очень много общего, и когда-нибудь историки, литературоведы, философы это поймут.
Лес на Колыме – в ущельях, распадках, по руслам речек. Вот Заводник и объезжал верхом все окружающие большие речки и ключи, свой доклад он представил начальнику больницы. Начальником больницы был тогда Винокуров, самоснабженец, но не подлец, не из тех, кто желает зла людям. Командировку лесную открыли, лес заготовили. Конечно, тут, как и во всех больницах, работали здоровые люди, а не больные – ну, ОП или ОК, которым давно было пора на прииск, но другого выхода не было. Винокуров считался хозяйственником хорошим. Трудность была и в том, что какое-то количество топлива (очень большое!) нужно было заготовить, помимо всякого учета, в резервный фонд, из которого уполномоченные, местные хозяйственники, сам начальник привыкли черпать бесконтрольно и безбрежно, совершенно бесплатно и неограниченно. В больнице за такие блага, как дрова, платит средний слой вольнонаемных, а высокое начальство получает все бесплатно, и это немалая сумма.
Вот во главе этой сложной кухни заготовки, склада и поставлен был Яков Заводник. Не будучи идеалистом, он охотно пошел на то, чтобы возглавить и производство и склад, подчиняясь только начальнику. И вместе с начальником обкрадывал государство без зазрения совести каждый день и каждый час. Начальник принимал гостей со всей Колымы, держал повара, открытый стол, а Заводник, начальник топсклада, стоял с котелком около обеденного бака, когда привозили обед. Заводник был из тех бригадиров лагерных, бывших партийцев, которые едят всегда с бригадой, открыто и не пользуются лично ни малейшей поблажкой ни в одежде, ни в еде, за исключением черной бороды, пожалуй.
Я и сам так делал всегда, когда работал фельдшером. Мне пришлось уйти из больницы после большого и острого конфликта, в который был вовлечен и Магадан весной 1949 года. И меня направили в лес фельдшером к Заводнику, на лесную командировку километрах в пятидесяти от больницы, на ключ Дусканья.
– Третьего фельдшера снимает Заводник, все ему, суке, не нравятся.
Так меня напутствовали товарищи.
– А у кого я буду принимать медучасток?
– У Гриши Баркана.
Гришу Баркана я знал, хотя и не лично, а со стороны. Баркан был военный фельдшер из репатриантов, поставленный на работу в больницу год назад и работавший в туберкулезном отделении. Этого Гришу не очень хвалили товарищи, но я приучен мало обращать внимания на разговоры об осведомителях и стукачах. Слишком я бессилен перед этой высшей властью природы. Но случилось так, что мы выпускали стенгазету к какой-то праздничной годовщине, а членом редколлегии была жена нашего нового уполномоченного Бакланова. Я ее ждал у кабинета мужа, пришел, чтобы получить от нее цензурованные заметки, и на стук услышал голос: «Войдите!» И вошел.
Жена уполномоченного сидела на диване, а сам Бакланов проводил очную ставку.
– Вот вы, Баркан, пишете в своем заявлении, что Савельев, фельдшер (тот был вызван сюда же), что Савельев ругал советскую власть, восхвалял фашистов. Где это было? На больничной койке. А какая была у Савельева в это время температура? Может быть, у него был бред. Возьмите ваше заявление.
Вот так я узнал, что Баркан стукач. Сам же Бакланов – единственный уполномоченный за всю мою лагерную жизнь – производил впечатление не настоящего следователя, был не чекистом, конечно. Он приехал на Колыму прямо с фронта, в лагерях не работал никогда. И не научился. Ни Бакланову, ни его жене работа на Колыме не понравилась. Отбыв свой срок выслуги, оба вернулись на материк и живут уже много лет в Киеве. Сам Бакланов из Львова.
Фельдшер жил в отдельной избушке, половина ее амбулатория. Избушка примыкала к бане. Более десяти лет я не оставался один ни ночью, ни днем и всем своим существом ощутил это счастье, да еще пропитанное тонким запахом зеленых лиственниц, несчетных, бурно цветущих трав. Горностай пробежал по последнему снегу, медведи прошли, поднявшись из берлог, сотрясая деревья… Здесь я начал писать стихи. Эти тетради мои сохранились. Грубая желтая бумага… Часть тетрадок – из оберточной, белой, лучшего качества. Эту бумагу, два или три рулона прекраснейшей бумаги в мире, мне подарил стукач Гриша Баркан. У него вся амбулатория была заставлена такими рулонами, откуда он взял и куда увез – не знаю. В больнице он работал недолго, перевелся на соседний прииск, но в больнице бывал часто, уезжал на попутках.
Щеголь, красавец Гриша Баркан вздумал проехать на бочках стоя, чтобы не пачкать о бензин хромовых своих сапог и синих вольных брюк. Кабина была занята. Водитель разрешил сесть в кузов на эти десять километров, но на подъеме тряхнуло, Баркан вылетел на шоссе и расколол череп о камни. Я видел его тело в морге. Смерть Баркана – единственный, кажется, случай вмешательства рока не на стороне стукачей.
Почему Баркан не поладил с Заводником, я разгадал быстро. Давал, наверное, «сигналы» о таком тонком деле, как лесозаготовка, не интересуясь, чем вызвана эта ложь и кому она в пользу. При первом же знакомстве с Заводником я сказал, что мешать ему не буду, но и в мои дела попрошу не мешаться. Все мои освобождения от работы не могут быть оспариваемы. Никакого отдыха от работ по его указаниям давать я не буду. Отношение мое к блатарям широко известно, и давления и сюрпризов по этой линии Заводник может не опасаться.
Как и сам Заводник, я ел из общего котла. Лесорубы жили в трех местах от первого участка радиусом в сто километров. Я и передвигался, ночуя две-три ночи на каждом участке. Базой была Дусканья. На Дусканье узнал одну очень важную для каждого медика вещь – у банщика (был там татарин один с войны) я научился проводить дезинфекцию без дезкамеры. Вопрос для лагерей колымских, где вши постоянный спутник работяги, немаловажный. Я проводил со стопроцентной удачей дезинфекцию в бочках железных.
Потом в дорожном управлении эти мои знания вызвали сенсацию – вши ведь грызут не только арестанта, но и конвоира, бойца. Я провел много дезинфекций с неизменной удачей, но научился этому делу у Заводника на Дусканье. Увидев, что я намеренно не вникаю в сложные комбинации с пеньками, штабелями, фесметрами, Заводник подобрел, а найдя, что у меня никаких любимчиков нет, и совсем оттаял. Вот тут он мне и рассказал о Лефортове и о своей борьбе за бороду. Подарил он мне книжку стихов Эренбурга. Всякого рода литература была ему чужда абсолютно. Но и вообще романы и прочее Заводник не любил, зевал на первых строках. Газета, политические новости – другое дело. Это вызывало отклик всегда. Заводник любил живое дело с живыми людьми. А самое главное, он скучал, томился, не знал, куда деть свои силы, и старался наполнить заботами сегодняшними и завтрашними весь свой день с пробуждения до сна. Даже спал он всегда поближе к делу – к рабочим, к реке, к сплаву, в палатке спал или на топчане в каком-нибудь бараке, без всякого матраца и подушки – только телогрейку под голову.
В 1950 году летом мне надо было попасть на Бахайгу, вверх по Колыме километров сорок, где был наш участок, жили заключенные на берегу, и мне надо было попасть туда в очередной свой объезд. Течение на Колыме сильное – катер эти сорок километров вверх проходит за десять часов. Обратно на плоту возвращаются за один час, даже меньше. Моторист катера был вольнонаемный, даже какой-то договорник, механик, дефицитная специальность; как всякий колымский моторист и механик, при отъезде своего катера был сильно пьян, но разумно, по-колымски пьян, на ногах стоял и разговаривал здраво, только тяжело дышал спиртным перегаром. Моторист обслуживал перевозки лесорубов. Катер должен был отвалить еще вчера, но отплывал только на рассвете белой ночи колымской. О моей поездке моторист знал, конечно, но в катер, разводящий пары, уселся какой-то начальник, или знакомый начальника, или просто пассажир за большие деньги и, отвернув лицо, ждал, пока моторист закончит разговор со мной, откажет.
– Нет мест. Сказал – нет. В следующий раз поедешь.
– Да ведь ты же вчера…
– Мало ли что я сказал вчера… А сегодня передумал. Отходи от причала.
Все это пересыпается отборным матом колымским, лагерной бранью.
Заводник жил неподалеку, на горке, в палатке и спал не раздеваясь. Он сразу понял, в чем дело, и выскочил на берег в одной рубашке, без шапки, кое-как натянув резиновые сапоги. Моторист стоял в воде около катера в резиновых броднях, сталкивая катер в воду. Заводник подошел к самой воде:
– Ты что, не хочешь брать фельдшера, что ли?
Моторист выпрямился и повернулся к Заводнику:
– Да! Не беру. Сказал – не беру, и всё!
Заводник ударил моториста кулаком в лицо, и тот упал и исчез под водой. Я уж думал, что случилось несчастье, двинулся к воде, но моторист поднялся, вода текла с его брезентового комбинезона. Он добрался до катера, молча залез на свое место и запустил мотор. Я со своей медицинской сумкой сел к борту, вытянул ноги, и катер отчалил. Еще не стемнело, когда мы причалили в устье Бахайги.
Вся энергия Заводника, все его душевные силы были сосредоточены на выполнении желания начальника больницы Винокурова. Тут был безмолвный договор господина и раба. Господин берет на себя полную ответственность за то, что скрывает врага народа, троцкиста, которому участь – жить в спецзонах, а благодарный раб, не ожидая ни зачетов рабочих дней, никаких послаблений, создает для господина материальные блага в виде дров, свежей рыбы, дичи, ягод и прочих даров природы. Своих лесорубов Заводник держит твердой рукой, и одет во всё казенное, и ест из общего котла. Раб понимает, что никакие ходатайства о досрочном освобождении его господин выполнить не властен, но господин дает рабу сохранить жизнь – в самом буквальном, в самом элементарном смысле слова. Заводника освободили по сроку, по календарному сроку в пятнадцать лет, зачеты рабочих дней не могли быть применены к его статье. Заводник освободился в 1952 году в день окончания календарного срока в пятнадцать лет, полученного в 1937 году в Москве, в Лефортовской тюрьме. Заводник давно понял, что писать о пересмотре дела бесполезно. Ни на одну свою жалобу первых наивных колымских лет Заводник не получил ответа. Заводник вечно возился с проектами вроде устройства «ледянки» для лесозаготовок, сочинил и выстроил для лесорубов вагон на колесах, вернее, не на колесах, а на тракторных санях. Бригада могла двигаться за лесом. На Колыме ведь редколесье, полоса лесотундры, толстых деревьев нет; чтобы не ставить палатки, не рубить избушки, спроектировал вечный вагон с двухэтажными нарами на санях. Бригада лесорубов в двадцать человек и инструмент размещались удобно. Но пока было лето, а лето на Колыме очень жаркое, только жаркие дни, а ночи холодные, вагон был хорош, но гораздо хуже простой брезентовой палатки. Зимой же стены вагона были слишком холодны, тонки. Колымский мороз проверяет любой рубероид, толь, фанеру – крошит, ломает. В вагоне жить зимой было нельзя, и лесорубы вернулись в проверенные тысячелетиями избушки. Вагон был брошен в лесу. Я советовал Заводнику сдать его в магаданский музей краевой, но не знаю, послушался ли он моего совета.
Второй забавой Заводника и Винокурова были аэросани – вроде глиссера, летящего по снегу. Аэросани, полученные откуда-то с Большой земли, усиленно рекомендовались в учебниках по освоению Севера. Но аэросани требуют бескрайних белых пространств, а колымская почва на сто процентов – кочки, ямы, чуть засыпанные сверху снегом, который выдувается из всех щелей во время ветра, бури. Колыма малоснежна, и аэросани сломались при первых же опытах. Но, разумеется, Винокуров в своих отчетах на все эти вагоны и аэросани напирал очень сильно.
Заводника звали Яков Овсеевич. Не Евсеевич, не Евгеньевич, а Овсеевич, на чем он настаивал громогласно во время всех проверок и перекличек, что приводило всегда в волнение работников регистрации. Заводник был абсолютно грамотный человек, обладавший каллиграфическим почерком. Я не знаю мнения Зуева-Инсарова на предмет характеристики почерка Заводника, но удивительно был обязательный, неторопливый, очень сложный росчерк. Не инициалы, не Я. З. – небрежный хвостик, а тщательно, неторопливо выписанный сложный узор, научиться которому и запомнить можно лишь в ранней юности или в поздней тюрьме. На выведение своей фамилии Заводник тратил не меньше минуты. Там тончайшим и ярчайшим образом находили место и инициал Я, и инициал отчества О – круглейшее, особенное О, и фамилия Заводник, крупно выведенная ясными большими буквами, и энергичный росчерк, захватывающий только фамилию, и последующие какие-то особенно сложные, особенно воздушные завитушки – как бы прощание художника с любовно им выполненной работой. Я проверял много раз в любой обстановке, хоть на седле, на планшете, но подпись комиссара Заводника будет неторопливой, уверенной и ясной.
Отношения у нас были отличные, мало сказать, хорошие. В это время, летом 1950 года, мне предложили вернуться в больницу на должность заведующего приемным покоем. Приемный покой огромной лагерной больницы на тысячу коек – дело непростое, и не могли наладить работу его годами. По совету всех организаций пригласили меня. Я договорился с Амосовым, новым главврачом, о кое-каких принципах, на которых будет построена работа приемного покоя, и согласился. Заводник прибежал ко мне.
– Я сейчас добьюсь отмены, этот блат будет поломан.
– Нет, Яков Овсеевич, – сказал я. – Вы и я оба знаем лагерь. Ваша судьба – это Винокуров, начальник. Он собирается ехать в отпуск. Через неделю после его [отъезда] вас выпишут из больницы. Для моей же работы Винокуров не имеет такого большого значения. Я хочу спать в тепле, раз это возможно, и хочу поработать над одним вопросом, принести кое-какую пользу.
Я понимал, что в приемном покое стихи писать мне не удастся, разве только редко. Вся бумага Баркана была уже записана. И там я писал каждую свободную [минуту]. Стихотворение с последней строкой «Морозы бывают в раю» написано на вымерзшем устье ключа Дусканья, записано каракулями на рецептурной тетради. А напечатано лишь через пятнадцать лет в «Литературной газете».
Заводник не знал, что я пишу стихи, да и не понял бы ничего. Для прозы территория Колымы была слишком опасна, рисковать можно было стихами, а не произаической записью. Вот главная причина, почему я писал на Колыме только стихи. Правда, у меня был и другой пример – Томаса Гарди, английского писателя, который последние десять лет жизни писал только стихи, а на вопросы репортеров отвечал, что его тревожит судьба Галилея. Если бы Галилей писал стихами, у него бы не было неприятностей с церковью. Я на этот галилеевский риск идти не хотел, хотя, разумеется, не по соображениям литературной и исторической традиции, а просто арестантское чутье мне говорило, что хорошо, что плохо, где тепло, где холодно при игре в жмурки с судьбой.
И верно, я как в воду глядел: Винокуров уехал, и Заводник был через месяц отправлен куда-то на прииски, где, впрочем, скоро и дождался окончания срока. Но в воду глядеть было не надо. Все это очень просто, элементарно в том искусстве или науке, которая называется жизнью. Это – азы.
Когда освобождается такой человек, как Заводник, на его арестантском личном текущем счету должно быть ноль целых ноль десятых. Так было и у Заводника. На Большую землю его, конечно, не пускали, и он устроился диспетчером на автобазе в Сусумане. Хотя, как бывшему зэка, ему не платили северных надбавок, ставки хватало на жизнь.
Зимой пятьдесят первого года мне привезли письмо. Врач Мамучашвили привезла мне письмо Пастернака на Колыму. И вот, взяв отпуск – я работал фельдшером в дорожном управлении, – я отправился в поездку на попутках. Такса попуток – морозы уже начались – рубль километр. Работал я тогда близ Оймякона, полюса холода, добрался оттуда до Сусумана. В Сусумане на улице встретил Заводника, диспетчера автобазы. Что может быть лучше? В пять часов утра Заводник меня посадил в кабину огромного «Татра» с прицепом. Я опустил чемодан в кузов – я мог бы ехать и в кузове, но водитель хотел [выполнить] просьбу своего начальника и посадил меня в кабину. Пришлось рискнуть – выпустить чемодан с глаз.
«Татр» летел.
Машина шла порожней, тормозила на каждом поселке, набирая попутчиков. Одни слезали, другие влезали. В небольшом поселке какой-то боец остановил «Татра» и посадил человек десять бойцов с материка – молодежь, прибывшую на военную службу. Все они были не тронуты еще резким северным загаром, не обожжены колымским солнцем. Километров через сорок их встретила военная машина, завернула. Бойцы перегрузили вещи и тронулись в путь. Была какая-то тревога, сомнение у меня. Я попросил остановить машину и заглянул в кузов. Чемодана не было.
– Это бойцы, – сказал водитель. – Но мы их нагоним, никуда не денутся.
«Татр» загудел, заворчал и кинулся вперед по трассе. Действительно, через полчаса «Татр» нагнал машину с бойцами, обогнав ЗИС, водитель перегородил «Татром» дорогу. Мы объяснили, в чем дело, и я нашел свой чемодан с письмом Пастернака.
– Я просто снял чемодан как наш, без всякого умысла, – объяснил старшой.
– Ну, без умысла так без умысла – самое главное результат.
Мы доехали до Адыгалаха, и я стал ловить свою оймяконскую или барагонскую машину.
В пятьдесят седьмом году я уже жил в Москве и узнал, что Заводник вернулся и работает в Министерстве торговли на той же должности, что и двадцать лет назад. Рассказал мне об этом Яроцкий, ленинградский экономист, очень много сделавший для Заводника в винокуровские времена. Я поблагодарил, взял у Яроцкого адрес Заводника, написал и получил приглашение повидаться прямо на работе, где будет заказан пропуск, и так далее. Письмо было подписано известным мне каллиграфическим росчерком. Точь-в-точь, ни одной лишней загогулины. Здесь я узнал, что Заводник «добивает» до пенсии, каких-то месяцев формально не хватает. Я посетовал, что Яроцкому не удалось возвратиться в Ленинград, хотя он расстался много раньше с Колымой, чем я и Заводник, и что теперь он вынужден быть в Кишиневе.
Дело Яроцкого, дело ленинградского комсомольца, голосовавшего за оппозицию, я знал очень хорошо. Не было никаких причин не жить ему в столице, но Заводник вдруг сказал:
– Правительству виднее. Это ведь у меня и у вас все ясно, а у Яроцкого, наверное, совсем другое дело…
Больше я у Якова Овсеевича Заводника не бывал, хотя и остаюсь его другом.
1970–1971