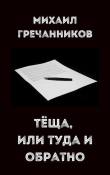Текст книги "Собрание сочинений. Том 2"
Автор книги: Варлам Шаламов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
Группа Савинкова, Гернси – Дьепп – Париж – последние боевые маршруты Натальи Климовой. Вряд ли она была раздавлена неудачей. Характер не тот. Климова привыкла, приучила себя к большим смертям, и человеческая подлость вряд ли была новинкой в революционном подполье. Давно был разоблачен Азеф, убит Татаров. Неудачи группы не могли убедить Наталью Сергеевну во всевластии самодержавия, в безнадежности усилий. И все же – это последняя боевая работа Климовой. Какие-то следы в психике Натальи Сергеевны эта травма, конечно, оставила…
В 1911 году Наталья Сергеевна знакомится с социал-революционером, боевиком, бежавшим с Читинской каторги. Это – земляк Михаила Соколова, «Медведя».
Влюбиться в Наталью Сергеевну немудрено. Наталья Сергеевна сама знает об этом отлично. Гость едет в колонию «амазонок» с письмом к Наталье Сергеевне и шутливым напутствием: «Не влюбись в Климову». Дверь в дом открывает Александра Васильевна Тарасова – та самая, которая освободила «амазонок» из Новинской тюрьмы, – гость, приняв Тарасову за хозяйку дома и вспомнив предупреждение друзей, удивляется неосновательности людских суждений. Но выходит Наталья Сергеевна, и гость, уехавший было домой, возвращается с первой станции обратно.
Торопливый роман, торопливый брак Натальи Сергеевны.
Все страстное утверждение себя вдруг обращается на материнство. Первый ребенок. Второй ребенок. Третий ребенок. Трудный эмигрантский быт.
Климова была человеком девятого вала. За 33 года ее жизни судьба выносила Наталью Климову на самые высокие, самые опасные гребни волн революционной бури, сотрясавшей русское общество, и Наталья Климова успевала справиться с этой бурей.
Штиль погубил ее.
Штиль, которому Наталья Сергеевна отдалась столь же страстно, столь же самоотверженно, как и самой буре… Материнство – первый ребенок, второй ребенок, третий ребенок – было столь же жертвенным, столь же полным, как и вся ее жизнь динамитчицы и террористки.
Штиль погубил ее. Неудачный брак, капкан быта, мелочи, мышья беготня жизни связали ее по рукам и ногам. Женщина, она приняла и этот свой жребий – слушая природу, которой она так была приучена следовать с детства.
Неудачный брак – Наталья Сергеевна никогда не забыла «Медведя», был ли он ее мужем или не был – решительно все равно. Муж ее – земляк Соколова, каторжанин, подпольщик – в высшей степени достойный человек, – и роман этот разворачивается со всей климовской увлеченностью и безоглядностью. Но муж Климовой был человеком обыкновенным, а «Медведь», человек девятого вала, – первой и единственной любовью слушательницы курсов Лохвицкой-Скалон.
Вместо динамитных бомб приходится таскать пеленки, горы детских пеленок, стирать, гладить, мыть.
Друзья Климовой? Самые близкие друзья погибли на виселице в 1906 году. Надежда Терентьева, одноделица по Аптекарскому острову, не была близким другом Наташи. Терентьева – товарищ по революционному делу – не больше. Взаимное уважение, симпатия – и все. Нет ни переписки, ни встреч, ни желания узнать побольше о судьбе друг друга. Терентьева отбывала каторгу в Мальцевском отделении, на Урале, где Акатуй, вышла на свободу с революцией.
Из Новинской тюрьмы, где был очень пестрый состав каторжанок, Наталья Сергеевна вывела в свою жизнь только одну дружбу – с надзирательницей Тарасовой. Эта дружба сохранилась навечно.
С острова Гернси в жизнь Климовой вошло больше людей – Фабрикант, женившийся на Тарасовой, Моисеенко становятся ее близкими друзьями. Наталья Сергеевна не поддерживает близких отношений с семьей Савинкова, не стремится укрепить это знакомство.
Как и Терентьева, Савинков для Климовой – товарищ по делу, не больше.
Климова – не теоретик, не фанатик, не агитатор и не пропагандист. Все ее побуждения – ее действия – дань собственному темпераменту, «сантиментам с философией».
Климова годилась для всего, но не для быта. Оказывается, есть вещи потруднее для нее, чем многомесячное голодное ожидание, где пекли картошку к ужину.
Очередные хлопоты о заработке, о пособии, двое маленьких детей, требующих заботы и решения.
После революции муж уезжает в Россию раньше семьи, и связь разрывается на несколько лет. Наталья Сергеевна рвется в Россию. Она, беременная третьим ребенком, переезжает из Швейцарии в Париж, чтобы уехать через Лондон в Россию. Дети и Н. С. заболевают и пропускают специальный детский пароход.
Ах, сколько раз в письмах из Петербургского ДПЗ Наташа Климова давала советы своим маленьким сестрам, которых обещала мачеха – тетя Ольга Никифоровна Климова привезти к Наташе в тюрьму из Рязани в Москву.
Тысяча советов: не простудитесь. Не стойте под форточкой. А то поездка не состоится. И дети слушались советов своей старшей сестры и сбереженные приезжали в Петербург на тюремное свидание.
В 1917 году не было такого советчика у Наташи Климовой. Дети простудились, пароход ушел. В сентябре рождается третий ребенок, девочка, живет недолго. В 1918 году Наталья Сергеевна делает последнюю попытку уехать в Россию. Куплены билеты на пароход. Но – гриппом заболевают обе девочки Натальи Сергеевны, Наташа и Катя. Ухаживая за ними, заболевает сама Климова. Грипп 1918 года – это мировой мор, это «испанка». Климова умирает, и детей воспитывают друзья Натальи Сергеевны. Отец – он в России – встретится с детьми только в 1923 году.
Время идет быстрее, чем думают люди.
Счастья в семье не было.
Война. Наталья Сергеевна – активный, страстный оборонец, – тяжело переживала военное поражение России, а революцию с ее мутными потоками воспринимала очень болезненно.
Кажется, нет сомнений, что в России Наталья Сергеевна нашла бы себя. Но – нашел ли себя Савинков? Нет. Нашла ли себя Надежда Терентьева? Нет.
Здесь судьба Натальи Сергеевны Климовой касается великой трагедии русской интеллигенции, революционной интеллигенции.
Лучшие люди русской революции принесли величайшие жертвы, погибли молодыми, безымянными, расшатавши трон – принесли такие жертвы, что в момент революции у этой партии не осталось сил, не осталось людей, чтобы повести Россию за собой.
Трещина, по которой раскололось время – не только России, но мира, где по одну сторону – весь гуманизм девятнадцатого века, его жертвенность, его нравственный климат, его литература и искусство, а по другую – Хиросима, кровавая война и концентрационные лагеря, и средневековые пытки и растление душ – предательство – как нравственное достоинство – устрашающая примета тоталитарного государства.
Жизнь Климовой, ее судьба потому и вписаны в человеческую память, что эта жизнь и судьба – трещина, по которой раскололось время.
Судьба Климовой – это бессмертие и символ.
Обывательская жизнь оставляет после себя меньше следов, чем жизнь подпольщика, нарочито спрятанная, нарочито скрытая под чужими именами и чужой одеждой.
Где-то пишется эта летопись, иногда поднимаясь на поверхность, как «Письмо перед казнью», как мемуар, как запись о чем-то очень важном.
Таковы все рассказы о Климовой. Их на свете немало. Следов Наталья Сергеевна оставила достаточно. Просто все эти записи не соединены в единый свод памятника.
Рассказ – это палимпсест, хранящий все его тайны. Рассказ – это повод для волшебства, это предмет колдовства, живая, еще не умершая вещь, видевшая героя. Может быть, эта вещь – в музее: реликвия; на улице: дом, площадь; в квартире: картина, фотография, письмо…
Писание рассказа – это поиск, и в смутное сознание мозга должен войти запах косынки, шарфа, платка, потерянного героем или героиней.
Рассказ – это палея, а не палеография. Никакого рассказа нет. Рассказывает вещь. Даже в книге, в журнале необычна должна быть материальная сторона текста: бумага, шрифт, соседние статьи.
Я держал в руках письмо Натальи Сергеевны Климовой из тюрьмы и письма последних лет ее жизни из Италии, Швейцарии, Франции. Письма эти сами по себе рассказ, палея с законченным, строгим и тревожным сюжетом.
Я держал в руках письма Натальи Климовой после кровавой железной метлы тридцатых годов, когда вытравливалось, уничтожалось и имя человека, и память о нем – не много на свете осталось собственноручных писем Климовой. Но эти письма есть и, как ничто другое, вносят яркие штрихи. Это – письма из Петербурга, из Новинской тюрьмы, из-за границы, после побега своей мачехе-тете, младшим братьям и сестрам, отцу. Хорошо, что в начале века почтовую бумагу делали из тряпок, бумага не пожелтела, и чернила не выцвели…
Смерть отца Натальи Сергеевны, наступившая в самый острый момент ее жизни, во время следствия по делу о взрыве на Аптекарском острове, смерть, спасшая жизнь Климовой – ибо никакой судья не рискнет осудить на смерть дочь – когда отец, подавая просьбу, умирает сам.
Трагедия рязанского дома сблизила Наташу с мачехой, кровью спаяла их друг с другом – письма Наташи становятся необычайно сердечны.
Усиливается внимание к домашним заботам.
Детям – рассказы о красных цветах, растущих на вершинах самых высоких гор. Для детей была написана повесть «Красный цветок». Климовой хватало на все. В письмах детям из тюрьмы – целая программа воспитания детской души, без назидательности, без поучительности.
Лепка человека – одна из любимых тем Натальи Сергеевны.
В письмах есть строки и поярче «Письма перед казнью». Огромная жизненная сила – решение вопроса, а не сомнения в правильности пути.
Многоточие было любимым знаком препинания Натальи Сергеевны Климовой. Многоточий явно больше, чем принято в нормальной русской литературной речи. Многоточия Наташи скрывают не только намек, тайный смысл. Это – манера разговора. Климова умеет делать многоточия в высшей степени выразительными и пользуется этим знаком очень часто. Многоточие надежд, критики. Многоточие аргументов, споров. Многоточие средство описаний шутливых, грозных.
В письмах последних лет – нет многоточий.
Почерк становится менее уверенным. Точки и запятые по-прежнему стоят на своих местах, а многоточия вовсе исчезли. Все ясно и без многоточий. Расчеты курса франка не нуждаются в многоточиях.
Письма к детям полны описаний природы, и чувствуешь, что это не книжное постижение философии смысла вещей, а общение с детства с ветром, горой, рекой.
Есть великолепное письмо о гимнастике и танцах.
Письма детям, разумеется, имеют в виду детское понимание вопроса, да и тюремную цензуру.
Климова умеет сообщить и о карцерных наказаниях – Наталья Сергеевна часто сидела в карцере, причина во всех тюрьмах – выступление за арестантские права. И. Каховская, встречавшаяся с Климовой в Петербурге и в Москве – в тюремных камерах, разумеется, – много рассказывает об этом.
И. Каховская пишет, как в соседней одиночке питерской пересылки «Наташа Климова отплясывала под ритмический звон кандалов всякие причудливые танцы».
Как стучала в стену стихи Бальмонта:
«Тот, кто хочет, чтобы тени
Исчезали, пропадали,
Кто не хочет повторенья
И безбрежности печали,
Должен сам себе помочь —
Должен властною рукою
Бесполезность бросить прочь, —
стучала мне в стенку из Бальмонта в ответ на мои ламентации по этому поводу бессрочная Н. Климова. Полгода назад она пережила казнь самых близких ей людей, Петропавловку и смертный приговор».
Бальмонт был любимым поэтом Натальи Сергеевны. Это был «модернист» – а то, что «искусство с модернизмом», Наталья Сергеевна чувствовала, хотя это и не ее слова.
Детям написано из тюрьмы целое письмо о Бальмонте. Натура Натальи Сергеевны нуждалась в немедленном логическом оправдании своих чувств. «Сантименты с философией» – называл это свойство характера Натальи Сергеевны ее брат Миша.
Бальмонт – это значит, что литературный вкус Натальи Сергеевны, как и вся ее жизнь, тоже проходил по передовым поэтическим рубежам современности. И если Бальмонт оправдал надежды Климовой, то достаточно жизни Климовой, чтобы оправдать существование Бальмонта, творчество Бальмонта. О стихах Климова в письмах заботится чрезвычайно, старается, чтобы сборник «Будем как солнце» был с ней всегда.
Если в стихах Бальмонта был какой-либо мотив, мелодия, заставлявшая звучать струны такой настройки, как душа Климовой, – Бальмонт оправдан. Казалось бы, проще, созвучней Горький с его буревестником, Некрасов… Нет. Любимый поэт Климовой – Бальмонт.
Блоковский мотив нищей, ветровой России тоже был очень силен в Климовой, особенно в сиротливые, заграничные ее годы.
Наталья Сергеевна не представляла себя вне России, без России и не для России. Тоска по русской природе, по русским людям, по рязанскому дому – ностальгия в самой чистой ее форме выражена в заграничных письмах очень ярко и, как всегда, страстно и логично.
И еще одно письмо страшно. Наталья Сергеевна, со всей страстью переживая разлуку, постоянно думая о родине, повторяя как заклинания, вдруг задумывается и говорит слова, которые вовсе не к лицу рационалистке, вольтерьянке, наследнице безверия XIX века, – Наталья Сергеевна пишет в тревоге, охваченная предчувствием, что она никогда больше не увидит Россию.
Что же осталось от этой страстной жизни? Только школьная золотая медаль в кармане лагерной телогрейки старшей дочери Натальи Сергеевны Климовой.
Я хожу не один по следу Климовой. Со мной ее старшая дочь, и когда мы находим дом, который ищем, женщина входит внутрь, в квартиру, а я остаюсь на улице или, войдя следом за ней, прячусь где-нибудь у стены, сливаюсь с оконной шторой.
Я видел ее новорожденной, вспоминал, как сильные, крепкие руки матери, легко таскавшие пудовые динамитные бомбы, назначенные для убийства Столыпина, с жадной нежностью обнимали тельце своего первого ребенка. Ребенка назовут Наташей – мать назовет своим именем, чтобы обречь дочь на подвиг, на продолжение материнского дела, чтобы всю жизнь звучал этот голос крови, этот призыв судьбы, чтобы названная именем матери всю свою жизнь откликалась на этот материнский голос, зовущий ее по имени.
Ей было шесть лет, когда мать умерла.
В 1934 году мы навестили Надежду Терентьеву, максималистку, одноделицу Натальи Сергеевны Климовой по первому громкому делу, по Аптекарскому острову.
«Не похожа на мать, не похожа», – кричала Терентьева новой Наташе, русоволосой дочери, не похожей на темноголовую мать.
Терентьева не разглядела материнской силы, не угадала, не почувствовала огромной жизненной силы, которая понадобилась дочери Климовой на испытания большие, чем испытания в огне и буре, которые были суждены матери.
Мы побывали у Никитиной – у участницы побега тринадцати, прочли две ее книжки об этом побеге.
Мы побывали в Музее Революции, на стенде девятисотых годов были две фотографии. Наталья Климова и Михаил Соколов. «Пришлите мне фотографию, где я в белой кофточке и пальто внакидку, – у меня многие просят, а если нет (Миша говорил, что ее потеряли), то гимназическую. У меня многие просят».
Эти сердечные строки – из посланного после побега первого письма Натальи Сергеевны.
Сейчас сорок седьмой год, и мы снова стоим вместе на Сивцевом Вражке.
Телогрейка еще хранит, как след дорогих духов, еле слышный запах Казахстанских лагерных конюшен.
Это был какой-то празапах, от которого произошли все запахи земли, запах унижения и щегольства, запах нищенства и роскоши.
В лагере, в Казахстанской степи, женщина полюбила лошадей за их свободу, раскованность табуна, который почему-то никогда не пытался растоптать, уничтожить, смять, стереть с лица земли. Женщина в лагерной телогрейке, дочь Климовой, поздно поняла, что она обладает удивительным даром доверия животных и птиц. Горожанка, она узнала преданность собак, кошек, гусей, голубей. Последний взгляд овчарки в Казахстане при разлуке тоже был каким-то рубежом, каким-то мостом, сожженным в ее жизни, – женщина входила ночью в конюшню и слушала лошадиную жизнь – свободную, в отличие от людей, окружавших женщину, со своим интересом, своим языком, своей жизнью. Позже в Москве, на ипподроме, женщина попытается встретиться с лошадьми снова. Разочарование ждало ее. Беговые лошади, в упряжке, в лентах, в шляпах, охваченные азартом посыла, были больше похожи на людей, чем на лошадей. Женщина больше не встречалась с лошадьми.
Но все это было после, а сейчас телогрейка еще хранила еле слышный запах казахстанской лагерной конюшни.
Что уже было? Рыба лососевой породы вернулась в родной ручей, чтобы ободрать в кровь бока о прибрежные скалы. «Я очень любила танцевать – вот весь мой грех перед мрачной Москвой тридцать седьмого года». Вернулась, чтобы жить на земле, где жила ее мать, доехать до России на том пароходе, на который опоздала Наталья Климова. Рыба лососевой породы не слушает предупреждений, внутренний голос сильнее, властнее.
Зловещий быт тридцатых годов: предательство близких друзей, недоверие, подозрительность, злоба и зависть. Женщина поняла тогда на всю жизнь, что нет хуже греха, чем грех недоверия, и поклялась… Но раньше, чем она поклялась, ее арестовали.
Арестовали ее отца, он исчез в скользких от крови подвалах лагерей «без права переписки». У отца был рак горла – после ареста он мог прожить недолго. Но когда пытались навести справки, получали ответ, что он умер в 1942 году. Эта сказочная противораковость, чудесная антиканцерогенность лагеря, где жил и умер отец, – не привлекла внимания мировой медицины. Мрачная шутка, каких было немало тогда. Много лет две женщины будут искать хоть тень следа отца и мужа и ничего не найдут.
Десять лет лагерей, бесконечные общие работы, отмороженные руки и ноги – до конца жизни холодная вода будет причинять рукам боль. Смертные метели, когда вот-вот перестанешь жить. Безымянные руки, которые поддерживают в метели, приводят в барак, оттирают, отогревают, оживляют. Кто они, эти безымянные люди, безымянные, как террористы молодости Натальи Климовой.
Табуны лошадей. Казахстанских лагерных лошадей, более свободных, чем люди, со своей жизнью особой – женщина-горожанка обладала странным даром доверия животных и птиц. Животные ведь тоньше чувствуют людей, чем люди друг друга, и в человеческих качествах разбираются лучше людей. Животные и птицы относились к дочери Наташи Климовой с доверием – тем самым чувством, которого так не хватало людям.
В 1947 году, когда за плечами было следствие и десять лет лагерей, – испытания только начинались. Механизм, который размалывал, убивал, казался вечным. Те, кто выдерживал, кто доживал до конца срока, обрекались на новые скитания, на новые бесконечные мучения. Эта безнадежность бесправия, обреченность – темная от крови заря завтрашнего дня.
Густые, тяжелые золотые волосы. Что еще будет? Бесправие, многолетние скитания по стране, прописки, устройство на работу. После освобождения, после лагеря – первая работа прислугой у какого-то лагерного начальника – поросенок, которого надо было мыть, ухаживать за ним – или – опять за пилу, на лесоповал. И спасение: работа инкассатором. Хлопоты по прописке, «режимные» города и районы, паспорт-клеймо, паспорт-оскорбление…
Сколько рубежей будет еще пройдено, сколько мостов сожжено…
Вот здесь в 1947 году молодая женщина впервые поняла и почувствовала, что не материнское имя прославить пришла она на землю, что ее судьба – не эпилог, не послесловие чьей-то, пусть родной, пусть большой жизни.
Что у нее своя судьба. И для утверждения этой своей судьбы путь только начат. Что она – такая же представительница века и времени, как и ее мать.
Что сохранить веру в человека при ее личном опыте, ее жизни – подвиг не меньший, чем дело матери.
Я часто думал, почему всемогущий, всесильный лагерный механизм не растоптал душу дочери Климовой, не размолол ее совести. И находил ответ: для лагерного распада, лагерного уничтожения, попрания человека нужна подготовка немалая.
Растление было процессом, и процессом длительным, многолетним. Лагерь – финал, концовка, эпилог.
Эмигрантская жизнь сохранила дочь Климовой. Но ведь и эмигранты держались на следствиях 37-го года не лучше «местных». Традиции семьи спасли. И та огромная жизненная сила, которая выдержит испытание хозяйским поросенком – только отучит плакать навечно.
Она не только не потеряет веры в людей, но восстановление этой веры, повсечасное доказательство веры в людей сделает своим жизненным правилом: «заранее считать, что каждый человек – хороший человек. Доказывать нужно только обратное».
Среди зла, недоверия, зависти, злобы – чистый голос ее будет очень приметен.
– Операция была очень тяжелой – камни печени. Был 1952 год – самый трудный, самый плохой год моей жизни. И, лежа на операционном столе, я думала… Операции эти – камни в печени – не делаются под общим наркозом. Общий наркоз при этих операциях дает сто процентов смертей. Мне делали под местным, и я думала только об одном. Надо перестать мучиться, перестать жить, – и так легко это – чуть-чуть ослабить волю – и порог будет перейден, дверь в небытие открыта… Зачем жить? Зачем воскресать снова к 1937? 1938, 1939, 1940, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1950, 1951 годам всей моей жизни, такой ужасной?
Операция шла, и хоть мне было слышно каждое слово, я старалась думать о своем, и где-то из самой глубины моей, из самого нутра моего существа ползла какая-то струйка воли, жизни. Эта струйка становилась все мощнее, все полнее, и внезапно мне стало легко дышать. Операция была кончена.
В 1953 году умер Сталин, и началась новая жизнь с новыми надеждами, живая жизнь с живыми надеждами.
Воскресением моим было свидание с мартом 1953 года. Воскресая на операционном столе, я знала, что надо жить. И я воскресла.
На Сивцевом Вражке мы ждем ответа. Выходит хозяйка, постукивая каблуками, белый халатик застегнут, белая шапочка туго натянута на аккуратно уложенные седые волосы. Хозяйка не спеша разглядывает гостью своими крупными, красивыми темными дальнозоркими глазами.
Я стоял, сливаясь с оконной занавеской, с тяжелой запыленной шторой. Я, знавший прошлое и видевший будущее. Я уже побывал в концлагере, я сам был волком и мог оценить волчиную хватку. Я кое-что в повадках волков понимал.
В сердце мое вошла тревога – не страх, а тревога – я увидел завтрашний день этой невысокой русоволосой женщины, дочери Наташи Климовой. Я увидел ее завтрашний день, и сердце мое заныло.
– Да, я слышала об этом побеге. Романтическое время. И «Письмо после казни» читала. Господи! Вся интеллигентная Россия… Помню, все помню. Но романтика – это одно, а жизнь – вы простите меня, – жизнь другое. Вы сколько лет были в лагере?
– Десять.
– Вот видите. Я могу вам помочь – ради вашей мамы. Но ведь я не на Луне. Я земной житель. Может быть, у ваших родственников есть какая-нибудь золотая вещь – кольцо там, перстень…
– Есть только медаль, мамина школьная медаль. А кольца нет.
– Очень жаль, что нет кольца. Медаль – это на зубные коронки. Я ведь зубной врач и протезист. Золото у меня быстро идет в дело.
– Вам надо уходить, – прошептал я.
– Мне надо жить, – твердо сказала дочь Наташи Климовой. – Вот… – И из кармана лагерной телогрейки она достала тряпичный сверточек.
1966