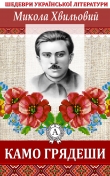Текст книги "Господа, это я!"
Автор книги: Ваник Сантрян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Начало мая 1910 года.
На письменный стол премьер-министра и министра внутренних дел Столыпина легли два письма. Одно из них – от министра иностранных дел Сазонова, который, встревоженный поднятой шумихой, писал:
«Милостивый государь Петр Аркадьевич!
За последние дни немецкая демократическая печать с особенной страстью обсуждает судьбу русского подданного Аршакова (он же Мирский и Тер-Петросов), который привлечен к ответственности перед военным судом в Тифлисе по делу о разбойном нападении в названном городе на казенный денежный транспорт в 1907 году и которому грозит, будто бы, смертная казнь.
При говор суда должен был состояться, по словам германской прессы, в Тифлисе 26 апреля.
Радикальный орган „Форвертс“, демократическая „Франкфуртер цайтунг“ и „Берлинер тагеблат“ нападают при этом на немецкую полицию, выславшую Аршакова-Мирского, по выходе его из Берлинской городской больницы для душевнобольных, в Россию, где он, будто бы, тотчас же попался в руки русским властям. С другой стороны, сказанные газеты позволяют себе тенденциозные и крайне резкие суждения о русских „политических судебных процессах“.
В Министерстве Иностранных Дел велась в 1908 году по делу Мирского переписка с Министерством Юстиции, которое просило войти в сношение с Германским Правительством на предмет судебно-медицинского освидетельствования и допроса в качестве свидетеля названного лица, задержанного в 1907 году в Берлине. Отношением от 18 июня 1908 г. № 171 Министерство Иностранных Дел уведомило первый Департамент Министерства Юстиции, что Мирский не может быть допрошен вследствие состояния здоровья, как о том свидетельствовало приложенное к сказанному отношению судебно-медицинское удостоверение.
Принимая во внимание, что нападки прессы на Германское Правительство, которые не преминут усилиться в случае, если Мирский, действительно, будет приговорен к смертной казни, могут оказать неблагоприятное для нас влияние в вопросе о высылке анархистов, считаю долгом сообщить о вышеизложенном Вашему Превосходительству, на случай, если Вы признаете необходимым принять по сему какие-либо меры.
Примите. Милостивый государь, уверение в отличном моем уважении и совершенной преданности.
САЗОНОВ».
Автор второго письма-телеграммы был президент Лиги защиты прав человека Френсис де Прессансе, который выражал уверенность, что «русское правительство в соответствии с принципами прав человека откажется признать виновным Мирского-Аршакова-Тер-Петросова, болезненное состояние и невменяемость которого были юридически установлены компетентными специалистами».
Петра Столыпина, почти не видного из-за длинного, покрытого сукном письменного стола, телеграмма из Парижа нисколько не заинтересовала. Права человека? Еще чего! Он посмотрел в окно, за которым уже третий день не переставая лил дождь, из-за которого он, премьер-министр России, не мог пойти на рыбалку. Он крепко выругался, обращаясь то ли к дождю, то ли к президенту Лиги защиты прав человека, и подписал на телеграмме: «Что за чепуха?»
Письмо министра иностранных дел не на шутку взволновало Столыпина. Он достал из ящика чистый лист бумаги, собираясь написать письмо в Тифлис, наместнику Кавказа Воронцову-Дашкову.
«СЕКРЕТНО
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Милостивый государь граф Илларион Иванович!
Министерство Иностранных Дел письмом от 27 апреля сего года № 42 сообщило мне, что за последние дни немецкая демократическая печать с особенной страстностью обсуждает судьбу Аршакова (он же Мирский и Тер-Петросов), привлеченного к ответственности в г. Тифлисе по делу о разбойном нападении на казенный денежный транспорт в 1907 году.
Радикальные органы „Франкфуртер цайтунг“ нападают при этом на немецкую полицию, выславшую Аршакова-Мирского по выходе его из берлинской городской больницы для душевнобольных в Россию, где он был тотчас же задержан русскими властями. Нападки прессы на германское правительство не преминут усилиться в случае, если Мирский будет приговорен к смертной казни, и Министерство Внутренних Дел опасается, что это может оказать неблагоприятное для русских интересов влияние в вопросе о высылке анархистов.
Пользуюсь случаем выразить вашему сиятельству уверения в совершенном моем почтении и истинной преданности.
П. СТОЛЫПИН».
Никогда еще царский наместник не оказывался в столь глупом положении. Он еще помнил историю с пятьюстами винтовками, большую часть которых Камо приобрел с разрешения самого царского наместника, ловко его облапошив: дескать, они нужны ему для наведения порядка в Тифлисе, однако вместе с участниками вооруженных столкновений повернул дула винтовок против властей. А его побег из тюрьмы под чужим именем: прикинувшись простачком и назвавшись крестьянином Шаншиашвили, он улизнул из Метехской тюрьмы. Наконец экспроприация на Эриванской площади средь бела дня. Разве такое забудется?
Однако он обязан был написать осторожный ответ.
«Его превосходительству П. А. Столыпину.
Милостивый государь Петр Аркадьевич!
Вследствие письма вашего высокопревосходительства от 7-го сего мая № 91 104 считаю необходимым сообщить вам, что Семен Аршакович Тер-Петросов (Мирский) был предан Кавказскому военно-окружному суду для осуждения его по законам военного времени по обвинению его в преступлениях, предусмотренных статьей 102 уголовного уложения (изд. 1903 г.), статьями 13, 1627, 1630, 1632 и 1634 уложения о наказаниях (изд. 1885 г.) и статьей 279 книги XX 11-го св. военных постановлений 1869 года, изд. 3, совершенных им при вооруженном нападении в 1907 году на казенный денежный транспорт в г. Тифлисе на Эриванской площади.
В заседании по этому делу, состоявшемуся 26 минувшего апреля, Кавказский военно-окружной суд постановил ввиду обнаружившихся признаков ненормальности умственных способностей у подсудимого Тер-Петросова, дело о нем направить в порядке статьи 423 книги XXIV, св. военных постановлений 1869 года, изд. 3, к прокурору Тифлисского окружного суда для доследования, и 4 сего мал постановление это было приведено в исполнение.
В настоящее время Тер-Петросов содержится в тифлисском Метехском замке, где числится за прокурором Тифлисского окружного суда.
Что же касается опасений Министерства Иностранных Дел, что неминуемые в случае присуждения Тер-Петросова к смертной казни нападки немецкой прессы на германское правительство могут оказать неблагоприятное для русских интересов влияние в вопросе о высылке анархистов, то соображение это мною будет принято во внимание при представлении приговора военного суда о Тер-Петросове на мою конфирмацию.
Прошу принять уверение в совершенном моем почтении и искренней преданности.
Подписал: граф ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ».
Дело Камо затягивается, его переводят в тюремную больницу, где под строжайшим надзором его должны подвергнуть медицинскому осмотру. Появились шансы на побег.
15 августа 1911 года прутья железной решетки в тюремной больнице были перепилены. На последней странице больничного листка Семена Аршаковича Тер-Петросяна-Камо была сделана следующая запись: «Испытуемый (по словам дежурного надзирателя Григорьева) в четыре часа пополудни, во время чая, попросился в клозет, дежурный служитель Жданков выпустил его из камеры и проводил до клозета, а сам вернулся в камеру другого беспокойного больного (Мирзаянца), который стучался в дверь. Когда же понесли чаю Тер-Петросяну, то его не оказалось ни в камере, ни в клозете. В этот промежуток времени он исчез из отделения».
Он резко обернулся, прошел несколько шагов назад. Осмотрелся и облегченно вздохнул.
Не было видно никакого прохожего, якобы углубленного в чтение газеты или завязывающего «случайно» развязавшийся шнурок на обуви, и никто не попросил у него «прикурить», и не оказалось поблизости красотки, поправляющей в зеркальце свои локоны.
Саперная улица все та же, как в тот памятный августовский вечер 1911 года, когда сюда гурьбой высыпали веселые шумные кинто с доолом и дудуком [10]10
Доол – ударный музыкальный инструмент; дудук – духовой музыкальный инструмент.
[Закрыть].
– Что такое, а? – соседи высунули в окна потные лбы. – Чья-то свадьба?
– Нет, это кинто веселятся!
По улице неслась нежная мелодия дудука, тонкие пальцы легко касались доола, извлекая из него плавную дробь, кто-то затянул песню.
Грустно ли, весело ли было на душе прохожих, они невольно замедляли шаг, забывая о недавних и грядущих заботах, и, покачивая головой в такт музыке, подпевали кинто.
Распевающий кинто был с бородой – редко когда кинто отпускали бороды. Красой их лиц, как правило, были не бороды, а длинные подкрученные кверху усы, напоминающие миниатюрные козлиные рога.
…Бородатый кинто незаметно вдруг юркнул в фаэтон и уехал. Вышел он на Саперной улице и растворился в полумраке подъезда одного из домов. И это в то время, как полицейские уже переворошили весь Тифлис, разыскивая его.
Саперная улица, дом № 14.
Здесь тихо-мирно живут Майсурадзе. У подъезда их дома стояла какая-то парочка и, когда фаэтон с бородачом, что распевал песни Саят-Новы, поравнялся с ними и тот проскользнул в ворота двора, молодой человек с барышней последовали за ним. Напоследок они огляделись: не заинтересовался ли кто-нибудь приездом бородатого кинто?
Любопытных не оказалось.
Но возможно ли, чтоб никто им не заинтересовался? Вряд ли!
По всей стране сейчас телеграфные провода взахлеб передавали данные о его наружности: прическе, о поврежденном от взрыва глазе, о возрасте, осанке, походке. Позор! Какой позор! Вся Европа смеялась над русской охранкой. Но уж кому-кому, а Европе лучше помолчать: два года в Берлине он водил за нос полицию, судебные органы и врачей, прикидываясь душевнобольным до тех пор, пока, улучив момент, не выскользнул из их рук.
Наконец-то побег удался, он на свободе. И чтобы замести следы, видимо, подастся в Баку.
…Если в кармане у тебя документ, удостоверяющий твою личность, то почему бы не выйти на улицу, ничем не рискуя? Еще с седьмого года остались невыясненными кое-какие вопросы. Что случилось с Сегалем? Куда подевался этот Отцов-Житомирский? Это он донес на тебя, Камо, он передал берлинской полиции твой адрес, даже если и кто другой, то с его помощью, потому что никто, кроме Житомирского, не знал о каждом твоем шаге. Это он, хотя и говорили: вне всяких подозрений. Иначе выходит, что предал тебя твой старый бакинский друг, врач Гавриил Сегаль? А это исключено.
Ну а если?.. Что тогда? Рабочий поселок находится не так близко от Молоканской улицы, чтоб пройтись метров сто и оказаться там, но и не так далеко, как Париж, чтоб не суметь туда добраться и спросить: «Ну, доктор Житомирский, взгляни-ка в глаза и скажи, что ты не причастен ко всем моим страданиям».
Гавриил Сегаль – провокатор? Но это то же самое, что сомневаться в самом себе. Айда в поселок, к Гавриилу!
– Если задержусь, – уходя сказал он Сато, жене лудильщика Серго, где вновь нашел прибежище, – значит, не вернусь ночевать, останусь у моего приятеля.
– Господин доктор, фаэтон вас дожидается, – позвал его с улицы Серго.
Камо вскочил в фаэтон, устроился поудобнее и распорядился:
– В поселок! Можешь не гнать лошадей.
Извозчик молча дернул вожжи.
Задумавшись, Камо чуть было не проехал мимо. В дом вошел нарочито шумно.
– Кто там?
– Я.
– Камо?!
– Да-с, я. А ты думал, так легко от меня отделаться? Или думал, я в тюрьме сгнию? – Камо рассмеялся, стискивая в объятиях одетого в пижаму хозяина дома.
– Стало быть, ты и есть беглец из Метеха?
– Ну что ты, то был сын моего отца. Не спеши, я тебе все расскажу.
Когда доктор Сегаль начал заваривать чай, Кама исподволь завел с ним разговор:
– Что же ты о Берлине не спрашиваешь? Молчишь почему-то.
– Сдав тебя в руки немецкой полиции, – заговорил Сегаль, роясь в ящике письменного стола, – доктор Яков Житомирский был уверен, что немцы в два счета выпроводят тебя в Россию. А тут все ясно: мера твоего наказания – расстрел. Его расчет был верен. Вы больше не увидитесь, так почему бы не донести на тебя? Ну а на том свете….
– Но ему же все доверяли!
– Доверяли. Вот оно, его письмо. Он написал мне в Вену из Парижа, после твоего ареста. Да, Житомирский – провокатор, а некоторые товарищи этому не верят. Негодяй в точности выполнял все задания партии. Не ты один был его жертвой. Язык не поворачивается говорить дальше. На вот, почитай лучше.
Разволновавшийся Камо выхватил конверт из рук Сегаля. В письме черным по белому было написано: «Здравствуй, Сегаль. Камо тебя оговорил. Не советую возвращаться в Баку». Камо глазам своим не поверил. Прочитал еще раз, вслух. И смолк, швырнул бумагу на стол, сжал кулак. Желваки на лице нервно вздрагивали.
– Налей мне чаю. Только покрепче. Сукин сын! Ничего, я сейчас успокоюсь. Дай чаю!
Гавриил налил ему чаю из кипевшего, булькающего чайника.
– Помнишь, как в Берлине мы пошли втроем обедать в роскошный ресторан?
…Провокатора Житомирского разоблачили лишь в 1917 году.
Но до 1917 года еще далеко, сейчас осень 1907-го, и Камо со своим бакинским другом Гавриилом Сегалем и Яковом Житомирским обедает в одном из дорогих берлинских ресторанов. Ему и в голову не могло прийти, что в эту самую минуту, когда Житомирский потчевал его и рассказывал веселые истории, заведующий зарубежной агентурой русской тайной полиции Аркадий Гартинг на своей секретной парижской квартире составлял по докладной, представленной Житомирским-Данде, шифровку для директора департамента полиции Трусевича. «В данное время Камо с помощью Меера Валлаха и проживающего в Льеже социал-демократа, студента Турпаева…»
Откуда было знать Камо, что три дня назад тот же Гартинг получил из Берлина следующую телеграмму: «На своей берлинской квартире он (Мирский) хранит в чемодане большое количество капсюлей. Андре».
А сейчас Камо с Сегалем чокаются с Житомирским. Тот и Сегаля не обошел вниманием, в своей шифровке упомянул и о нем. В шифрованной телеграмме за подписью «Андре» о Сегале и его друге Окиншевиче было сказано: «Оба они находятся в Париже, служат в Баку, в больнице Совета съезда нефтепромышленников, являются крайне серьезными социал-демократами, „большевиками“, пользующимися доброй репутацией и хорошо знают Камо. Доктор Сегаль во время приезда в Берлин посещал Камо и в записной книжке последнего значился его адрес».
Камо был арестован по доносу провокатора.
– Хотел чаю и не выпил, он уже остыл, – Сегаль прервал воспоминания Камо.
– Вот скажи, после того, как он на меня донес, вы встречались с ним? Если да, то как он объяснил мой арест? Проливал крокодиловы слезы или же…
Сегаль улыбнулся:
– Скажу. Он и до меня бы добрался, если б успел. В те дни у него было много дел.
– Какие еще дела?
Эх, Камо, Камо! Как же ты доверчив к людям, иногда до наивности, и виной тому твоя честность и искренность! В конечном итоге, они тебя и подводят. Ты и не узнал, что после твоего ареста Житомирский предал и, других товарищей, занимавшихся разменом крупных купюр: Сару Равич, студентов Тиграна Багдасаряна [11]11
Впоследствии известный писатель Костан Зарян (1885–1969).
[Закрыть]и Миграна Ходжамиряна взяли в Мюнхене, Меера Валлаха – в Париже, Яна Мастера – в Стокгольме. Под всеми доносами стояла подпись: «Андре». За один только донос на тебя, Камо, он получил две тысячи марок вознаграждения.
– Да, дорогой, так-то! Пока он занимался доносами, я и Окиншевич дали деру, – сказал Сегаль.
…В тот осенний день Камо был весел, ему хотелось, насвистывая, прогуляться по улице. Рядом шагал Яков Житомирский. Он пригласил Камо отобедать с ним.
– Погоди, погоди, Яков! – Камо порывисто обернулся к Якову. – Смотри, кто идет! Ты не знаешь этого молодого человека? Вон он, идет нам навстречу. А ну-ка вспомни!
– Надо же! Кто бы мог подумать! Ну да, мой земляк, Гавриил Сегаль, наш бакинский врач. Да, он, – и Житомирский поправил свои очки.
Когда Сегаль поравнялся с ними, Камо тихо произнес:
– Здравствуй, господин бакинец.
Сегаль оглянулся.
– О! Вот так встреча! Здравствуй, Семен! Недаром ты говорил, что мы с тобой увидимся в Берлине. Но кто бы подумал, что нас сведет случай. Здравствуй, доктор Яков. Рад вас видеть в полном здравии.
– Присоединяйся к нам, Гавриил, – сказал Камо. – Мы идем обедать. Составь нам компанию. Я приглашаю, Житомирский угощает.
– Пошли, – сказал Яков. – Заодно и поговорим, расскажешь, где и как устроился. Как-нибудь на досуге загляну к тебе.
– Помнишь, в Баку ты говорил, что собираешься в Берлин, – говорил Камо, а Житомирский тем временем изучал меню. – Кажется, на практику?
– Угу, – кивнул Сегаль. – Здесь я работаю в одной из глазных клиник. Запиши адрес. В Баку ты жаловался на больной глаз. Зайди как-нибудь, проверим.
– Вот этот профессор уже показывал меня врачам, – записав адрес Сегаля, Камо кивнул на Житомирского. – Выход один – операция.
– Обязательно загляни ко мне.
Камо пообещал непременно навестить Сегаля. Прошел день, Камо не появлялся, другой – его все не было…
– Вначале я и не подозревал, что за мной следят, – продолжал Сегаль, – разливая чай. – Когда ты не явился и на третий день, я почувствовал недоброе. «Не похоже на Камо, чтоб он пообещал прийти и за три дня; ни разу б не появился». Откуда мне было знать, что шумиха, которую подняли берлинские газеты, имеет к тебе прямое отношение! Ведь я не знал, что ты и есть, Дмитрий Мирский, да еще австрийский подданный, страховой агент.
События тех дней получили широкий резонанс в газетах: на квартире арестованного террориста, проживающего по Эльзассерштрассе, 44, обнаружены динамит и «адская машина», предназначенная для взрывов.
– Вскоре я понял, что надо прервать врачебную практику и выехать из Германии, – продолжил Сегаль.
…Житомирский как в воду канул.
На следующий день хозяйка дома, где квартировался Сегаль, поставила все точки над «i».
– Доброе утро, господин доктор.
– Доброе утро, фрау Штильке, – ответил он и, заметив в ее руках номер газеты немецкой социал-демократической партии, сделал вид, что не обратил на это внимание. – Каждое утро вы сообщаете мне какую-нибудь новость раньше, чем газеты.
– Вот, пожалуйста, в газетах пишут, что поймали террориста. Дмитрий Мирский. Австрийский подданный. Вы его случайно не знаете? Хотя откуда вам знать? Он – террорист, вы – врач. Но, знаете, он приехал из вашей страны.
Для товарищей в «штабе» все прояснилось.
Дмитрий Мирский – это Камо. Все стало на свои места и для Гавриила Сегаля. А что с Житомирским? Он тоже арестован? Нет. Но почему? И где он в таком случае? Ему удалось выехать в Париж. Почему? Непонятно. Выходит, протеже арестован, а покровитель уехал? А что ему еще было делать? Как что? Остался бы, об камни б расшибся, а придумал бы, как спасти своего протеже. Но, может, Житомирский поэтому и уехал в Париж? Откуда вдруг взялось такое недоверие?
Сегаль решил ехать в Париж. Не исключено, что за ним тоже установлена слежка. Не стоит мешкать – немцы не любят кокетничать.
– А почему именно в Париж? – спросил Камо, отходя от окна. – Я слушаю, Гавриил. Так почему в Париж?
– Я хотел разыскать Житомирского, разобраться во всей этой головоломке.
– Но никто же не обязывал тебя заняться мной.
– Бессмысленный и неуместный вопрос. А будь ты на моем месте, совесть у тебя была бы спокойна?
– Нет.
– Ты бы тоже так поступил, верно?
– Совершенно верно. Продолжай!
– Вот я и решил не возвращаться в Баку, пока не найду его.
…Товарищи посоветовали Сегалю немедленно покинуть Берлин (он не уведомил никого, что намеревается разыскать Житомирского), и вечером того же дня он ждал на железнодорожном вокзале первого поезда на Париж. «Мне надо купить в Париже кое-какие инструменты. Здесь их не достать», – сказал он знакомым.
Якова Житомирского после недолгих расспросов нетрудно было отыскать. Они договорились встретиться во второй половине дня на площади у собора Парижской Богоматери.
Сегаль заметил Житомирского раньше, чем тот его. Он нисколько не изменился после их встречи на берлинской улице. На нем та же широкополая шляпа, те же очки, тонкие, в позолоченной оправе, то же легкое осеннее пальто и черные, до блеска начищенные туфли. Казалось, он пытался и улыбку сохранить прежнюю.
– Здравствуй Гавриил!
– Здравствуй, Яков!
– Давай пройдемся. Ты сюда по делу или как?
– Нет. Я собирался домой, хотел купить кое-какие инструменты. Решил с тобой увидеться. А ты тут как, очутился?
– Я бежал. Почему – ты уже знаешь.
– Знаю. Из-за дела Мирского. Ему теперь несдобровать.
– Задержись я немножко дома, сидел бы сейчас вместе с ним. На улице меня догнала жена и сказала: «Немедленно уезжай из Берлина. Тебя разыскивает полиция», – «С чего ты взяла?» – «Приходили с обыском, Мирский заявил в полиции, что в Берлине его устроил врач Яков Житомирский». Я уехал не сразу, перебрался на одну из явочных квартир, где пробыл несколько дней. Необходимо было выяснить некоторые подробности, связанные с делом Мирского, и обсудить организацию его побега. Понимаешь, Гавриил, его не обвинят как политического преступника. Русские сделают все возможное, чтобы немецкие власти передали его России. А виселица готова задолго до переговоров. Обвинение серьезное: динамит, револьверы, подрывная машина, которая до последнего времени являлась военным секретом французской армии.
– Ты же знал обо всем этом, Яков…
– Арест Камо – чистая случайность! Да, да! Наш товарищ стал жертвой случая. Во время разгона одной из сходок полиция набрела на его след. Она нашла записную, книжку одного из участников сходки, в ней был записан адрес Мирского: «Эльзассерштрассе, 44». Я узнал об этом перед выездом из Берлина.
– Что же дальше?
– «Форвертс» предоставил Камо адвоката. Но он не стал с ним говорить, полагая, что тот полицейский агент. Тогда нам пришлось схитрить и надеть на палец адвоката мое кольцо. Камо узнал его…
Лицо Камо нервно передернулось, и Сегаль смолк.
– Ложь! Подлый провокатор!
Он вскочил с места и начал лихорадочно ходить по комнате, потирая руки.
– Не видел я ни кольца, ни адвоката! Моим адвокатом был Оскар Кон, кандидатуру которого предложили Карл Либкнехт и Леонид Красин. Подлый провокатор! Ладно, продолжай.
…С площади собора Парижской Богоматери они зашагали направо, к небольшой аллее, и сели там на скамеечке.
– Что ты намерен делать дальше? – спросил Житомирский.
– Поеду в Вену, оттуда, наверное, в Россию. Зачем мне тут оставаться? – Сегаль скрыл от Житомирского, что за ним уже начала следить полиция. – Практику я почти уже закончил, покупки сделаю в Париже. В Вене пробуду несколько дней, может, недельку.
– Оставь свой адрес. Будут какие новости, сообщу.
– Адреса у меня нет, – слова Житомирского его насторожили, но, не подав виду, он продолжил: – Возможно, остановлюсь в какой-либо гостинице. Напиши мне лучше до востребования, на главпочтамт. Буду каждое утро заглядывать на почту. Так удобнее всего.
– Пожалуй, – рассеянно согласился Житомирский, когда они собирались расстаться у дверей кафе. – Счастливого пути!
– Счастливо оставаться!
…Сегаль смолк. Он встал, взял с полочки карманные часы на длинной цепочке.
– Что будем делать?
Камо, встрепенувшись, переспросил:
– Что?
– Уже пятый час. Через пару часов с моря подует утренний ветер.
– Ты же не докончил.
– А разве не ясно? Я уехал в Вену…
…На венский центральный почтамт он зашел спустя три дня после своего приезда. Ему ничего не было. Утром четвертого дня, заглянув на почту, он вспомнил одну деталь. «У Камо был твой адрес», – как-то подчеркнуто произнес Житомирский. «Допустим, – размышлял Сегаль, – допустим даже, что этот адрес и попал в руки берлинской полиции. Ну и что? Неужели отсюда следует, что Камо предал революционных товарищей? Нет, Яков, меня на мякине не проведешь».
На почте за окошком «До востребования» сидела хрупкая девушка, которая, сухо кивнув на приветствие посетителя, взяла у него паспорт и вернула его вместе списьмом из Парижа. Сегаль торопливо вскрыл конверт и, не отходя от окошка, пробежал глазами письмо, в котором было всего несколько слов: «Здравствуй, Гавриил! Камо тебя оговорил. Не советую возвращаться в Баку».
– Знаешь, братец ты мой, он-то думал, что рассчитал все верно – я б ему наверняка поверил, у меня не было никаких оснований сомневаться.
– Но ведь твой адрес действительно обнаружили у меня, и я сказал, что мне его дали в Баку. Личность Сегаля мне знакома, он стажируется в Берлине, и я должен был лечить у него глаз. Однако полиция разрушила все мои планы, я не успел повидаться с врачом. Вначале они мне не поверили, но я настоял оставить тебя в покое, потому что, я, мол, с тобой еще и не виделся.
– Я так и знал, – улыбнулся Сегаль. – Весной следующего года меня все-таки взяли на мушку в Баку. В один прекрасный день ко мне явился полицейский, стал расспрашивать… Ну вот и все. Из газет я уже знаю, что ты умудрился бежать, а сейчас воочию вижу, что ты на свободе. Утром скажешь, куда думаешь ехать: в Париж, Лондон, Берлин…
– Только не в Берлин, – сказал Камо. – Недаром я подозревал этого Якова, негодяя. Я его придушу этими вот руками… Ладно, давай спать. Четыре года я не спал по-человечески.
Четыре года.
…Что-то уже прояснилось для Камо. Он встретился, как и хотел, с Гавриилом Сегалем, убедился, что его подозрения насчет Якова Житомирского не были беспочвенными. Пожалуй, можно возвращаться в Тифлис и подумать о выезде за границу.
Сначала в Брюссель, а потом в Париж, господа!
Париж, улица Мари Роз, дом № 4.
В двух словах, безусловно, не расскажешь, сколько он преодолел трудностей, прежде чем через Константинополь добрался до этого дома. И вот, когда позади невзгоды, он не может никак, растолковать парижанке-горничной, что он – Камо и по очень важному делу должен увидеться с Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной.
Но ему недолго пришлось ждать. В коридор в домашнем халате вышла Надежда Константиновна и замигала удивленно:
– И это не сон? Кого я вижу?! Камо, ты ли это?!
– Да! – перепрыгивая через ступеньки, Камо взбежал наверх. – Здравствуйте, Надежда Константиновна!
– Ай-яй-яй! Камо, дорогой! Какая приятная неожиданность! Какое удовольствие ты нам доставил! Глазам своим не верю. Представляю, как Ильич обрадуется. Повесь вот сюда пальто и входи в комнату. Отогрейся и докажи нам, что у нас дома, в Париже, находишься ты, а не кто другой.
– Я это, я, Надежда Константиновна! Мне самому не верится, что я в Париже, что беседую сейчас с вами, что я цел и невредим.
– Невероятно! Просто чудо! – не переставала удивляться Крупская. – Ильич уже в курсе, что тебе удалось благополучно бежать из больницы. Знаешь, как он обрадовался! Несколько дней назад он говорил, что надо придумать, как тебя пригласить в Париж и заняться твоим здоровьем. Он скоро будет. Ты, конечно, проголодался. Сейчас что-нибудь сообразим…
– Спасибо, Надежда Константиновна, – Камо, улыбаясь, перебил ее. – У меня к вам просьба: скажите вашей Мари, пусть она купит мне миндаля.
– Хорошо, дорогой Камо. Мари!..
Разговорившись, они не заметили, как вернулась Мари с большой корзиной.
Раздался звонок в дверь. Крупская посмотрела на стенные часы.
– Наверное, Ильич.
Камо встал, сердце у него заколотилось. Крупская пошла открывать дверь.
До Камо долетел знакомый голос. Но это был не Ильич, в голосе чувствовался кавказский акцент.
– Что за дурацкий ветер в этом Париже, чуть уши не отморозил! Здравствуйте, Надежда Константиновна.
«Это же Серго! – и Камо кинулся к двери. – Что он тут делает? И Надежда Константиновна ничего не сказала, видно, хотела сделать сюрприз».
– Здравствуй, Серго, входи.
– Ильич дома?
– Ильича нет, но есть…
Нетерпеливый Камо уже стоял в дверях с распростертыми объятиями, когда на верхней ступеньке появился чернокудрый Орджоникидзе.
Он воскликнул:
– Батоно!
И бросился в объятия Камо. Все трое были взволнованы и радостны.
– Вот так-то, Серго, – слегка отстранив от себя Орджоникидзе, сказал Камо, – мы с тобой встречаемся в Париже. Ну что ты молчишь? Говори! Не бойся, я – это в самом деле я.
– Ты, батоно! Дай-ка на тебя поглядеть! Ильич только о тебе и говорит, – и Серго, обернувшись к вошедшей в комнату Крупской, добавил: – Знаете, Надежда Константиновна, а ведь он был моим учителем.
– Ладно уж, – возразил Камо. – Какой я тебе учитель?
– Здравствуй, Надя, – прервал Камо и Серго голос Ильича из коридора. – Я просто не понимаю этого человека, у него ума палата, но иной раз такое выдаст, что… – Ленин остановился на полуслове, – но ты меня не слушаешь, Надя, чему ты улыбаешься?
– Камо, – и Крупская показала на кухню.
– Кто? Что ты говоришь? Камо?! – и он обнял Камо, потрепал по плечу. – Во сне ты или наяву? Дай поглядеть. Ну да, он это, Надя. Давай снова здороваться. Здравствуй, здравствуй, родной!
– Я, дорогой Ильич. Я это.
– Садитесь, друзья, что вы встали? Камо, Камо! Рассказывай давай, рассказывай! – Ленин обратился к Крупской. – Надя, ты нас, конечно, не оставишь голодными. Чем будешь потчевать?
– Миндалем, – улыбнулся Камо. – Мы с Серго лакомимся миндалем.
– Что вы стоите! – сказал Ильич. – Садитесь!
Серго сел, Камо, все еще взволнованный, продолжал стоять.
– Владимир Ильич, позвольте поблагодарить вас за деньги и за внимание, проявленное ко мне. Я знаю, вы были в стесненном положении и сильно заняты, но нашли и для меня время…
– Нашли время! – прервал его Ленин. – А какую ты проделал работу! Я хочу, чтоб ты сам все рассказал, а то узнаешь все со слов других. А они, возможно, что-то не договаривают, что-то преувеличивают, а?
– Рассказывай, учитель! – сказал Серго.
– Опять «учитель»! – рассердился Камо. – Я же просил не называть меня так!
– Владимир Ильич, – сказал Серго, – Камо обижается, когда я называю его учителем: дескать, я всего на четыре года старше тебя, какой из меня учитель? Но ведь он научил меня революции.
– Научил революции? Интересно!
– Это было в девятьсот третьем году, Владимир Ильич, – сказал Серго, – я ходил к Камо в типографию за листовками, распространял их. Я был наслышан о нем, но не был знаком, и постоянно интересовался этим смелым печатником. Я видел его то в одежде грузинского князя, то кинто, то прачки. Однажды он спросил у ребят: «Кто этот худющий черноглазый парнишка с этакими кустистыми бровями да изящными усами?» Ему ответили, что это имеретинец Гиго Орджоникидзе. «Бойкий, видать, парнишка», – сказал он нашим товарищам. Когда я в очередной раз пришел за листовками, он задержал меня: «Послушай, пострел, я беру тебя к себе в помощники». Мне не понравился его самоуверенный тон, и я, чтоб не остаться в долгу, ответил: «К кому в помощники: князю или прачке?» Он рассердился: «Мальчишка, когда-нибудь за дерзость тебе отрежут уши!»
– Я почувствовал, что обидел его, – Камо перебил Серго, – смягчился и сказал: ладно уж, давай руку, помиримся. Я – Камо.
Ильич улыбался:
– А дальше?
– Он пользовался авторитетом, уважением, я был пленен им, – сказал Серго. – Мы помирились, и он повел меня в императорский театр разбросать листовки. На сцене показывали «Ромео и Джульетту», в зале сидел «цвет» городского общества. Это и стало первым уроком в моем обучении…