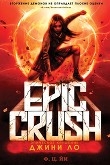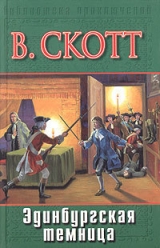
Текст книги "Эдинбургская темница"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
Присутствующие с восхищением рассматривали и обсуждали эти подарки, а пораженная Мэй объявила, что «этакой тьмы красивой одежды небось и у самой королевы не найдется»; последнее замечание вызвало некоторую зависть у северной коровницы, и это недружелюбное, но довольно-таки естественное чувство проявилось в различных критических высказываниях по поводу рассматриваемых предметов. Чувство это выразилось в более резкой форме, когда на дне сундука было обнаружено платье из белого шелка, очень просто сшитое, но тем не менее из белого шелка, да еще французского к тому же, с указанием, что это подарок от герцога Аргайла своей спутнице в путешествии и что платье это она должна надеть в тот день, когда примет другую фамилию.
Миссис Даттон не могла более сдержаться и прошептала на ухо мистеру Арчибалду, что это довольно-таки выгодно быть шотландкой.
– Можно было бы повесить всех моих сестер, а их у меня целых полдюжины, и, наверно, никто не потрудился бы послать мне по этому случаю хоть носовой платок.
– Как и вы не потрудились бы хоть сколько-нибудь, чтобы спасти их, миссис Долли, – сухо ответил Арчибалд. – Но как странно, что еще не слышно колокола, – прибавил он, глядя на свои часы.
– Черт побери, мистер Арчибалд, – сказал капитан Нокдандер. – Неушели вы полагаете, они посмеют ударить в колокол, прешде чем я готов отправиться в церковь? Да я бы заставил звонаря сошрать колокольную веревку, коли бы он отвашился на такую вольность. Но раз вы так шелаете слышать колокол, я сейчас покажусь им, и он загудит.
И действительно, как только они вышли из дома и капитанская шляпа с золотыми галунами блеснула, словно яркая вечерняя звезда над краем росистой возвышенности, из старой, замшелой башни послышался гул колокола (ибо это был скорее гул, чем звон), и все время, пока они приближались к церкви, язык не переставая грохотал по его надтреснутым стенкам, а Дункан увещевал своих спутников не спешить, потому что «вся эта забава без меня все равно не начнется».
И он был прав, так как грохот колокола перешел в заключительный нетерпеливый перебор, лишь когда они поднимались по церковным ступенькам, а «отзвенел» он, то есть прекратил свои немузыкальные призывы, только при входе всего общества в маленькую церковь, где все во главе с Дунканом разместились на герцогском месте. Дэвида Динса с ними не было, так как он уже занял свое место среди старейшин.
Вся процедура, подробным описанием которой мы не станем докучать читателю, была проделана соответственно установленной форме, а проповедь, произнесенная по этому поводу, понравилась даже критически настроенному Дэвиду, хотя час с четвертью, затраченный на ее чтение, показался ему слишком малым сроком для духовного назидания.
Проповедник, принадлежавший к тем священнослужителям, мнения которых во многом разделял и Дэвид, извинился перед ним за свою краткость следующим образом:
– Я заметил, что капитан все время безудержно зевал, и убоялся, что если задержу его дольше, то и он задержит выплату жалованья неизвестно на какой срок.
Дэвид застонал, услышав, что такие мирские помыслы могут влиять на столь достойного проповедника.
Во время церковной службы он был немало шокирован еще и другим обстоятельством: как только после чтения молитв прихожане заняли свои места, а проповедник приступил к проповеди, доблестный Дункан, порывшись в кожаной сумке, висевшей спереди на его юбке, вытащил оттуда короткую, оправленную в железо табачную трубку и довольно громко произнес:
– Я позабыл свой табак. А ну-ка, кто-нибудь сбегайте и принесите мне на пенни табаку. – Шестеро стоявших поблизости прихожан с угодливой поспешностью протянули свои кисеты сему государственному мужу. Он выбрал один из них по своему вкусу, кивнул в знак признательности головой, набил трубку, высек из кремня огонь и с полнейшим хладнокровием курил в течение всей проповеди. Когда проповедь была закончена, он выбил из трубки пепел, положил ее в сумку, вернул кисет владельцу и присоединился к молитве, уже не отвлекаясь и не нарушая порядка.
В конце службы, после того как Батлер был утвержден в обязанностях пастора прихода Ноктарлити со всеми вытекавшими отсюда полномочиями и привилегиями, Дэвид, чей нахмуренный вид, бормотание и вздохи выражали осуждение развязному поведению Нокдандера, поделился своим негодованием с одним из старейшин, по имени Исаак Майклхоус, чья патриаршая внешность и огромный седой парик снискали особое расположение Динса.
– Даже дикому индейцу, – сказал Дэвид, – а не то что христианину и джентльмену, не подобает сидеть в церкви, затягиваясь табаком, словно в какой-то харчевне.
Майклхоус покачал головой и согласился, что, «конечно, это не годится, но что поделаешь? Капитан – человек совсем особый, и если сказать ему что наперекор, так хлопот не оберешься. Весь здешний край у него в руках, и без него нам бы не справиться с горцами, а он к ним сумел ключи подобрать. Он не так уж плох, как кажется, но только надо его все время гладить по головке».
– Может быть, это все и так, – сказал Дэвид, – но, поверьте мне, Рубен Батлер – такой человек, что отучит его от привычки сосать свою трубку в храме господнем.
– Тише едешь – дальше будешь, – ответил Майклхоус. – И ежели только дурак может посоветовать умному, я бы посоветовал ему дважды подумать, прежде чем он станет перечить капитану. Хлебнет он горя, коли с ним свяжется. Но смотрите, вон все уже отправились в таверну обедать, поторопимся и мы, а то опоздаем.
Дэвид молча последовал за своим другом; он уже понял, что в долине Ноктарлити, так же, впрочем, как и во всем мире, тоже бродит дух недовольства и огорчений. Он был настолько поглощен изысканием средств, которыми можно было бы заставить Дункана вести себя с подобающим приличием во время богослужения, что совсем забыл поинтересоваться, был ли Батлер приведен к присяге государству.
Некоторые намекают, что его забывчивость по данному вопросу была до некоторой степени умышленной, но я думаю, что такое толкование не соответствует прямодушному характеру моего друга Дэвида. Мне тоже не удалось выяснить, несмотря на мои старания, потребовалось ли от Батлера соблюдение той проформы, которая вызывала такое противодействие со стороны Дэвида Динса. Протоколы церковных советов могли бы пролить свет на это дело, но, к сожалению, в 1746 году они были истреблены неким Донаха Ду Дунагом по указанию, как тогда говорили, или даже при содействии самого доблестного Дункана Нока, стремившегося уничтожить следы запротоколированных похождений некоей Кэйт Финлейсон.
ГЛАВА XLVI
Кабак наполнен до краев
Политиками злыми
И кружек лязг и пьяный рев
Смешались в черном дыме.
И старики и молодежь,
Кто с Библией, кто с песней,
Такой устроили галдеж,
Что кажется, что треснет мир в этот день.
Бернс.
Обильное угощение, заказанное за счет герцога Аргайла, было приготовлено для духовных лиц, принимавших участие в процедуре введения Рубена Батлера в сан, и наиболее уважаемых прихожан. Почти все яства были добыты здесь же, в этом краю, ибо то, что требовалось для «полного обеда на всех», находилось всегда в распоряжении Дункана Нока. Пастбища на склонах поставляли говядину и баранину; реки, озера и залив – свежую и соленую рыбу; в герцогских лесах, болотах и лугах водилась любая дичь, от оленей до зайцев; а что касается выпивки, то эля наварили столько, что его можно было пить вместо воды; бренди и юсквебо в те счастливые времена доставали без пошлин; и даже белое и красное вино ничего не стоило, ибо в распоряжении герцога благодаря его неограниченным правам адмирала поступали все бочки с вином, выбрасываемые при кораблекрушениях на восточные берега и острова Шотландии; короче говоря, угощение это, как хвастался Дункан, не стоило герцогу и ломаного гроша и было тем не менее не только достаточным, но даже обильным.
Была провозглашена здравица в честь герцога, и сам Дэвид Динс, присоединившись к восторженным возгласам, встретившим этот тост, выкрикнул, возможно, первое «ура» в своей жизни. Да что там! Он был так взволнован всеми этими знаменательными событиями и так милостиво настроен, что не выразил никакого протеста, когда трое волынщиков заиграли «Кэмбелы идут». Тост за здоровье почтенного пастора Ноктарлити был встречен с не меньшим энтузиазмом, и раздался взрыв хохота, когда один из его собратьев по профессии с лукавой усмешкой добавил:
– Пожелаем нашему собрату хорошую жену, чтобы в доме его всегда царил порядок.
При этом пожелании Дэвид Динс разразился первой шуткой в своей жизни; очевидно, ему было не так легко разрешиться ею, ибо лицо его совсем искривилось и он без конца запинался, пока наконец не произнес:
– Раз парня обвенчали сегодня с небесной невестой, то просто жестоко грозить ему в тот же день еще и земной. – И он засмеялся хриплым, коротким смехом, а потом вдруг стал сразу молчаливым и серьезным, словно устыдился своего оживления.
Еще после двух тостов Джини, миссис Даттон и те из женщин, которые удостоились чести присутствовать на празднестве, удалились в новое жилище Дэвида в Охингауэре, оставив мужчин за выпивкой.
Празднество продолжалось вовсю. Разговор, которым заправлял главным образом Дункан, не всегда носил строго благопристойный характер, но, к счастью, Дэвид Динс не слышал никаких скандальных высказываний, так как обсуждал в это время со своим соседом по столу бедствия, причиненные Эрширу и Ланаркширу тем, что называли тогда «вторжением горного хозяина». Благоразумный мистер Майклхоус время от времени предупреждал их о том, чтобы они говорили потише, ибо «отец этого Дункана Нока участвовал в нападении и немало поживился за его счет, и, насколько мне известно, дело не обошлось и без самого Дункана».
По мере того как веселье становилось все разгульней и безудержней, более серьезные члены общества начали понемногу расходиться. Дэвид Динс уже успел удалиться, и Батлер с нетерпением ожидал подходящего случая, чтобы последовать его примеру. Однако Нокдандер, желая, как он говорил, проверить, из какого теста сделан новый пастор, не собирался так быстро отпускать его, а держал возле себя, не спуская с него глаз, и с предупредительной навязчивостью наполнял его стакан до краев, как только находил для этого удобный предлог. Наконец уже поздно вечером один из почтенных священнослужителей спросил Арчибалда, когда они увидят герцога в Розните – tom carum caput note 101Note101
столь драгоценную голову (лат.).
[Закрыть], как он это выразил. Дункан Нок, представления которого к этому времени успели уже значительно спутаться и ученость которого не простиралась особенно далеко (чему легко поверить), услышав эти непонятные слова, решил, что говоривший проводит параллель между герцогом и сэром Доналдом Гормом из Слита, и, найдя, что подобное сравнение отвратительно, трижды фыркнул и приготовился впасть в ярость.
Когда же почтенный священнослужитель попытался разъяснить ему, в чем дело, капитан ответил:
– Я сам, своими ушами слышал слово «Горм». Уж не думаете ли вы, что я не отличаю гэльского от латыни?
– Очевидно, не отличаете, сэр, – холодно ответил оскорбленный пастор и взял понюшку табаку.
Медно-красный нос доблестного Дункана запылал, словно бык Фалариса, и, пока мистер Арчибалд лавировал между спорящими сторонами, а внимание собравшихся было отвлечено этим диспутом, Батлеру удалось выскользнуть.
Придя в Охингауэр, он застал там женщин, с нетерпением ожидавших конца этой веселой пирушки, ибо было условлено, что, хотя Дэвид Динс останется в Охингауэре, а Батлер в этот вечер переедет в пасторат, Джини, для которой не все еще было готово в доме отца, должна вернуться на день или два в Рознит: лодки для переправы были уже готовы. Поэтому они ждали возвращения Нокдандера, но уже наступили сумерки, а он все не показывался. Появившийся Арчибалд, веселость которого, как человека благовоспитанного, не выходила за пределы приличий, настоял на том, чтобы они отправились на остров в его сопровождении: судя по состоянию капитана, тот едва ли сможет выкарабкаться из-за стола, не говоря уже о том, что он является сейчас совсем неподходящей компанией для женщин. «Двуколка» в их распоряжении, прибавил он, и будет очень приятно совершить эту прогулку по воде в наступающих сумерках.
Джини, относившаяся с большим доверием к благоразумному Арчибалду, сейчас же согласилась, но миссис Долли Даттон категорически отказалась ехать в маленькой лодке. Если можно достать большую лодку, тогда она отправится; если нет – она скорее согласится спать на полу, чем сделает хоть один шаг. Спорить с Долли было бесполезно, и положение, по мнению Арчибалда, не было таким сложным, чтобы принуждать ее. Он заметил, что было бы невежливо лишать капитана его «запряженной шестеркой кареты», но, так как она находилась в распоряжении дам, вежливо добавил он, «они позволят себе воспользоваться ею». Кроме того, «двуколка» скорее пригодится капитану, так как она может передвигаться в любое время прилива, и поэтому большая лодка к услугам Долли.
И в сопровождении Батлера они все направились к берегу. Прошло некоторое время, пока им удалось собрать всех гребцов, и еще до того, как они отправились в путь, бледная луна показалась над холмом и отражение ее закачалось на широких и блестящих волнах. Но вечер был так тих и спокоен, что Батлер, прощаясь с Джини, не испытывал никаких опасений за нее, и, что еще более удивительно, миссис Долли тоже не опасалась за свою судьбу. Чистый воздух над прохладными волнами был напоен летними запахами. Едва различимые в лунном свете мысы, заливы и широкая синяя цепь гор являли собой прелестное зрелище, и каждый удар весел по водной поверхности заставлял ее искриться и сверкать тем ослепительным светом, который известен под названием «свечения воды».
Это последнее обстоятельство весьма удивило Джини и немало позабавило ее спутницу; и вскоре они достигли небольшого залива, который простирал свои темные и лесистые рукава далеко в море, словно приветствуя их возвращение.
Место высадки находилось на расстоянии четверти мили от дома, и хотя из-за отлива большая лодка не могла приблизиться достаточно к прибрежным неровным камням, служившим пристанью, Джини, отличавшаяся смелостью и подвижностью, легко спрыгнула на берег; но миссис Долли решительно отказалась подвергнуть себя такому риску, и поэтому мистер Арчибалд приказал направить лодку к более удобной пристани, значительно удаленной от этой. Вслед за этим он приготовился спрыгнуть сам, чтобы проводить Джини до дома. Но так как Джини ясно различала идущую вдоль берега лесную тропинку и хорошо видела освещенную луной белую трубу, поднимавшуюся над лесом, где находился дом, она отклонила это любезное предложение и попросила его отправиться с миссис Долли, так как та находится в чужой стране и поэтому больше нуждается в провожатом, чем она.
И в самом деле, слова Джини спасли, возможно, жизнь бедной коровницы, ибо, как она сама впоследствии утверждала, она умерла бы от страха, оставшись одна в лодке с шестью дикими горцами в юбках.
Ночь была так прекрасна, что Джини, вместо того чтобы отправиться сразу же домой, осталась на берегу, глядя, как лодка отчаливает от берега и удаляется в глубь небольшого залива; темные фигуры ее спутников по мере удаления делались все менее различимы; грустная песня гребцов, доносясь издалека, звучала мелодично и ласково, и вскоре лодка, завернув за мыс, исчезла совсем из виду.
Но Джини все еще стояла на месте, глядя в море. Она знала, что ее спутники еще не скоро доберутся до охотничьего дома, так как расстояние от него до удобной пристани было гораздо больше, чем от того места, где она стояла, и, кроме того, ей хотелось побыть немного одной.
Все удивительные события этих нескольких недель, приведшие ее от горя, позора и отчаяния к радости, почету и счастливым видам на будущее, пронеслись перед ее умственным взором, и глаза Джини наполнились слезами. Но плакала она и по другой причине. Человеческое счастье никогда не бывает совершенным, и так как люди с ясным складом ума наиболее чувствительны к несчастью своих близких именно тогда, когда их личная судьба представляет с ним разительный контраст, мысли Джини обратились к положению ее бедной сестры, которую она так любила: она вспомнила, что это дитя надежд, эта балованная любимица – теперь изгнанница и, что еще гораздо хуже, зависит от воли человека, о котором у Джини были все основания думать самое худшее, который даже в минуты наиболее горьких сожалений не проявлял истинного раскаяния.
Пока она была погружена в эти печальные размышления, какая-то темная фигура отделилась от рощи справа от Джини. Она вздрогнула, и воспоминания о привидениях и призраках, встречаемых одинокими путниками в глухих местах именно в этот час, нахлынули на нее. Фигура скользила по направлению к ней, и, когда лунный свет упал на нее, Джини увидела, что это была женщина. Нежный голос дважды повторил:
– Джини, Джини!
Возможно ли? Неужели это голос ее сестры? Жива ли она или вышла из раскрывшейся перед ней могилы?
Прежде чем Джини успела отдать себе отчет в этих мыслях, Эффи, настоящая, живая Эффи, схватила ее в свои объятия и, прижимая к груди, покрыла бесчисленными поцелуями.
– Я бродила тут, словно привидение, чтобы увидеть тебя; оно и понятно, что ты приняла меня за какой-то дух. Я хотела хоть издали увидеть, как ты пройдешь, хоть голос твой услышать. Но говорить с тобой, Джини! Это же больше, чем я заслуживаю, я и не надеялась на это!
– О Эффи! Как только тебе удалось прийти сюда, на этот дикий берег, одной, в такой поздний час? И это действительно ты сама, живая Эффи?
Вместо ответа Эффи протянула свои пальцы, похожие скорее на пальчики феи, нежели привидения, и слегка ущипнула сестру; в этом жесте было что-то от ее прежней резвости. И снова сестры обнимались, и плакали, и смеялись по очереди.
– Ты пойдешь со мной в дом, Эффи, – сказала Джини, – и расскажешь мне обо всем; у нас здесь славные люди, и ради меня они отнесутся к тебе очень хорошо.
– Нет, нет, Джини, – грустно ответила ее сестра, – ты, видно, позабыла, кто я такая: изгнанница, осужденная законом, которая избавилась от виселицы только потому, что у меня самая смелая и хорошая сестра во всем мире. Я не пойду к твоим важным друзьям, хоть это мне и не грозит ничем.
– Ну, конечно, ничем не грозит, ты в этом не сомневайся, – с жаром уверяла Джини. – О Эффи, Эффи, не будь своевольна, хоть один раз послушайся – и мы будем так счастливы все вместе!
– Коли я тебя увидела, значит, получила самое большое счастье, какого заслуживаю по эту сторону могилы, – ответила Эффи, – а что до того, грозит мне опасность или нет, никто никогда не посмеет сказать, что я, едва увильнув от виселицы, осмелилась показаться среди важных друзей моей сестры и позорить ее.
– У меня нет никаких важных друзей. Все мои друзья – Батлер и отец, это же и твои друзья. О моя бедная девочка, не упрямься и не поворачивайся снова спиной к счастью! Нам не нужны никакие знакомые, вернись к нам, твоим самым близким друзьям, не забывай, что старый друг лучше новых двух!
– Не уговаривай напрасно, Джини, я жну то, что сама посеяла. Я замужем и потому должна следовать за своим мужем, что бы из того ни получилось.
– Замужем, Эффи! – воскликнула Джини. – Несчастное создание! Замужем за этим бессовест…
– Тс… тс… – сказала Эффи, закрывая одной рукой рот сестры, а другой указывая на рощу. – Он там.
Выражение ее голоса говорило о том, что муж внушал ей, по-видимому, не только любовь, но и страх. В это мгновение из зарослей вышел мужчина.
Это был молодой Стонтон. Даже в неверном свете луны Джини смогла различить, что он был богато одет и имел вид светского человека.
– Эффи, – сказал он, – время наше истекло, лодка сейчас придет, и оставаться дольше нельзя. Надеюсь, твоя сестра разрешит мне поздороваться с ней?
Но Джини отпрянула от него с чувством инстинктивного отвращения.
– Ну что ж, – сказал он, – хорошо хоть, что если ты и придерживаешься по-прежнему своих враждебных чувств ко мне, то по крайней мере не поступаешь согласно им. Благодарю тебя, что ты сохранила мою тайну, когда одно твое слово (а я на твоем месте произнес бы его не задумываясь) стоило бы мне жизни. Люди говорят, что жена не должна быть посвящена в тайну, от которой зависит жизнь мужа; в моем случае не только жена, но и ее сестра знают мою тайну, и тем не менее я буду спать совершенно спокойно.
– Но вы действительно женаты на моей сестре, сэр? – спросила с сомнением Джини, ибо его надменный и беспечный тон подтверждал, казалось, ее самые мрачные предположения.
– Я женат самым настоящим и законным образом и даже под моим настоящим именем, – ответил Стонтон более серьезно.
– А ваш отец? Ваши друзья?
– А мой отец и мои друзья должны будут примириться с тем, что сделано и чего нельзя изменить, – сказал Стонтон. – Тем не менее для того, чтобы окончательно порвать с опасными знакомствами, и для того, чтобы друзья мои пришли постепенно в себя, я решил пока скрыть свой брак и провести несколько лет за границей. Поэтому некоторое время ты не будешь ничего слышать о нас, а возможно, что мы расстаемся навсегда. Ты, конечно, понимаешь, что при сложившихся обстоятельствах поддерживать переписку крайне опасно, ибо все сразу поймут, что мужем Эффи может быть только тот, кто… Как мне назвать себя? Скажем, тот, кто убил Портеуса.
«Легкомысленный, жестокий человек! – подумала Джини. – Страшно подумать, кому Эффи доверила свою судьбу! Можно сказать, что она посеяла ветер, а пожинает ураган».
– Не считай его таким уж плохим, – сказала Эффи и, отойдя от мужа, отвела Джини на несколько шагов в сторону, – не считай его очень плохим, он добр ко мне, Джини, добрей, чем я заслуживаю, и он больше не станет заниматься дурными делами. И поэтому не горюй об Эффи: ей совсем не так плохо. Но ты! Ты! На земле, наверно, и счастья-то такого нет, какого ты заслуживаешь! Только в раю ты, наверно, получишь по заслугам, потому что там все такие же хорошие, как и ты сама. Джини, если только я буду жива и все у меня будет в порядке, ты еще услышишь обо мне! А если нет, то постарайся поскорее позабыть и меня и все беды, что ты из-за меня перенесла. Прощай! Прощай! Прощай!
Она вырвалась из объятий сестры, присоединилась к мужу, и оба исчезли в роще. Джини могла бы подумать, что все происшедшее пригрезилось ей, если бы вскоре после того, как они оставили ее, она не услышала плеск воды и в заливе не показалась лодка, быстро приближавшаяся к небольшому судну, прятавшемуся у берега. Именно на таком судне Эффи уехала из Портобелло, и Джини не сомневалась, что оно же, как сказал Стонтон, доставит беглецов за границу.
Трудно сказать, какое чувство больше волновало Джини во время самого свидания: горе или радость, – но оставшееся от него впечатление было определенно благоприятным. Главное заключалось в том, что Эффи замужем и, следовательно, с точки зрения общепринятой морали стала порядочной женщиной; не менее важным было и то, что муж Эффи не собирался возвращаться к преступному образу жизни, который он так долго и безрассудно вел. А что касается подлинного обращения на путь христианской истины, то он и сам уже осудил свои прежние заблуждения, и врата царствия небесного еще, может быть, откроются для него.
Таковы были мысли, которыми Джини старалась успокоить свою тревогу за судьбу сестры. Придя в охотничий дом, она узнала, что Арчибалд, обеспокоенный ее отсутствием, собирался уже отправиться на поиски. Сославшись на головную боль, Джини поспешила удалиться, чтобы окружающие не заметили ее волнения.
Благодаря этому она избавилась еще от одной беспокойной сцены, правда, несколько отличавшейся от той, что она только что пережила. На «двуколку» капитана, славившуюся своей устойчивостью как на море, так и на суше, налетело какое-то неизвестное судно, что произошло из-за нетрезвого состояния самого капитана Нокдандера, его команды и пассажиров. Нокдандер и еще несколько гостей, которых он вез с собой, чтобы завершить празднество в охотничьем доме, основательно искупались; но так как их вытащила из воды команда налетевшего на них судна, то никаких существенных потерь не произошло, за исключением капитанской шляпы с галунами. Шляпа эта была на следующий день заменена им на щегольской головной убор, какой носят горцы, – новшество, весьма обрадовавшее население горного района и сделавшее внешность самого Дункана менее нелепой. Не одну яростную угрозу послал утром доблестный Дункан по адресу судна, перевернувшего его лодку; но так как ни люгер контрабандистов, ни принадлежавшая ему лодка не появлялись больше в заливе, он был вынужден смириться с нанесенным ему оскорблением. Это было тем более досадно, что, как утверждал капитан, он не сомневался в умышленности самого злодеяния, ибо мерзавцы с судна слонялись на берегу уже после того, как переправили на сушу все вино и чай, а рулевой даже наводил справки о времени прибытия капитанской лодки, ее отправления назад и тому подобных вещах.
– Пусть-ка попадутся мне еще разок в заливе, – говорил с величественным видом капитан, – задам же я тогда перцу этим полуночным бродягам и мошенникам, будут знать у меня свое место, дьявол их побери!