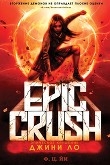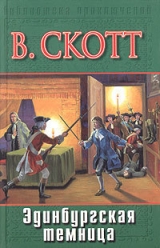
Текст книги "Эдинбургская темница"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Считая правду грубой и жестокой,
Он не желал выслушивать упреки.
Он был упрям в решении своем.
Всех оскорбив, покинул отчий дом.
Своей судьбой позорной был доволен
Бродяга. Он твердил: «Теперь я волен!»
– А все-таки, что там ни говори, а мистера Джорджа пожалеть надо, – заключил этот честный простолюдин, – потому как он совсем не жадный и всегда с бедняком самым последним поделится.
Безрассудная щедрость в глазах плебеев искупает многие грехи, ибо они умеют извлекать из нее выгоду.
Наша героиня в сопровождении своего общительного провожатого благополучно добралась до Стэмфорда. Там она получила место в дилижансе, который, несмотря на шесть лошадей в упряжке и громкое название «скорого», достиг Лондона лишь в полдень следующего дня. Рекомендация мистера Стонтона-старшего обеспечила Джини вежливый прием в гостинице, куда доставил ее дилижанс, а с помощью знакомого миссис Бикертон она нашла своего друга и родственницу миссис Гласс, которая встретила ее самым гостеприимным и сердечным образом.
ГЛАВА XXXV
Я герцог Аргайл. Хоть в придворной одежде,
Но я, вам клянусь, все такой же, как прежде.
Баллада
В истории Шотландии этого периода найдется не много имен, достойных столь же почетного упоминания, как имя Джона, герцога Аргайла и Гринвича. Он заслужил всеобщее признание как государственный деятель и полководец; ему было свойственно и честолюбие, но без «сопровождающего его недуга» – беспринципности мыслей и целей, которые увлекают великих людей, занимающих исключительное положение (а таковым именно и было положение герцога), и побуждают их стремиться к захвату власти, даже если это может повергнуть королевство в бедствия междоусобиц. Поэт Поп так описал его:
Аргайл – гроза. Повелевать рожден
На поле брани и в сенате он.
Равным образом ему были чужды и мелкие пороки как государственных деятелей, известных лживостью и развращенностью, так и отличившихся военных, страдавших неумеренной и неистовой жаждой самовозвеличивания.
Шотландия, его родина, находилась в это время в весьма опасном и неопределенном положении. Она была присоединена к Англии, но связующий цемент не успел достаточно затвердеть. Еще жили в памяти старые обиды; частые раздоры, являвшиеся результатом раздражительной подозрительности шотландцев и надменного снисхождения англичан, то и дело грозили уничтожить национальное единение, столь необходимое для безопасности обеих стран. Положение Шотландии ухудшалось еще и тем, что она была разделена на враждующие группы, яростно ненавидевшие друг друга и ждавшие лишь сигнала, чтобы броситься в бой.
В подобных обстоятельствах другой человек, обладая способностями и званием Аргайла, но не счастливой уравновешенностью его ума, ринулся бы в этот водоворот, с тем чтобы возвысить себя и направить его бешеные воды в своих личных целях. Но он выбрал более безопасный и более благородный путь.
Не принимая участия в мелких раздорах отдельных группировок и независимо от того, находился он в оппозиции или возглавлял партию, стоявшую у власти, герцог Аргайл всегда отстаивал те меры, которые сочетали справедливость с терпимостью. Благодаря своим выдающимся военным талантам он смог в памятный 1715 год оказать такие важные услуги Ганноверской династии, что признать и оценить их по достоинству значило бы приписать им слишком большое значение. Но в то же время он использовал свое влияние и для смягчения участи тех несчастных джентльменов, которые приняли участие в этом восстании из ложно понятого патриотизма, за что был вознагражден безграничной любовью и преданностью своих соотечественников. Подобная популярность среди недовольного и воинственного народа вызвала ревнивое чувство у двора, ибо чрезмерная влиятельность какого-либо лица считается там нежелательной, даже если для опасений нет никаких оснований. Кроме того, независимый и несколько высокомерный характер выступлений герцога Аргайла в парламенте и перед народом не мог завоевать ему королевских симпатий. Поэтому, несмотря на выказываемое ему неизменное уважение и привлечение его к участию в государственных делах, он не был любимцем ни Георга Второго, ни его жены, ни их министров. В различные периоды своей жизни герцог совершенно явно был в немилости у двора, хотя нельзя сказать, чтобы он входил в состав оппозиции. Все это возвышало его еще больше в глазах шотландского народа, ибо королевское недовольство объяснялось чаще всего приверженностью герцога интересам своей страны. Как раз теперь в деле Портеуса его красноречивое и пылкое выступление против строгих взысканий, которые собирались наложить на Эдинбург, вызвало горячее одобрение в шотландской столице, ставшее еще более пылким, когда стало известно, что королева Каролина восприняла посредничество герцога как личное оскорбление.
Его поведение в данном вопросе, как, впрочем, и всех других шотландских членов законодательной комиссии (кроме одного или двух неблаговидных выступлений), было в высшей степени убедительным. О ставшем столь популярным ответе герцога Аргайла королеве Каролине мы уже говорили, а его выступление, направленное против билля о Портеусе, не забыто еще до сих пор. Когда лорд-канцлер Хардвин упрекнул герцога Аргайла в том, что он выступил в этом вопросе скорее как заинтересованная сторона, нежели судья, тот ответил:
– Я обращаюсь к парламенту и народу с вопросом, повинен ли я в каких-либо позорных сделках и проявлял ли когда-либо пристрастие к одной стороне? Покупал ли я голоса или выборные участки? Совершал ли бесчестные дела в своих личных целях или в интересах какой-либо партии? Проследите мою жизнь, проверьте мои действия на поле брани и в кабинете, и вы убедитесь, что не найдете ни одного пятна, марающего мою честь. Я проявил себя как патриот моей отчизны и как верноподданный моего короля. Я готов повторить все, что было мною сделано, не обращая ни малейшего внимания на улыбки или хмурые взгляды двора. Я испытал и то и другое, и проявления высочайшей милости или недовольства оставляют меня равнодушным. Я объяснил, почему я выступил против этого билля, и постарался доказать что он не соответствует межнациональному духу единства, независимости Шотландии, а следовательно, и Англии, элементарному чувству справедливости, здравому смыслу и общественным интересам обеих стран. Должен ли главный город Шотландии, столица независимого народа, резиденция многих и многих монархов, почтивших и увековечивших этот славный город своим присутствием, – должен ли такой город лишиться своих почестей и привилегий, своих ворот и стражей по вине никому не известной и безрассудной кучки бунтовщиков? И может ли уроженец Шотландии спокойно взирать на подобное беззаконие? Я ценю, милорды, свое выступление против такой незаслуженной кары и горжусь тем, что борьбу за права моей несправедливо опозоренной родины, подвергнутой незаслуженной каре, почитаю своей первейшей и почетной обязанностью.
Другие государственные деятели и ораторы выступили с такими же доводами, и из билля постепенно выпали его самые унизительные и тягостные условия; в конце концов он свелся лишь к наложению штрафа на город Эдинбург в пользу вдовы Портеуса. Таким образом, все эти ожесточенные дебаты свелись, по словам одного из современников, к обогащению старой поварихи, ибо это и была основная профессия сей доброй женщины.
Однако двор не забыл отпора, который ему оказали в этой истории, и герцог Аргайл, принимавший в ней столь видное участие, считался теперь впавшим в немилость. Нам было необходимо рассказать читателю обо всех этих обстоятельствах, потому что они имеют прямое отношение как к предшествующей, так и последующей частям нашей повести.
Герцог находился в своем кабинете, когда один из его приближенных доложил ему, что деревенская девушка из Шотландии хочет поговорить с ним.
– Деревенская девушка из Шотландии! – воскликнул герцог. – Что могло привести эту глупышку в Лондон? Наверно, возлюбленного забрали на морскую службу, или пропали деньги, вложенные в акции южных морей, или еще что-нибудь в равной степени обнадеживающее, и, разумеется, кроме Мак-Каллумора, заняться такими делами некому. Да, так называемая популярность имеет, надо сказать, и свои теневые стороны. Однако просите сюда нашу землячку, Арчибалд; это дурной тон – заставлять ее столько ждать.
Молодая женщина небольшого роста, с милым и скромным выражением неправильного, слегка веснушчатого и загорелого лица, была введена в роскошный кабинет. На ней был клетчатый плед ее страны, одетый таким образом, что часть его прикрывала голову, а часть была откинула за плечи назад. Пышные светлые волосы, просто и аккуратно причесанные, обрамляли ее круглое, добродушное лицо, принявшее от сознания своей ответственности и высокого положения герцога выражение благоговейного почтения, в котором, однако, не было ничего общего с рабским страхом или пугливой застенчивостью. Во всем остальном туалет Джини отвечал той моде, какой придерживались шотландские девушки ее круга; однако в нем замечалось то щепетильное внимание к опрятности и скромному изяществу, которое часто сочетается с душевной чистотой и является как бы ее естественной эмблемой.
Она остановилась у самого входа, низко поклонилась и, не говоря ни слова, скрестила руки на груди. Герцог Аргайл приблизился к ней; и если она с восхищением любовалась его изящной осанкой, богатой одеждой, украшенной орденами, столь заслуженно им полученными, учтивыми манерами, умным и проницательным лицом, он, со своей стороны, был не менее поражен спокойной простотой и скромностью, какой были отмечены манеры, одежда и выражение лица его смиренной соотечественницы.
– Ты хочешь поговорить со мной, славная моя девушка, или с герцогиней? – спросил герцог, обращаясь к ней на шотландском диалекте, который сразу сблизил двух соотечественников.
– Мое дело к вашей чести, ваша милость, то есть я хочу сказать – ваша светлость.
– А какое же это дело, милая? – спросил герцог тем же мягким и ободряющим голосом.
Джини посмотрела на приближенного.
– Оставьте нас, Арчибалд, – сказал герцог, – и подождите в приемной.
Слуга удалился.
– А теперь присядь, – продолжал герцог, – переведи дыхание, соберись с силами и расскажи мне, в чем дело. Судя по твоей одежде, ты только что прибыла из нашей бедной, старой Шотландии. Ты и по лондонским улицам шла в этом клетчатом пледе?
– Нет, сэр, – ответила Джини. – Моя родственница, очень приличная женщина, привезла меня сюда в наемной карете, – прибавила она, осмелев по мере того, как звук собственного голоса помогал ей осваиваться с присутствием такого важного лица. – Ваша светлость знает ее, это миссис Гласс, табачница из «Чертополоха».
– О, моя почтенная владелица табачной лавки, – я всегда люблю перекинуться словечком с миссис Гласс, когда покупаю у нее выдержанный шотландский табак. Итак, в чем заключается твое дело, моя милая? Ты ведь знаешь: время и прилив никого не ждут.
– Ваша честь… Извините, ваша милость… То есть я хотела сказать
– ваша светлость… – Следует заметить, что необходимость правильно титуловать герцога была внушена Джини ее другом, миссис Гласс. В глазах последней это имело такую важность, что когда Джини вышла из кареты, она озабоченно крикнула ей вслед: «Так не забудь же – „ваша светлость“! – и Джини, которая за всю жизнь едва ли беседовала с более важными персонами, чем лэрд Дамбидайкс, теперь с трудом справлялась с этими ухищрениями этикета.
Герцог, понимавший ее затруднение, сказал с присущей ему любезностью:
– Не обращай внимания на «мою милость» и «светлость», дитя мое; изложи мне в простых словах твое дело и докажи, что язык у тебя подвешен не хуже, чем у любого шотландца.
– Сэр, я вам очень обязана! Сэр, я сестра той несчастной осужденной, Эффи Динс, которая приговорена в Эдинбурге к казни.
– Ах, – сказал герцог, – я слышал об этой печальной истории; дело идет, кажется, о детоубийстве, которое рассматривалось в свете специального парламентского закона. Дункан Форбс упоминал на днях об этом деле за обедом.
– И я пришла сюда с севера, сэр, чтобы постараться добиться для нее отмены приговора, или помилования, или чего-то в этом роде.
– Увы, моя бедняжка! – воскликнул герцог. – Ты проделала весь этот длинный и тяжелый путь напрасно: твоя сестра приговорена к казни.
– Но мне говорили, что есть закон, по которому ее можно помиловать, если только этого пожелает король.
– Конечно, есть такой закон, – ответил герцог, – но он всецело в руках короля. Подобное преступление стало носить слишком распространенный характер, и шотландские законоведы считают, что пора принять меры в назидание другим. Кроме того, последние беспорядки в Шотландии вызвали в правительстве предубеждение против всего народа в целом, и здесь считают, что его можно обуздать лишь самыми суровыми и крайними мерами. Какие доводы, кроме твоей нежной сестринской любви, можешь ты противопоставить этим соображениям? В чем твои доказательства? Есть ли у тебя друзья при дворе?
– Никого, кроме Бога и вашей светлости, – сказала Джини, всем своим видом показывая, что она не намерена отступить.
– Увы! – сказал герцог. – Я мог бы, пожалуй, повторить слова старого Ормонда, что вряд ли кто-нибудь имеет меньшее влияние на короля и министров, чем я. Мучительность нашего положения – я имею в виду людей в одинаковом положении со мной – заключается в том, что публика приписывает нам такое влияние, каким мы на самом деле не обладаем, а потому ожидает от нас помощи, какую мы в действительности не в состоянии оказать. Но откровенность и чистосердечие во власти каждого, и я не хочу, чтобы ты понапрасну обольщалась: я не обладаю таким влиянием, которое ты могла бы использовать в своих интересах. Как ни горько услышать тебе это, но я не в состоянии отвратить рок, нависший над твоей сестрой. Она должна умереть.
– Мы все должны умереть, – сказала Джини, – это наш общий удел за грехи наших предков; но мы не должны ускорять уход наших близких из этого мира, и это должно быть известно вашей чести лучше, чем мне.
– Моя добрая, славная женщина, – мягко возразил герцог, – все мы склонны обвинять закон, если он причиняет нам горе, но ты, по-моему, достаточно образованна для человека твоего круга и должна поэтому знать, что закон Бога и закон человека гласит одно и то же: для убийцы кара – всегда смерть.
– Но, сэр, в деле Эффи, я говорю о моей бедной сестре, убийство не было доказано; а если она не убила, а закон все-таки лишит ее жизни, то кто же тогда убийца?
– Я не законовед, – ответил герцог, – и признаюсь, что считаю этот статут очень жестоким.
– Но вы законодатель, сэр, с вашего разрешения, и поэтому имеете власть над законом, – возразила Джини.
– Увы, не в моем теперешнем положении, – сказал герцог, – хотя, как член законодательного органа, я имею право голоса. Но это не может помочь тебе, да и мое личное влияние на короля в настоящее время – пусть это будет всем известно – настолько ничтожно, что не дает мне права просить у него самого пустячного одолжения. Кто же внушил тебе, моя милая, обратиться именно ко мне?
– Вы сами, сэр.
– Я сам? – переспросил он. – Я уверен, что ты меня никогда раньше не встречала.
– Не встречала, сэр. Но весь мир знает, что герцог Аргайл – верный друг своей страны, и что вы боретесь только за справедливые дела и вступаетесь только за справедливые дела, и что в нашем теперешнем Израиле нет имени, подобного вашему, и поэтому те, кто почитает себя несправедливо обиженным, ищут защиты у вас; и если вы, сэр, не попытаетесь спасти свою невиновную соотечественницу от незаслуженной кары, то чего же нам ждать от англичан и чужестранцев? .. А может быть, у меня есть еще и другие причины на то, чтобы обратиться к вам.
– Какие же? – спросил герцог.
– Мне известно от моего отца, что семья вашей чести, и прежде всего ваш дед и отец, окончили свои дни на эшафоте в дни гонений. Моему отцу тоже выпала честь давать показания как в тюрьме, так и у позорного столба, что упомянуто в книгах Питера Уокера, коробейника, которого ваша милость, наверно, знаете, потому что он посещал главным образом западную часть Шотландии. И, кроме того, сэр, есть еще один человек, искренне расположенный ко мне, который посоветовал мне обратиться к вашей светлости, потому что когда-то его дед оказал большую услугу вашему почтенному деду, о чем сказано в этой бумаге.
С этими словами она протянула герцогу небольшой пакет, полученный ею от Батлера. Он вскрыл его и с удивлением прочел на обертке: «Список личного состава роты, служившей под началом уважаемого джентльмена, капитана Салатила Псалмопевца: Слуга божий Магглтон; Отомститель грехов – Двойной удар; Стойкий в вере Джиппс; Правый поворот – Бей в цель…» Что это за чертовщина? Наверно, список бербонского парламента «Восхвалим Господа Бога» или же евангельского воинства старого Нола? Этот последний парень, судя по его имени, разбирался в своем деле неплохо. Но что это все значит, девушка?
– Посмотрите не эту, а другую бумагу, сэр, – ответила Джини, несколько смущенная происшедшей ошибкой.
– А вот это, без сомнения, почерк моего несчастного деда: «Всем доброжелателям семейства Аргайла этот документ свидетельствует, что Бенджамен Батлер из драгунского полка Монка с Божьей помощью спас мою жизнь от четырех английских кавалеристов, намеревавшихся убить меня; не имея в настоящее время других возможностей вознаградить моего спасителя, даю ему это письмо в надежде, что оно пригодится ему лично или его близким в наши смутные времена, и заклинаю моих друзей, арендаторов, родственников и всех, кто меня почитает, как в Верхней, так и в Нижней Шотландии, оказывать поддержку и помощь названному Бенджамену Батлеру, его друзьям и семье в невзгодах, которые могут их постигнуть, содействуя им словом, делом и службой, дабы отблагодарить его за содеянное мне благодеяние. К сему руку приложил Лорн».
– Действительно, строгое предписание. Этот Бенджамен Батлер, наверно, твой дедушка? Ты слишком молода, чтобы быть его дочерью.
– Он не был моим родственником, сэр. Он приходится дедушкой одному… сыну одного из наших соседей – моему истинному доброжелателю, сэр. – Слова эти сопровождались небольшим поклоном.
– А, понимаю, – сказал герцог, – любовь без страха и упрека. Значит, он был дедушкой того, с кем ты помолвлена?
– С кем я была помолвлена, сэр, – ответила, вздохнув, Джини, – но эта несчастная история с моей бедной сестрой…
– Неужели, – вырвалось у герцога, – он из-за этого бросил тебя? Возможно ли?
– Нет, сэр, он никогда не оставил бы друга в беде, – возразила Джини, – но я ведь должна думать не только о себе, но и о нем тоже. Он человек духовного звания, сэр, и ему не следует жениться на мне, раз на нашу семью пало такое бесчестье.
– Ты совершенно необычайная девушка, – сказал герцог, – мне кажется, ты думаешь обо всех, кроме себя. Неужели ты и в самом деле пришла пешком из Эдинбурга, чтобы заняться этими безнадежными хлопотами по делу твоей сестры?
– Я не все время шла пешком, сэр. Иногда меня подвозили в фургоне, а из Феррибриджа я ехала верхом, и потом дилижанс…
– Ну хорошо, это не столь важно, – прервал ее герцог. – Почему ты предполагаешь, что сестра твоя невиновна?
– Потому что нет доказательств ее вины. Об этом говорят вот эти бумаги.
Она вручила ему запись свидетельских показаний и копии показаний самой Эффи. Их раздобыл Батлер уже после ее ухода, а Сэдлтри переправил их в Лондон к миссис Гласс, так что эти документы, столь важные для поддержания ее ходатайства, уже ожидали Джини, когда она приехала в Лондон.
– Сядь в это кресло, милая, – сказал герцог, – и подожди, пока я просмотрю бумаги.
Она повиновалась и с крайним беспокойством следила за изменениями его лица, пока герцог быстро, но внимательно просматривал документы, делая пометки во время чтения. Бегло пробежав их, он поднял глаза, словно собираясь что-то сказать, но изменил свое намерение, не желая, очевидно, связать себя слишком поспешными выводами, и снова несколько раз перечитал те параграфы, которые отметил как наиболее важные. Все это отняло у него значительно меньше времени, чем у человека заурядных способностей, ибо его острый, проницательный ум и безошибочное чутье моментально подмечали именно те факты, которые являлись существенными для данного вопроса. Несколько минут он сидел, погруженный в глубокие размышления, и наконец встал.
– Девушка, – проговорил герцог, – решение, вынесенное по делу твоей сестры, безусловно, жестоко.
– Благослови вас Бог, сэр, за такие слова! – воскликнула Джини.
– Ведь духу английского закона совсем несвойственно, – продолжал герцог, – считать совершившимся то, что не доказано, и наказывать смертной казнью за преступление, которое, судя по малоубедительному выступлению прокурора, может быть и не было совершено.
– Благослови вас Бог, сэр! – снова сказала Джини, которая, встав с места и сжав руки, с блестевшими сквозь слезы глазами и вся трепеща от волнения, впитывала в себя каждое слово, произнесенное герцогом.
– Но, увы, бедная моя девушка, какой для тебя прок в моем мнении, если я не смогу внушить его тем, в чьих руках по закону жизнь твоей сестры? Кроме того, я не адвокат; мне нужно посоветоваться по этому делу с нашими шотландскими официальными законоведами.
– О сэр, но то, что считаете разумным вы, будет разумно и для них.
– В этом я не уверен, – ответил герцог. – Сколько голов, столько умов, как говорит наша старая пословица. Но все же ты не совсем напрасно понадеялась на меня. Оставь мне эти бумаги, а я дам тебе знать о себе завтра или послезавтра. Постарайся не отлучаться из дома миссис Гласс и будь готова прибыть ко мне по первому же моему зову. Не нужно, чтобы миссис Гласс сопровождала тебя. И вот еще что: пожалуйста, будь одета точно так же, как сейчас.
– Я могла бы надеть шляпу, сэр, – сказала Джини, – но ваша честь знает, что по обычаям нашей страны девушкам не полагается этого делать. И я подумала, раз ваша светлость так далеко от родины, вам будет по сердцу эта клетчатая шаль. – И она посмотрела на свой плед.
– Ты рассудила очень правильно, – сказал герцог, – шотландская одежда была всегда дорога мне, и только смерть может сделать сердце Мак-Каллумора настолько холодным, чтобы оно не согрелось при виде клетчатого пледа. А теперь ступай и смотри будь на месте, когда я пришлю за тобой.
Джини ответила:
– Этого можно не опасаться, сэр, потому что я никуда не выхожу: меня совсем не интересуют разные зрелища в этой путанице черных домов. Но не обессудьте меня, если я скажу вашей светлой милости, что если вам придется обратиться к людям повыше вас чином и положением (не обижайтесь на меня за такие слова), то считайте, что между вами и ими так же не может быть никаких счетов, как между бедной Джини из Сент-Леонарда и герцогом Аргайлом, – и тогда вы не обидитесь и не отступите после первого же грубого слова, которое вам скажут.
– Я совсем не склонен, – сказал, смеясь, герцог, – обращать внимание на грубые слова. Не возлагай слишком много надежд на мои обещания. Я сделаю все, что в моих силах, но сердцами королей повелевает лишь Бог.
Джини почтительно поклонилась и вышла. Приближенный герцога с большой предупредительностью проводил ее до кареты, что, очевидно, было вызвано не столько ее внешним видом, сколько продолжительностью аудиенции, пожалованной ей герцогом.