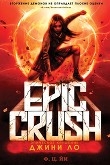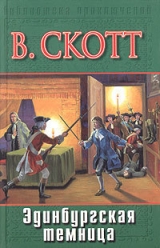
Текст книги "Эдинбургская темница"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
ГЛАВА XL
Там женщина жестокая была
Безжалостна, и мстительна, и зла.
Суровый взгляд внушал невольный страх, -
Презренье к смерти чудилось в глазах
Крабб
Указание собираться в дорогу пришло, когда Джини пробыла в столице уже около трех недель.
В назначенный для отъезда день она распрощалась с миссис Гласс, выразив этой доброй женщине подобающую благодарность за проявленную заботу, и, взобравшись вместе со своим багажом, значительно увеличившимся за счет покупок и подарков, в наемную карету, прибыла в дом герцога Аргайла, где в комнате экономки встретилась со своими будущими попутчиками. Пока они ожидали экипажа, Джини сообщили, что герцог хочет с ней поговорить; войдя в роскошный зал, она была крайне удивлена, узнав, что он собирается представить ее своей супруге и дочерям.
– Хочу познакомить вас с моей маленькой землячкой, – таковы были его первые слова. – Если бы меня поставили во главе армии солдат, сражающихся за правое дело и столь же мужественных и настойчивых, как она, я не побоялся бы выступить против противника, вдвое превосходящего меня численностью.
– Ах, папа! – воскликнула подвижная юная леди лет двенадцати. – Разве ты не помнишь, что при Шериф-муре ты и выступал против армии вдвое большей твоей? И все-таки вот что произошло (она запела хорошо известную песенку):
Одни говорили, что мы их побили,
Другие клялись, что они победили,
А те призывали в свидетели небо,
Твердя, что никто победителем не был.
Клянусь только в том, что глазами своими
Я видел, что битва была между ними.
– Что? Моя маленькая Мэри у меня на глазах превратилась в тори? Нечего сказать, хорошие новости повезет моя землячка в Шотландию!
– Судя по благодарности, которую мы все получили за то, что остались вигами, нам бы всем следовало стать тори, – сказала другая юная леди.
– Спокойствие, ворчливые обезьянки, займитесь-ка лучше своими куклами! А я спою за вас песенку о Бобе Дамблейнском:
Был наш Боб больно скор на словах.
И остался наш Боб на бобах.
– Папино остроумие выдыхается, – сказала леди Мэри. – Бедняжка повторяется: он пел это на поле битвы, когда ему сообщили, что горцы изрубили своими палашами весь его левый фланг.
В ответ на эту насмешку герцог шутливо дернул дочь за волосы.
– Ах! Храбрые горцы и их блестящие палаши! – сказал он. – Несмотря на все неприятности, которые они мне причинили, я желаю им только добра, как поется в песне. А теперь, проказницы, скажите что-нибудь любезное вашей соотечественнице; хотел бы я, чтобы у вас была хоть половина ее здравого смысла, не говоря уж о верности и чистосердечии.
К Джини приблизилась герцогиня и в ласковых и приветливых словах уверила ее, что она заслужила всеобщее уважение своим любящим и решительным характером. Потом она добавила:
– Вернувшись домой, ты, возможно, услышишь обо мне.
– И обо мне! И обо мне! И обо мне! – воскликнули одна за другой молодые леди. – Потому что ты делаешь честь нашей родине, которую мы все так чтим.
Джини, смущенная этими неожиданными похвалами и не зная о том, что герцогу, наводившему справки о деле Эффи, стало известно о ее поведении в суде, лишь краснела и без конца кланялась в ответ, произнося:
– Премного благодарна! Премного благодарна!
– Джини, – сказал герцог, – тебе следует перед отъездом выпить doch an'dorroch note 93Note93
прощальную чашу (шотл.).
[Закрыть], а то не сможешь отправиться в путь.
На столе стоял поднос с вином и пирогом. Герцог налил себе вина и выпил его «за все верные сердца, которые любят Шотландию», после чего предложил бокал с вином и Джини.
Джини, однако, отказалась, сказав, что она никогда в своей жизни не пробовала вина.
– Как же это так, Джини? – спросил герцог. – От вина на сердце делается веселее, разве ты не знаешь?
– Ах, сэр, мой отец похож на Ионадава, сына Рехава, который наказал своим детям никогда не пить вина.
– Я считал твоего отца более благоразумным человеком, разве только он предпочитает бренди. Ну, Джини, раз ты не пьешь, то должна по крайней мере есть, чтобы поддержать репутацию моего дома.
Он отрезал большой кусок пирога и не позволил ей, как она хотела, отломить от него немного, а остальное положить обратно на поднос.
– Положи пирог в свою сумку, Джини, – сказал он, – ты еще не раз обрадуешься ему, пока доберешься до башни Сент-Джайлса. Как бы мне хотелось увидеть ее поскорее! Итак, передай привет всем моим друзьям в этой старой коптилке – Эдинбурге, а также и тем, кто живет по соседству. Желаю тебе счастливого пути!
И со свойственной ему любезностью и чисто солдатской искренностью он пожал руку своей протеже и передал ее на попечение Арчибалду, уверенный в том, что его приближенные, видя такое исключительное к ней внимание со стороны их господина, и сами отнесутся к ней с не меньшей заботливостью.
Действительно, в течение всего пути ее спутники были настолько предупредительны, что возвращение Джини домой с точки зрения комфорта и безопасности резко отличалось от ее путешествия в Лондон.
Исчезли и чувства горя, позора и страха, тяжелым камнем лежавшие у нее на сердце до встречи с королевой в Ричмонде. Но человеческий ум настолько капризен, что, освободившись от давившего его реального горя, он становится чувствителен ко всякого рода воображаемым бедствиям: теперь Джини была страшно обеспокоена тем, что не имеет никаких известий от Рубена Батлера, для которого письменный труд являлся гораздо более привычным занятием, чем для нее.
«Для него это так просто, – думала она, – ведь я сама видела, что перо в его руках бегает по бумаге так же быстро, как оно скользило раньше по воде, когда находилось в крыле серого гуся. Горе мне! Может быть, он болен, но тогда мой отец упомянул бы об этом. А может быть, он изменил своему слову и не знает, как мне это сказать. Ему нечего так беспокоиться из-за этого, – мысленно продолжала она, стараясь сохранить бодрость духа, хотя слезы оскорбленной гордости и уязвленной любви заблестели в ее глазах при этом подозрении, – Джини Динс не такая девушка, что станет цепляться за него и напоминать о том, что он хочет забыть. Все равно я желаю ему здоровья и счастья, и если ему так повезет, что у него будет церковь в наших краях, я все равно пойду туда и буду его слушать, чтобы он понял, что я никогда зла на него не таю». Слезы хлынули у нее из глаз, когда она представила себе эту сцену.
Времени на эти печальные размышления у Джини было более чем достаточно, потому что ее спутники – слуги столь знаменитого и модного дома – вели между собой нескончаемые разговоры, в которых Джини не могла и не хотела принять участие. Благодаря такому досугу у нее была полная возможность не только размышлять, но и порядком измучить себя за те несколько дней, что они добирались до предместий Карлайла, ибо герцог, щадя молодых лошадей, дал указание ехать на север не слишком быстро и делать короткие перегоны.
Приближаясь к окрестностям этого древнего города, они заметили довольно большую толпу на возвышенности вблизи главной дороги; от прохожих, спешивших присоединиться к собравшимся, они узнали, что причиной сборища было похвальное желание публики «увидеть, как окаянная шотландская ведьма и воровка получит хотя бы половину того, что ей причитается, вон на той Харибиброу, потому что там ее всего-навсего повесят, а по сути дела ее надо бы сжечь, да и этого еще мало!».
– Дорогой мистер Арчибалд, – промолвила новоиспеченная управительница молочной фермы, – никогда раньше мне не доводилось видеть, как вешают женщину; только и видела, что четырех мужчин, но и это было очень интересно.
Мистер Арчибалд был, однако, шотландцем и не предвкушал никакого удовольствия оттого, что увидит, как будут вешать его соотечественницу в «согласии с жестоким указанием закона». Помимо этого, он был разумный и деликатный человек и знал о недавних событиях в семье Джини и о причине ее прибытия в Лондон; поэтому, сухо ответив, что остановиться здесь нельзя, так как по поручению герцога они должны прибыть в Карлайл как можно раньше, он приказал кучеру ехать дальше.
К этому времени они находились на расстоянии четверти мили от возвышенности, называемой Хариби, или Харибиброу, хорошо видимой, несмотря на ее незначительную высоту, даже издалека благодаря равнинному характеру местности, по которой течет Иден. Во время войн между обеими странами и в дни не менее грозных перемирий на ней не раз качались по ветру разбойники и пограничные хищники этих двух королевств. В более позднюю эпоху на Хариби совершались и другие казни, но точно с такой же бесцеремонностью и жестокосердием, ибо в этих пограничных районах беспорядки царили даже в те времена, которые мы описываем, и нравы окрестных жителей были здесь гораздо грубее, чем в центре Англии.
Кучер гнал лошадей дальше по Пенритской дороге, и карета, огибая возвышенность, постепенно удалялась от нее. Все же глаза миссис Долли Даттон вместе с головой и всей дородной фигурой были обращены в ту сторону, где развертывались упомянутые события, и ясно различали на фоне чистого неба очертания виселицы и темные силуэты палача и преступницы, стоявших на ступеньках высокой воздушной лестницы; наконец один из них взметнулся в воздух и задергался, очевидно, в смертельной агонии, хотя издали казался не больше паука, подвешенного к концу невидимой нити, а другой силуэт, спустившись по лестнице, тотчас смешался с толпой. При виде завершения трагической сцены миссис Даттон испустила громкий визг, и Джини, повинуясь инстинктивному любопытству, повернула голову в том же направлении.
Вид приговоренной женщины, подвергнутой той страшной казни, от которой так недавно была спасена ее любимая сестра, подействовал слишком сильно не столько на нервы Джини, сколько на ее сознание и чувства. В полуобморочном состоянии она с отвращением повернулась в другую сторону, охваченная приступом тошноты. Спутница Джини забросала ее вопросами, навязывая свою помощь и предлагая остановить экипаж, чтобы позвать доктора, раздобыть капель, жженых перьев, нюхательной соли, настойки из оленьих рогов, чистой воды – все сразу и немедленно. Арчибалд, более спокойный и чуткий, настаивал только на том, чтобы карета ехала поскорее вперед, и остановил ее лишь тогда, когда ужасная картина исчезла из поля зрения; взглянув на смертельно бледное лицо Джини, он вышел из кареты и отправился искать самое доступное и простое из фармацевтических средств миссис Даттон – глоток чистой воды.
Пока Арчибалд находился в поисках средств, подсказанных ему его человеколюбием, проклиная канавы, в которых, кроме грязи, ничего не было, и вспоминая о тысяче журчащих ручейков своей гористой родины, присутствовавшие при казни стали проходить мимо стоявшей кареты, возвращаясь в Карлайл.
Их разговор, не всегда, правда, отчетливо слышимый, приковывал к себе внимание Джини, как рассказы о привидениях неудержимо привлекают детей, хоть они и знают, что за свое любопытство потом поплатятся страхом. Из услышанных слов она поняла, что виденная ею жертва закона умерла, по выражению этих несчастных, «без сдачи», то есть нераскаявшейся и озлобленной, не страшась Бога и пренебрегая людьми.
– Ох, и упрямая же баба! – сказал один из камберлендских крестьян, проходя мимо и грохоча своими деревянными башмаками, словно ломовая телега.
– Пошла прямехонько к своему хозяину, до самого конца все его кликала, – ответил другой. – Скандал, сколько шотландских ведьм да шлюх развелось на этой дороге. Всех бы их перевешать да перетопить пора.
– Что верно, то верно, дядюшка Трэмп, ежели бы так делать, мы бы и горя не знали. А то у меня последние два месяца на коров просто мор напал.
– А у меня ребятишки все время хворали, – ответил его сосед.
– А ну-ка, заткните свои нечестивые глотки, богохульники, – сказала старуха, ковылявшая мимо кареты, у которой стояли собеседники.
– Никакая вам это не ведьма, а чистой воды воровка да убийца.
– А, вот оно что, мадам Хинчеп? – спросил другой, вежливо отступая в сторону, чтобы пропустить старуху. – Вам, конечно, виднее… Да только раз она из Шотландии, то все равно лучше ее прикончить.
Старуха направилась дальше, ничего не ответив.
– Эх, соседушка, – сказал дядюшка Трэмп, – видел, как одна ведьма за другую заступается? Им наплевать, кто из них из Шотландии, а кто из Англии.
Товарищ его покачал головой и, понизив голос, ответил:
– Что и говорить! Когда одна козлоногая ведьма взберется на свою метлу, так уж и все другие готовы за ней следом лететь; недаром в народе говорят: рыбак рыбака видит издалека.
– Ну, а как ты полагаешь, – продолжал дядюшка Трэмп, – дочка той висельницы небось тоже ведьма, а?
– Я и сам не разберу. Но народ вроде собирается искупать ее в Идене.
И, пожелав друг другу всего хорошего, они разошлись в разные стороны.
Как только эти невежды ушли и вернулся с водой мистер Арчибалд, толпа парней и девчонок, присутствовавших на казни, устремилась, испуская восторженные вопли, вслед за высокой, причудливо одетой женщиной, которая плясала, прыгала и вертелась в самом центре сборища. Среди этого сброда были люди и постарше. Ужасное воспоминание пронеслось в голове Джини, когда она увидела это жалкое создание. Воспоминание это было обоюдным, ибо, проявив неожиданную силу и проворство, Мэдж Уайлдфайр вырвалась из шумного круга своих мучителей и, цепляясь за дверцу кареты, закричала, сопровождая свои слова не то хохотом, не то воплем:
– А знаешь ли ты, Джини Динс, что они повесили нашу матушку? – И, перейдя сейчас же на жалобный и умоляющий тон, добавила: – О, прикажи, чтоб мне разрешили обрезать веревку! Все-таки она моя мать, хоть и была хуже самого дьявола. Ведь с ней может случиться то же, что и с Мэгги Диксон, которая много дней подряд кричала после того, как ее повесили; а от других женщин она отличалась только хриплым голосом да тем, что шея у нее была свернута набок…
Мистер Арчибалд, смущенный попытками сумасшедшей влезть в карету и ее шумными и озорными спутниками, собравшимися вокруг них, все время оглядывался по сторонам, ища констебля или старосту, кому он мог бы передать это жалкое существо. Не обнаружив поблизости никого из должностных лиц, он попытался отцепить руки Мэдж от кареты, чтобы ехать дальше и тем самым избавиться от нее. Однако достичь этого без применения некоторого насилия было невозможно: Мэдж крепко держалась за карету и начала снова молить, чтобы ей разрешили обрезать веревку.
– И веревка-то стоит всего два пенни! – кричала она. – Разве это дорого за жизнь женщины?
К карете подошли с угрожающим видом несколько мужчин – мясники и скотоводы большей частью, чей скот в последнее время страдал от какого-то заразного и пагубного заболевания, приписываемого этими глупцами колдовству. Они грубо схватили Мэдж за руки и, оторвав ее от кареты, воскликнули:
– Ты что это надумала? Посланных короля средь дороги останавливать? Мало ты, что ли, набедокурила своим колдовством да тем, что смерть повсюду накликаешь?
– О Джини Динс, Джини Динс! – снова закричала бедная сумасшедшая.
– Спаси мою мать, и я снова отведу тебя в дом Толкователя, и научу моим прекрасным песням, и расскажу тебе, что произошло с… – Остальные ее мольбы были заглушены воем сброда.
– Спасите ее, Бога ради! Спасите ее от этих людей! – закричала Джини Арчибалду.
– Она безумна, но совсем безвредна, она только безумна, джентльмены, – сказал Арчибалд. – Не обращайтесь с ней так жестоко, а отведите ее к мэру.
– И без тебя знаем, как надо с ней обращаться, – ответил один из мужчин, – а ты, молодчик, езжай-ка своей дорогой и не суй нос не в свое дело.
– По разговору он, видать, шотландец, – вмешался другой, – пускай-ка вылезает из своей карусели, а я уж, так и быть, пожалую его костями этой девки да еще заверну их в клетчатый плед.
Было совершенно ясно, что спасти Мэдж невозможно, и Арчибалд, будучи по натуре человеком гуманным, приказал кучеру ехать побыстрее в Карлайл, чтобы заручиться там чьей-либо поддержкой для оказания помощи несчастной женщине. Отъехав, они услышали позади себя хриплый рев, которым толпа обычно начинает свои свирепые расправы и глумления, но даже сквозь этот страшный и дикий гул прорывались вопли несчастной жертвы. Вскоре шум замер вдали; но, как только они въехали в Карлайл, Арчибалд, уступая настойчивым и неотвязным мольбам Джини, отправился к городскому судье и рассказал ему о жестокой расправе, грозившей несчастному существу.
Через полтора часа он вернулся и рассказал Джини, что судья с несколькими помощниками и он сам немедленно направились на помощь пострадавшей женщине, и когда они добрались до грязной лужи, в которую толпа окунала ее согласно своему любимому методу расправы, судье удалось вырвать Мэдж из их рук; но она была без сознания после бесчеловечных издевательств, которым ее подвергли. Он добавил, что видел, как Мэдж внесли в больницу, причем ему сказали, что она пришла в себя и, очевидно, поправится.
Последнее утверждение не совсем соответствовало действительности, ибо на самом деле мистеру Арчибалду сообщили, что после всего перенесенного Мэдж Уайлдфайр навряд ли останется в живых; однако Джини казалась такой взволнованной, что он счел неразумным рассказать ей сразу всю правду. И в самом деле, Джини была так потрясена этим страшным происшествием, что, несмотря на их намерение выехать в тот же вечер в Лонгтаун, они решили задержаться на ночь в Карлайле.
Это решение вполне отвечало желаниям Джини, так как она хотела добиться свидания с Мэдж. Сопоставляя некоторые из беспорядочных воспоминаний с рассказом Джорджа Стонтона, она решилась воспользоваться представившейся возможностью и разузнать у Мэдж поподробней о судьбе несчастного младенца, стоившего так дорого ее сестре. Она понимала, что у нее мало надежд на получение каких-либо ценных сведений, ибо рассудок Мэдж был слишком расстроен, но, так как мать ее была наказана по заслугам и замолкла навеки, эта встреча являлась единственным шансом узнать хоть что-нибудь, и Джини не хотела упускать такой случай.
Свое желание увидеться с Мэдж Джини объяснила мистеру Арчибалду тем, что встречала ее раньше и из чувства сострадания хотела выяснить, как с ней обращаются после перенесенных ею несчастий. Сострадательный спутник Джини сейчас же пошел в больницу, куда направили пострадавшую, и принес ответ, что медицинский персонал категорически запретил пропускать к ней посетителей. Когда мистер Арчибалд обратился туда на следующий день с той же просьбой, ему ответили, что пострадавшая была накануне настолько спокойна и неподвижна, что священник, исполнявший одновременно и обязанности капеллана, счел необходимым прочитать у ее постели молитвы, однако вскоре после его ухода она вновь начала бредить. Тем не менее если ее соотечественница желает увидеться с ней, то это не возбраняется. Ей осталось жить не более часа или двух.
Узнав об этом, Джини в сопровождении своих спутников поспешно направилась в больницу. Они нашли умирающую в большой палате, где стояли десять кроватей, все пустые, за исключением той, на которой лежала Мэдж.
Мэдж пела, когда они вошли, – пела бессвязные отрывки из своих любимых песен и давно забытых напевов, но неестественное оживление, придававшее обычно напряженность ее голосу, исчезло, и он звучал печально и нежно, словно смягченный перенесенными Мэдж мучениями. Она была все так же безумна, но ее блуждающие мысли уже не находили, как прежде, выражения в диких выкриках и вспышках необузданной фантазии. Близость смерти чувствовалась в жалобном тоне ее голоса, спокойная грусть которого напоминала чем-то убаюкивающие звуки колыбельной песни, которую мать напевает засыпающему ребенку. Когда Джини вошла, она сначала услышала лишь мстив, а потом припев и слова песни, прославляющей, очевидно, веселое время после сбора урожая:
И вот закончена работа,
Стирает фермер капли пота,
И тяжко нагруженный воз
Последний стог в амбар увез.
Прохладный вечер. Солнце село,
И мы, свое закончив дело,
Всю ночь танцуем и поем
На славном празднике своем.
Когда куплет закончился, Джини приблизилась к кровати и назвала Мэдж по имени. Но та не узнала ее. Наоборот, больная, словно недовольная тем, что ей помешали, нетерпеливо крикнула:
– Сестра, сестра, поверни меня лицом к стене, чтобы я не слышала больше моего имени и не видела никого из этого гадкого мира!
Сиделка повернула ее, как она хотела, то есть лицом к стене, а спиной к свету. Успокоившись в этом новом положении, она снова запела очень грустно и протяжно, словно стараясь вернуть себе то состояние отрешенности от мира, из которого ее вывели посетители. Мотив, однако, был уже другой и несколько напоминал музыку гимнов методистов, хотя в ритме он перекликался с предыдущей песней:
Если неги полон взор,
Если брачный шьют убор,
Если верности обет
Стер сомнений черный след
И любовь, стряхнув оковы,
Осчастливить всех готова -
Плащ греха сорвав с груди,
Поднимись и прочь иди!
Мелодичность и торжественность напева подчеркивались еще больше трогательными переливами голоса, красивого от природы, и если утомление ослабило его силу, то сделало зато более певучим. Арчибалд, невозмутимый, как все придворные, и равнодушный к музыке, был смущен, если не тронут; хозяйка молочной фермы всхлипывала, а глаза Джини мгновенно наполнились слезами. Сама сиделка, привыкшая к различным сценам смерти, была заметно растрогана.
Больная быстро слабела, о чем свидетельствовали приступы периодически наступающей одышки и слабые, едва слышные стоны – последние признаки уходящей жизни.
Но как только ей становилось немного легче, потребность пения, когда-то, по-видимому, очень сильная в несчастной женщине, брала верх над ее слабостью и муками. И самым удивительным было то, что содержание песен каким-то косвенным образом отражало до некоторой степени ее теперешнее состояние. Сейчас она начала петь отрывок из старой баллады:
Тосклив мой сон, лорд Арчибалд,
Моя постель – как лед,
Возлюбленный неверный мой,
Заутра – твой черед!
Не плачьте, девушки мои,
Мой смертный час пробьет,
Пускай умру я за него.
Он – за меня умрет!
После этого последовала другая песня, более дикая, не такая монотонная и размеренная. Но те, кто присутствовал при этой необычайной сцене, могли разобрать лишь несколько куплетов:
Гордая Мейзи в лесу
Медленно бродит.
Птичка на ветке сидит,
Трели выводит.
«Скоро ли замуж пойду,
Птенчик мой милый?» -
«Шесть кавалеров тебя
Стащат в могилу».
«Кто мне постелет, скажи,
Брачное ложе?» -
«Старый, седой пономарь
В яму уложит».
Будет светить светлячок
Звездочкой малой,
С башни сова пропоет:
«В землю пожалуй!»
На последних нотах голос ее замер, и Мэдж впала в сон, который, по словам опытной сиделки, мог перейти лишь в полное забытье или смертельную агонию.
Предсказание сиделки оказалось верным. Бедная сумасшедшая ушла из жизни, не издав более ни звука. Но наши путешественники не были свидетелями ее конца. Они покинули больницу, как только Джини стало ясно, что умирающая не сможет дать ей никаких дополнительных сведений об Эффи и ее ребенке.