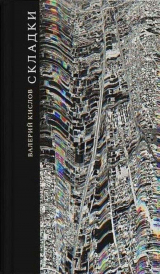
Текст книги "Складки (сборник)"
Автор книги: Валерий Кислов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Валерий Кислов
СКЛАДКИ
I
ВДВОЕМ
Началось все с того, что я почувствовал очень глубоко внутри себя, где-то там, в сокровенной, хотя и неопределенной точке, что-то не свое, нечто пусть и не совсем чужое, но все же совершенно неродное: иное, прочее, другое. Это ощущение было мгновенным, молниеносным, подобно озарению, но к мышлению не имело никакого отношения, поскольку ощущалось физически, как будто что-то прикоснулось или даже надавило на плоть, но только изнутри самой плоти. Это ощущение прикосновения длилось всего лишь миг, но за этот миг я успел утратить наивную радость от веры в свое внутреннее единство и глупую гордость от осознания своей неделимости: тогда мне не хватило проницательности (или мудрости?) увидеть (угадать?) в этом не временное отсутствие, а окончательную утрату целостности. Когда я говорю иное, прочее или другое, я всего лишь пытаюсь – довольно неловко – передать свои ощущения в ту секунду, но прекрасно понимаю, что эти определения еще менее точны сейчас, особенно после того, что произошло.
Тот миг был знаком, при-знаком или пред-знаком, знаком-предзнаменованием – знаменательным и даже знаменующим, – но я со свойственным мне легкомыслием не придал ему никакого значения. Как и другим более или менее скрытым, но столь же значимым знакам, последовавшим вслед за первым. В наивной молодости знаки не означают ничего, значат лишь слова, причем все они – вне зависимости от степени их значимости, – как правило, истолковываются превратно. Я был молод и наивен, я верил в слова, задумывался не часто, да и то обычно в шутку (это отнюдь не означает, что сегодня, будучи старше и опытнее, задумываясь чаще и порой всерьез, я истолковываю знаки правильно). Впервые мне пришлось серьезно задуматься после того, как оно (это иное, прочее или другое) проявило себя с вопиющей, если не сказать возмутительной очевидностью в первый раз.
1
Это случилось в поезде. В то время в Европе еще существовали внутренние границы, межправительственное соглашение о безвизовом перемещении идей, людей и грузов еще не вступило в силу, хотя уже планировалось в тиши высших руководящих кабинетов. Европейцы (а также американцы и канадцы) уже могли ездить по всей Европе беспрепятственно, а не-европейцам (не-американцам и не-канадцам) для этого требовались въездные или транзитные визы, получение которых было сопряжено с хлопотами и унижениями. Я не был ни европейцем, ни американцем, ни канадцем: у меня была французская виза, но не было ни немецкой, ни бельгийской. Я уже неоднократно ездил в Германию, каждый раз – через Бельгию, каждый раз – без транзитной визы, а значит, нелегально, и каждый раз – переживая, поскольку на границах (а их было две) у пассажиров могли проверять не только билеты, но и паспорта с визами. Причем более всего я опасался проверки на немецкой границе, поскольку немецкого языка не знал. Немецкие контролеры проверяли документы, удостоверяющие личность, выборочно, но этот выбор чаще всего падал на личности, внешне отличающиеся от «порядочных» немцев, которых я не без злорадства, предвзято и ошибочно считал «типичными» и «примерными», то есть светлокожими, светловолосыми и гладко выбритыми арийцами. Как правило, документы проверяли у личностей темнокожих, темноволосых, темнобородых, а также помятых, потертых, потасканных, а посему уже подозрительных, поскольку они не соответствовали – как не без злорадства, предвзято и ошибочно считал я – представлению «типичных», «порядочных» немцев о типичном немецком порядке. Будучи темноволосым, бородатым, помятым и не говорящим по-немецки, я имел все основания попасть в число подозрительных и проверяемых, рисковал быть проверенным и при отсутствии визы – выдворенным за германские пределы. Я нервничал.
На протяжении почти десяти лет все мои путешествия в Германию были на редкость однообразны. Я садился на ночной поезд (в то время на этом направлении он еще ходил), который отбывал из Парижа около полуночи и прибывал в Кельн ранним утром. То, чему был посвящен целый день, как правило, это был выходной, не имеет, как мне кажется, прямого отношения к рассказу, а посему должно быть опущено. Единственное, что можно и даже нужно сказать о цели поездки, так это то, что она не была связана ни со шпионско-разведывательной, ни с коммерческой деятельностью. Это важно. Важно и то, что в тот же вечер, а по сути – уже ночь, я отбывал из Кельна и ранним утром прибывал в Париж. Эти поездки меня изрядно утомляли, поскольку я не спал две ночи подряд, а в Германии был целый день на ногах. К тому же я узнавал о предстоящей поездке, точнее, получал подтверждение о возможности мероприятия, ради которого поездка и задумывалась, дня за два или даже накануне. Если первые два-три года в Кельне мне предстояло делать пересадку и ехать на электричке минут двадцать в невзрачный городишко Зибург, то впоследствии мероприятие переместилось: мне назначали время и место (обычно на кельнском вокзале в 11 часов утра или в полдень). Несколько раз Кельн по независящим от меня причинам менялся на Бонн, который находится в получасе езды от Кельна. Замена Кельна на Бонн не имела для меня никакого значения, эти непохожие города с непохожими вокзалами, на которых я проводил большую часть времени и к которым я уже привык, были для меня одинаково неинтересны и одинаково утомительны. Чаще всего я оказывался все же в Кельне.
За время этих поездок я успел изучить вокзал вдоль и поперек, знал все его входы и выходы, малейшие закутки и закоулки; я научился не реагировать на то, что сначала вызывало какую-то реакцию. Отныне меня почти ничто не удивляло. Я не удивлялся, что с шести часов утра вокзальные закусочные разворачивали бойкую торговлю пенистым пивом и истекающими жиром свиными сосисками, запах которых пропитывал все переходы и платформы; я уже не удивлялся, что в вокзальном туалете в любое время дня и ночи всегда находился как минимум один мастурбирующий мужчина; я уже не удивлялся ни выбитым стеклам в огромном вокзальном куполе, загаженном голубями, ни огромному готическому собору, к которому подло прилепился вокзал, ни немецким бродягам с немецкими собаками, ни словацким панкам со словацкими крысами, ни румынским гадалкам с румынскими воронами. Я не удивлялся русским аккордеонистам, наигрывавшим в подземных переходах немецкие фуги.
Я приезжал около шести часов утра и знал, что городские кофейни открываются не раньше восьми, а магазины – не раньше девяти. Я знал, что многие из них будут закрыты весь день, так как это был выходной, знал, что мне предстоит гулять минимум часа три вокруг вокзала; я уже научился ждать, не думая и не чувствуя, без скуки и без тоски, без нетерпения и без раздражения. Я приезжал, выходил на платформу и выкуривал первую сигарету. Затем спускался в подземный переход, проходил мимо закусочных с пивом и сосисками, выходил на площадь перед закрытым еще собором и в очередной раз поражался его гигантским размерам, какой-то несовременной и, как говорят, «нездешней» красоте. Затем гулял вокруг собора, садился на скамейки, курил сигареты, пробовал читать, возвращался на вокзал, пробовал читать, заходил в закусочные, где пил черный кофе, опять выходил, чтобы выкурить сигарету, пробовал читать, опять возвращался на вокзал, спускался в туалет, где встречал очередного мастурбирующего мужчину, выходил на площадь и т. д. Затем наступало назначенное мне время. Я уже не слонялся бесцельно, а ждал целенаправленно. Смотрел на белую густую пену, венчавшую огромные стеклянные кружки с пивом, смотрел на шипящие пузыри жира, лопающиеся на коже толстых сосисок, смотрел на пассажиропоток – и ждал. Проходил еще как минимум час, после чего начиналось запланированное мероприятие, которое длилось часов до семи-восьми. После мероприятия я вновь принимался слоняться без цели и скуки в ожидании отправления ночного поезда на Париж: гулял по вокзалу, вокруг вокзала, перед собором, вокруг собора, курил, заходил в закусочные, спускался в туалет, выходил на площадь и наконец усаживался в вагон поданного к платформе поезда. Я чувствовал усталость, а вместе с ней – несмотря на удовлетворение от завершенного дела – испытывал некоторые душевные терзания, которые не имеют никакого отношения к этому рассказу, а посему должны быть опущены.
Итак, первый раз оно проявило себя в поезде. Я, как всегда, возвращался ночным поездом из Кельна в Париж. Я ехал в купе один. Я, как всегда, был утомлен и расстроен. Дело было осенью: уже стемнело, шел моросящий дождь, за окном мелькали какие-то расплывающиеся огни, пролетали мрачные тени; я уже не мог читать, я тупо смотрел в окно и медленно погружался в дремоту, из которой меня время от времени выводило громыхание «гуляющей» туда-сюда двери (в этих сидячих вагонах двери в купе никогда не закрывались). После проверки билетов на немецкой территории я лег и заснул, зная, что билеты проверят часа через три-четыре на бельгийской территории и еще раз – уже под утро – на французской. Вагонных проводников в этих поездах не было; контролеры каждой проезжаемой страны проходили весь состав и проверяли билеты у всех пассажиров; эти проверки разбивали ночь на три приблизительно равных отрезка.
После третьей проверки я опять заснул и через некоторое время вдруг проснулся от ощущения какой-то необходимости, сопряженной с необратимостью. Что-то уже произошло, причем не обязательно недавно, и уже никак не могло обратиться вспять. Я посмотрел в окно. Поезд стоял на маленькой, должно быть, уже французской станции. Хмуро брезжило французское утро, где-то вблизи разговаривали французские пассажиры, где-то вдали лаяли французские собаки и каркали французские вороны. Все было серым, мутным, тягучим, каким-то скорбным и, повторюсь, необратимым. Пронзительно просвистел свисток, поезд болезненно, чуть ли не судорожно дернулся и тронулся всем многовагонным составом, оставляя серые перроны с серыми семафорами; в этот момент я вскочил, встал ногами (даже не сняв ботинок) на мягкое сиденье, дотянулся до стоп-крана, расположенного над дверью, и рванул красную ручку вниз.
Поезд резко остановился, раздался вой тормозов, скрежет металла о металл; рядом со стоп-краном зажглась яркая лампочка, и что-то громко зазвенело на весь вагон. Поднявшаяся суматоха была мне настолько неприятна, – я вообще очень не люблю, когда ярко и громко, – что я быстро лег, закрыл глаза и постарался уйти в себя. Но уйти в себя мне не удалось, поскольку в коридоре вагона кто-то суетливо забегал. Шаги приближались, и я с нехорошим предчувствием подумал, что они приближались к моему купе. А еще я подумал, что если не открывать глаза, то нехорошее предчувствие можно обмануть, но я, конечно, ошибся. Дверь яростно отъехала в сторону, и в купе ворвались два французских контролера.
Первый из ворвавшихся включил свет, второй встал ногами (даже не сняв ботинок) на мягкое сиденье и вернул красную ручку стоп-крана в ее обычное (верхнее) положение. После чего оба уставились на меня. Я протер заспанные глаза, сел и уставился на них. Они переглянулись, и «первый» приступил к допросу:
– Вы были в купе один?
– Да, – честно ответил я.
– В купе кто-нибудь заходил?
– Нет, хотя, может быть, и заходил: я не видел, ведь я спал, – честно ответил я.
– Мимо купе кто-нибудь проходил?
– Нет, хотя, может быть, и проходил: я не видел, ведь я спал, – честно ответил я.
– А из вагона никто не выпрыгивал?
– Нет, хотя, может быть, и выпрыгивал: я не видел, ведь я спал, – честно ответил я.
– Откуда вы едете?
– Из Кельна, – честно ответил я.
– Куда вы едете?
– В Париж, – честно ответил я.
– Предъявите ваш билет, пожалуйста!
– Пожалуйста, – вежливо ответил я.
И предъявил билет.
Контролеры проверили билет и еще раз уставились на меня.
– А в чем, собственно?.. – вежливо спросил я и еще раз честно протер глаза.
Контролеры ничего не ответили, подозрительно взглянули на стоп-кран и вышли из купе.
Я лег и задремал.
Контролеры заходили еще раза два и подозрительно смотрели на стоп-кран. Я просыпался, честно тер заспанные глаза и смотрел на стоп-кран вместе с ними.
Когда поезд пришел на Северный вокзал города Парижа, я вышел на перрон и быстро двинулся в сторону метро. Я шел, ускоряя шаг, а в подземном переходе уже бежал; лишь оказавшись в вагоне метро, я наконец осознал, что несколько часов назад собственноручно сорвал стоп-кран и остановил пассажирский поезд, за что, в принципе, должен был заплатить изрядный штраф, от которого меня спасла чистая случайность.
Раньше я никогда не думал о том, что нас двое. Что мы вдвоем населяем это тело, которое я с упрямым постоянством продолжаю считать сугубо своим и на этом основании разрушаю всеми известными мне способами. Я не думал, что мы его насилуем своим двойным присутствием; что, в нем проживая, мы уживаемся, не замечаем друг друга и даже не задумываемся о том, что нас двое. Словно существует невидимый двойник, дублер, который почти всегда отказывается от собственных ощущений, если они не могут быть разделены или приняты мною, который любит то, что люблю я, и ненавидит то, что я ненавижу. И почти всегда мы живем нераздельно в одной мысли, в одном чувстве: у нас одно духовное око, один слух, один ум, одна душа. О существовании двойников и так называемого внутреннего голоса я часто слышал от других, но никогда не сталкивался с ними сам.
После истории со стоп-краном я переосмыслил это иное-прочее-другое и даже придумал новую мизансцену с новым распределением ролей во внутричерепной пьесе (на сцене я и двойник). Я почти признал и этот внутренний голос, и даже так называемый внутренний диалог, ведь нередко на улице можно встретить людей, которые громко разговаривают, спорят, ссорятся и даже ругаются, каждый сам с собой (речь, разумеется, не о тех, кто, втыкая в ухо маленький наушник, переговаривается по мобильному телефону в режиме «свободные руки», а о тех, кто действительно разделяется внутри себя на двух собеседников, другими словами, внутренне раздваивается). По моим наблюдениям, таких людей – во Франции, Германии или Америке – существует все больше и больше, раздваиваются они все чаще и чаще и на все более продолжительные периоды. Кстати, долгое разделение себя с самим собой может привести к радикальному раздвоению личности, то есть к окончательному расщеплению сознания, результатом которого может стать галлюцинаторно-бредовая форма психического расстройства, нередко расцениваемая как серьезное заболевание. И тогда глухо ноет сердце, кровь горячим ключом бьет в голову, становится душно и хочется расстегнуться, обнажить грудь и облить холодной водой…
Позднее я подумал о том, что двойник может иногда отказываться от собственных ощущений, жить другой мыслью, другим чувством, то есть быть уже не двойником. В моей истории со стоп-краном внутренняя раздвоенность, во-первых, показала явное, я бы сказал, вопиющее несовпадение меня и двойника, а во-вторых, выразилась не в словах, а на деле: никто внутри меня мне ничего не говорил и ни о чем не спрашивал; я ни с кем не переговаривался и не спорил. Просто внутри меня кто-то молча меня взял и подменил. Этот кто-то (двойник?), этот некто (дублер?) меня сместил, вытеснил. Произошло что-то вроде быстрой смены караула, смены телохранителя. На какое-то время меня устранили, мое тело перешло на хранение к нему, и он им по своему разумению распорядился. Воспользовался. Попользовался. Это ему вздумалось встать на сиденье (не снимая ботинок), это его потянуло к стоп-крану, это его дернуло рвануть красную ручку вниз. Это он потом поспешно скинул наше тело мне и трусливо ретировался. И именно мне пришлось наше тело подхватывать и удерживать, именно мне пришлось всю ответственность за него взвалить на себя, вынести всю последующую суматоху и неприятную беседу с контролерами, которая удачно закончилась для нас обоих (для меня и для него) лишь благодаря моей честности (я ни разу не солгал) и спокойствию (до сих пор удивляюсь своей выдержке). И самое главное – ведь я его не выдал. Описывая эти события, я вовсе не стремлюсь обелить себя и очернить его, словно желая устранить мешающего мне конкурента или опасного соперника. Я не собираюсь тыкать внутрь себя указательным пальцем (да и как знать, куда именно тыкать? – в грудь, в голову, в промежность?). Я не хочу сказать, что я сам, лично я, именно я вел себя хорошо, а вот он, лично он, именно он – плохо. Я лишь пытаюсь объяснить – прежде всего, самому себе, – что в тот момент нас было действительно двое и он (иной, прочий или другой) оказался способным на то, что было совершенно неподвластно моим рукам и непостижимо моему разуму.
После истории со стоп-краном виртуально-абстрактное оно уступило место реально-конкретному ему, и я уже почти не сомневался в его существовании или, скажем, в нашем сосуществовании: да, признался я себе (или ему?), мы существуем вместе. Однако это признание не давало ответа на вопросы, все еще продолжавшие меня изводить. Кто он? Какой он? Зачем он? Как долго он? Где он? И т. д.
Разумеется, проще простого было все объяснить сложившейся традицией никогда ничего не объяснять: дескать, так уж все устроено, и точка. И нечего воздух сотрясать и бумагу марать без толку. Именно таким образом – без толку сотрясая воздух и марая бумагу – различные догмы и доктрины объясняют – то есть, наоборот, как раз никак не объясняют – огромное количество загадочных феноменов из жизни органической природы и, в частности, из жизни человеческой популяции. Среди объяснений, которые все-таки пытаются что-то объяснить, доминирует гипотеза, взятая из теории двойственной природы человеческой особи. Из двуполюсности физической выводится и ею же подтверждается двуполюсность психическая: подобно оппозициям верх/низ, право/лево существуют оппозиции свет/тьма, тепло/холод, жизнь/смерть и я/не я. А из них, якобы логически, вытекает нравственная биполярность добро/зло.
За свет и тепло отвечают силы добра; за тьму и холод отвечают силы зла. Согласно одной версии, злые силы, представленные персонажами, наделенными характерными чертами и легко узнаваемыми по совокупности признаков, постоянно осаждают теоретически добрую человеческую популяцию. На каждую теоретически добрую человеческую особь натравливается, так сказать, ее личный злой проводник (вот он, дублер или двойник), который должен укусить (искусить), а затем, как клещ, вгрызться. Внедрившись, погань срастается с человеческой особью в единую и неделимую плоть и в то же время разбухает, превращаясь в эдакое крупное насекомое или даже мелкое животное (обязательно мохнатое и черное). Оно шевелится, иногда щекочет и покалывает, трется и даже до болезненных мозолей натирает изнутри кожу. В этой версии добро пребывает внутри человеческой особи, защищенное толстой кожей с волосяным покровом, а внешнее зло пытается это добро победить путем внедрения и заражения.
А вот и другая, не менее убедительная – несмотря, а возможно, и благодаря всей сказочной условности образа – версия. Человеческая особь, теоретически нейтральная и пустая, сопровождается не одним, а двумя противоборствующими проводниками, каждый из которых преследует свою, диаметрально противоположную оппоненту, цель (вот они, эти два двойника). Проводник, спускающийся сверху, хранит и оберегает, а ползущий снизу портит и губит. Стоит только тому, верхнему, запоздать или куда отлучиться, этот, низший, тут же цепляется, карабкается по всему телу, добирается до шеи и садится на нее, свесив ножки. Сидит эдакий поганец, к примеру, какой-нибудь горбатый карлик с маленькими рожками и длинным хвостом, сидит и молчит. И болтает худенькими кривыми ножками с раздвоенными копытцами. Молчит и сопит; его молчание и сопение тяготят и становятся все более и более нестерпимыми, и, кажется, еще миг, и вынести это будет невозможно, терпение лопнет, как мыльный пузырь, и произойдет что-то непоправимое, взрыв, извержение; и в этот самый момент карлик вдруг многозначительно выдаст какую-нибудь несуразную назидательную сентенцию, например: «Все, что прямо, то лжет: любая истина крива» или «Время – круг, а бремя – крюк». А то вздумает дразниться – высокомерно плюнет далеко вперед и произнесет с важностью: «Экий ты недоумок! Я тебя выше» или «Что же ты, балбес, к моей жопе прилип?» И не знаешь даже, что делать – злиться или смеяться. А иногда, раскачиваясь, с лукавым видом заглядывает тебе в лицо, корчит гримасы, показывает язык и сует под нос фигу. И, совсем как у знаменитого близнеца, неблагопристойная, зловещая радость сияет на лице его, с восторгом он потирает руки, с восторгом вертит головой в разные стороны. А то с возмутительным бесстыдством и фамильярностью треплет тебя по плечу и щиплет за щеку.
А ты все идешь и идешь, и все в гору да в гору, и пот льется по твоему лбу, и колени дрожат, и пальцы сбиты в кровь, и нет этому восхождению конца и края, ибо из-за тяжести бремени ты каждый раз скатываешься вниз и каждый раз вновь начинаешь восходить. И, кажется, ты, словно белка в колесе, описываешь какой-то заколдованный замкнутый круг: избавиться от своей ноши ты можешь лишь наверху, но подняться наверх ты не сумеешь, если не избавишься от своей ноши. И хочется поскорее скинуть захребетника, вознестись свободным на вершину и, махнув широким крылом… В этой версии добро и зло пребывают вне человеческой особи и борются за нее всеми доступными им средствами.
В обеих версиях неизменно то, что особь является единственной законной владелицей тела и оказывается если не жертвой, то уж, во всяком случае, пассивным соучастником. После истории со стоп-краном мне стало казаться, что тело принадлежит (или даже не принадлежит, а как бы сдается в аренду) сразу двум особям, но не близнецам-двойникам, а скорее наоборот – антиподам, не обязательно представленным мифическими персонажами. Эти две особи обречены на тесное и склочное сосуществование, более похожее на холодную войну, чем на горячий мир, внутри совместно пользуемой, но неточно размеченной территории одного тела. Я понял, что я – это я, а он – это он. А еще я понял, что по отношению ко мне он – несмотря на всю похожесть и близость – иной, прочий, другой. Соперник, неприятель, враг.
2
Во второй раз он проявил себя в Америке. На протяжении почти пяти лет все мои путешествия в Америку были на редкость однообразны. Я летел из Парижа в Лос-Анджелес с пересадкой где-нибудь на восточном побережье (Шарлотвиль, Питтсбург или Детройт) и тратил на этот перелет часов девятнадцать-двадцать. То же самое происходило и на обратном пути. То, чему было посвящено время между прилетом и отлетом, не имеет, как мне кажется, прямого отношения к этому рассказу, а посему должно быть опущено. Единственное, что можно и даже нужно сказать о цели поездки, так это то, что она не была связана ни со шпионско-разведывательной, ни с коммерческой деятельностью. Это важно. Важно и то, что на этот раз я летел из Лос-Анджелеса в Париж в сентябре, через три или четыре дня после всем известных трагических событий.
Средства массовой информации взвинчивали и так неспокойную обстановку, общественное мнение лихорадило, развязывался очередной военный конфликт, названный на этот раз войной. До последнего дня я так и не знал, смогу ли вылететь, так как в первые два-три дня после трагических событий все аэропорты были закрыты, а все рейсы отменены. Лишь накануне я узнал, что мой рейс не отменили и что с целью обеспечения безопасности всем пассажирам следует прибыть в аэропорт за три часа до вылета.
Я уже не раз летал из Лос-Анджелеса в Париж и из Парижа в Лос-Анджелес. Аэропорты в Париже и Лос-Анджелесе не намного веселее, чем вокзалы в Кельне или Бонне: все, разумеется, больше, ярче и громче, но от этого вовсе не радостнее. Разумеется, лучше сидеть в светлом и сухом зале с книгой в руках, чем слоняться по темным переходам и сырым перронам с рюкзаком за спиной. Но и там и сям существуют некая оторванность пространства, зыбкость времени и нудящая тоска. Как правило, аэропорт отдален от города, от земли; это территория закрытая, заказная, зарезервированная, она недоступна просто так, на нее не заступают запросто, не заходят случайно, вдруг, по настроению. Пассажир – человек уже несколько отличный от других, так как он собирается (вопреки всем законам природы) лететь: вроде бы еще на земле, но уже и воздух не такой, и запах другой, и в ушах как-то закладывает, а где-то недалеко что-то куда-то с ревом взмывает.
А международный аэропорт чужд человеку вдвойне: кроме оппозиции земля/воздух здесь существует еще и оппозиция, которую можно было бы назвать родина/чужбина. В международном аэропорту всегда много иностранцев, и все они разные, неодинаковые, но все разрозненные и одинокие: бесцельно слоняясь на этой международной территории, они если не стирают, то все же сглаживают ее национальный характер, однако не придают ей характера интернационального, поскольку никак не сочетаются и не сообщаются между собой. Все они неприкаянные и никчемные. Пассажиры – это люди, которые часами болтаются по аэропорту и по салону самолета, но время от времени устремляются куда-то, делая вид, будто знают, куда устремляются и зачем делают вид.
Итак, зона международного аэропорта не может не казаться подавляющему большинству пассажиров совершенно отдельной, совершенно особенной страной, не похожей на все остальные страны, но зато как две капли воды похожей на все остальные зоны международных аэропортов, предусмотрительно организованных во всем мире. Одинаковые рестораны с одинаковыми меню, одинаковые бары с одинаковыми напитками, одинаковые магазины беспошлинной торговли с одинаковыми товарами, одинаковые информационные стойки с одинаковой информацией, одинаковые экраны с одинаковыми данными, одинаковая реклама с одинаковой навязчивостью и почти одинаковые правила.
Получив сообщение о нововведенном правиле, обязывающем вылетающих пассажиров прибыть в аэропорт за три часа до вылета, я задумался. Если все вылетающие на моем самолете пассажиры прибудут за три часа до вылета, то у стойки регистрации неминуемо соберется длинная очередь: самые послушные пройдут регистрацию сразу и будут три часа ждать в зале отлета; просто послушные простоят один час в очереди на регистрацию и прождут два часа в зале отлета; нерадивые простоят два часа в очереди на регистрацию и просидят один час в зале ожидания. И я решил оказаться умнее всех и – вопреки сделанному предупреждению о прибытии за три часа до вылета – приехал в аэропорт за час пятнадцать, чтобы как можно меньше ждать и на регистрации, и в зале ожидания.
Я быстро нашел свой терминал и свое направление и встал в очередь, которая – как я и предполагал – уже успела уменьшиться до разумных пределов и медленно продвигалась к пункту регистрации по извилистому маршруту, размеченному натянутыми между столбиками лентами. Я медленно продвигался вместе с очередью и заранее томился в ожидании долгой, томительной процедуры проверки билета, затем багажа, затем паспорта с визами, затем прохождения через стойки безопасности и старался не думать о еще более неприятной процедуре специального досмотра и тщательного допроса, требующей от досматриваемого и допрашиваемого элементарных познаний в английском языке, которых у меня не было. Тут я подумал, что мой английский словарный запас не намного больше словарного запаса языка племени таки-таки из французской Гвианы, который состоит всего лишь из трехсот сорока слов. Мне стало стыдно. Я стыдил себя за лень и нерадивость, очередь медленно продвигалась вдоль натянутой ленты, а мимо очереди время от времени медленно проходили военные и полицейские патрули. Подобные усиленные меры безопасности, введенные из-за трагических событий, лишь нагнетали всеобщую напряженность: мы – люди, собравшиеся лететь, – молчали и смотрели в одну сторону – в сторону регистрационной стойки; они – люди, продолжающие патрулировать, – осматривали нас – людей, собравшихся лететь, – и время от времени переговаривались по рации. Не могу сказать, что я нервничал, скорее, чувствовал себя несколько неуверенно. Зыбко.
Следует также добавить, что в этом терминале, как и во многих других публичных местах Соединенных Штатов Америки, работали кондиционеры: оставив тридцатиградусную жару снаружи, я оказался в пятнадцатиградусной прохладе внутри. А был я в шортах и футболке. За спиной у меня висел потертый кожаный рюкзак, на плече – чужой портативный компьютер, в руке я держал сумку. Через минут пять стояния в этой пусть небольшой, но все же хорошо продуваемой кондиционерами очереди я почувствовал, как меня пробирает озноб. За ознобом последовала дрожь, и тут я понял, что мне не только зыбко, но еще и зябко.
Я открыл молнию сумки, достал из нее рубашку и надел ее. Наверное, именно в этот момент он меня и подменил, поскольку последующие мысли я восстанавливал не по памяти, а по аналогии, логически. Нам было холодно обоим, но кто, как не он, решил, что в этой очереди мы скоро околеем, а значит, утепляться надо прямо сейчас? Это он посчитал, что бежать куда-то, чтобы переодеться, опрометчиво, так как времени остается очень мало и мы рискуем опоздать на регистрацию. Это он посчитал, что джинсы на шорты не налезут, а значит, надо сначала снять шорты, а затем надеть джинсы. Это он вытащил из сумки джинсы. Это он огляделся по сторонам – стоящая сзади американская семья из трех человек (папа, мама, сын) улыбнулась открытой белозубой улыбкой, которую иностранные недоброжелатели предвзято называют дежурной, – и начал переодеваться. Вся операция не заняла и минуты. Я (или, скорее, он) похвалил себя (нас) за оперативность и с гордостью посмотрел по сторонам: стоящая сзади американская семья из трех человек (папа, мама, сын) улыбнулась все той же открытой белозубой улыбкой.
То, что это сделал он, не вызывает у меня никаких сомнений. Сделать это сам я не мог, потому что знал, что делать этого никак нельзя. Ведь я знал, где нахожусь: я находился на территории Соединенных Штатов Америки. И я знал, как в Соединенных Штатах Америки блюдут нравственность и что грозит тем, кто на нее посягает: так, одна молодая мать (иностранка) была оштрафована за кормление грудью младенца в американском городском парке, а другая молодая мать (опять-таки иностранка) – за то, что на американском пляже пустила гулять без трусиков свою четырехлетнюю дочку. Причем полицейский патруль мог проходить мимо этих нарушительниц (иностранок) случайно, а мог быть вызван другими отдыхающими (американцами), возмущенными посягательством на их нравственность. Не исключено, что возмущенные отдыхающие до этого спокойно отдыхали рядом с нарушительницами и улыбались им. Я знал, что эпоха битников уже давно и, судя по всему, безвозвратно ушла: за какие-то сорок-пятьдесят лет Соединенные Штаты Америки превратились в сильнейшую пуританскую империю, где изощренное лицемерие в области морали не просто приветствуется подавляющим большинством населения как нечто желаемое, но мыслится как должное и проживается как действительное. Ведь на частной территории, в приватной обстановке любой гражданин Соединенных Штатов Америки имеет право показывать что угодно кому угодно и даже не задумываться о нравственности. В общественном же месте не думать о нравственности или, точнее, об опасности ее нарушить – нельзя. Я же находился не просто в общественном месте, я находился в международном аэропорту через несколько дней после всем известных трагических событий, то есть в общественном месте, где были развернуты беспрецедентные меры безопасности. И я совершил здесь то, что даже в обычное время квалифицируется как оскорбление нравственности, то есть нарушение общественного порядка, за которое нарушитель-оскорбитель рискует навлечь на себя крупные неприятности…








