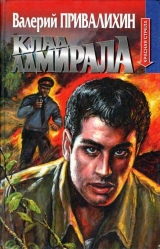
Текст книги "Клад адмирала"
Автор книги: Валерий Привалихин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Хотя – что толку, какая разница: Малышев или кто‑то другой. Докопался, кто такой Виктор Константинович Малышев, – и что получил? Не то ли ждет, если узнает все о Тютрюмове? По горячим следам это что‑то бы да дало. Теперь же слои многих десятилетий еще более надежно упрятали неразгаданные в стародавние даты тайны… Нет, все‑таки весьма важно, кто такой Тютрюмов, кем был до командирства в пихтовском ЧОНе, как кончил жизненный путь. Знание этого что‑то существенное дало бы… Он, конечно, выберет удобную минуту, спросит у Лучинского об убитом в 1969 году, обнаруженном в лесу под Пихтовым родственнике Малышева. Но, похоже, Лучинский слыхом не слыхивал об этом. Да и не из серии ли поздних легенд о колчаковском кладе этот убитый родственник и распиленный слиток царской маркировки?.. Не исключено.
Может, ответит на письмо съехавший из Пскова на историческую родину в Балтию внук красного латышского стрелка и заместителя командира Пихтовской части особого назначения Айвар Британс?
– Тетрадки с мемуарами, если интересуетесь, можете взять. Мне они не нужны, – прервал ход мыслей Зимина художник. Секунду погодя, прибавил: – Но все равно с возвратом.
Лучинский много говорил о своей родословной, показывал фотографии, открытки, удостоверения, мандаты, ордена еще с двух‑ и трехзначными выбитыми на них номерами, железнодорожные билеты вагона первого класса, с которыми ехала в царскую ссылку Ольга Александровна. Три билета. Положено было сопровождение двух стражников, а она не соглашалась мотаться в захудалом вагоне четверо‑пятеро суток, и ей за свой счет пришлось брать такие же, как и себе, билеты для охранников…
Зимин слушал и не слушал. Разговор подзатянулся, и хотелось, чтобы встреча закончилась поскорее. Поэтому он обрадовался, когда, кинув взгляд на часы, художник извинился. Они еще непременно увидятся, а сейчас ему пора на вокзал к поезду, встретить приятеля. Время есть, он подбросит Зимина до дому.
С неделю Зимин не прикасался к малышевским тетрадкам. Был занят. Да и что нового мог почерпнуть из них? Нравы, обычаи тридцатых‑сороковых годов запечатлены, писаны в огромном количестве очевидцами, участниками событий, в том числе и самими бывшими сотрудниками высокого ранга того ведомства, где служил Малышев. Разве что у Малышева отыщутся дополнительные неизвестные штрихи.
Однако необходимость возвращать владельцу дневник подтолкнула‑таки Зимина взяться за старые тетрадки.
Вяло пролистал от конца к началу одну, другую. Положил. В какое‑то мгновение почудилось: среди записей промелькнула знакомая фамилия – «Тютрюмов». Даже не запомнил, в какой из тетрадок. Попытался быстро найти – не получилось. Тогда начал читать тетрадку под римской цифрой «II» с самого начала. Внимательно. Строчку за строчкой…
ИЗ ДНЕВНИКА ПОЛКОВНИКА НКВД МАЛЫШЕВА в. к.
4. XI.35 г.
Вчера получил орден. Не ожидал. Всего полгода назад, в апреле, Ягода вручил мне о. Ленина. И вот – очередной. Вернее, внеочередной. Красного Знамени. Опять вручал Ягода. Кроме наших, были и два наркоминделовца.
Дома о событии не сказал: Даша, конечно, узнает, но пусть не сейчас, ей сейчас с больной сестрой хлопот вдосталь, а все знаки внимания ко мне на службе ей в последнее время кажутся не к добру. Сам не знаю: к чему этот орденский дождь на меня, но нынче, как говорится, «служу трудовому народу».
Даша с Алексашкой уехали опять на весь вечер к Дашиной сестре, а я отпустил домработницу, переоделся в форму и, прежде чем привинтить новый орден – теперь их четыре: Ленина, и три Знамени, – долго стоял у зеркала в коридоре. Потом нашла такая блажь: снял все награды, разложил на столе в рядок и сидел перед ними, как нумизмат перед коллекцией, вертел в руках. Все ордена как вчера изготовленные – сияют. Лишь на самом первом полученном отбит крохотный кусочек эмали. Даша уронила на пол – и откололся.
Вспомнилось, за что получил этот первый орден.
В девятнадцатом, особенно в начале девятнадцатого, положение наше на Восточном фронте было аховое. После белого Урала последовали белые Уфа, Ижевск, Глазов… Нужно было срочно отвлечь части колчаковцев, организовать крестьянские восстания и партизанское движение в их глубоком тылу. В первую очередь в Мариинске, Тайшете, в Минусинско‑Красноярском районе. Легко сказать. Там плодороднейшие богатейшие земли и рыбные реки, зажиточное набожное крестьянство с патриархальным укладом и почти сплошь – царисты. Своих людей у нас там было мало. Но все же были. Один из них, Петр Щетинкин, особенно тянул на народного вождя. Из низов, из рязанских крестьян. В германскую дослужился до штабс‑капитана, получил Георгия всех степеней. Он уже вкусил власти, возглавляя в Ачинске ЧК. Смекнул, что у нас быстрее сделает карьеру, ушел партизанить в тайгу и сколотил приличный боеспособный отряд. Целое соединение. Но нужно было помочь ему: организовать движение в верном направлении, а главное – возбудить население против колчаковцев так, чтобы тыл сделался передовой для противника. Нужны были деньги, листовки, агитаторы, наша работа .
До сих пор, как «Отче наш…», помню воззвание, призванное обеспечить в колчаковских прочных тылах наш успех, составленное якобы Щетинкиным:
«Миряне!
Любовь к Родине и Отечеству подскажет вашему сердцу тот путь, который один только может вывести многострадальную матушку Россию из тех тяжелейших испытаний, которые выпали на ее долю в настоящее время.
Пора кончать с разрушителями России, с Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского.
Надо всем встать на защиту поруганной Святой Руси и Русского народа.
Во Владивосток приехал уже Великий Князь Николай Николаевич, который и взял на себя всю власть над Русским народом. Я получил от него приказ, присланный с генералом, чтобы поднять народ против Колчака.
Ленин и Троцкий в Москве подчинились Великому Князю Николаю Николаевичу и назначены его министрами.
Призываю всех православных людей к оружию.
За царя и Советскую власть!»
Ничего не изобретал, составляя листовку, пользовался наработками декабристов. Не знаю, что уж втолковывали они своим солдатам, выводя на Сенатскую площадь, только солдаты выступали «за Великого Князя Константина и жену его Конституцию». Ну а я по проторенной дорожке произвел для сибирских крестьян Ленина и Троцкого в великокняжьи министры.
Сработало тогда на удивление безотказно. Ненавидящие нас крестьяне взапуски принялись помогать В. Кн. Ник. Ник. и «министрам». К Щетинкину потекли обозы с оружием, едой, одеждой. Валом повалили крестьянские парни. За считанные недели нелепая бумажка превратила незыблемый белый тыл с гигантской территорией в активный красный партизанский район, где на единственной коммуникации, железной дороге, литерные Колчаковы эшелоны с оружием замирали перед сожженными деревянными мостами, перед скинутыми с полотна рельсами либо терпели крушение, падая десятками с откосов.
Все шло по плану. Оправдывая расчет наш, бессильные охранять весь путь среди тайги, белые и чехи срывали зло на местном населении: пороли и сжигали их дома целыми деревнями. А кипы наших листовок были уже наготове: видите, русские крестьяне, что такое Колчак и как он вместе с нанятыми прислужниками‑чехами относится к русскому народу?.. Я был тогда в Минусинском и Ачинском уездах, вращался часто среди крестьянских погорельцев, и было стыдно, глядя в их честные, несчастные глаза, думать, что все это замыслено, разработано, устроено мною лично…
А вот это вчера полученное из рук Ягоды Красное Знамя, можно сказать, непорочный, ангельски чистый, честный орденок в сравнении с прежними. Правительство решило обратиться к бывшим гражданам Российской империи с предложением рассекретить спрятанные перед бегством за границу ценности. За приличное вознаграждение показать, где клад, и уехать обратно с деньгами в иностранной валюте. Наше с НКИДом дело было, да, собственно, по сей день и остается – выявить через агентов, к кому за границей обратиться, уточнить, кто не успел ничего вывезти, перекинуть состояние на зарубежные счета. География кладов – вся страна, хранители тайны их нахождения – по всему свету. Основное, конечно , – Европа: Югославия, Франция, Польша, но и Америка, Китай, Япония, Австралия – много. Даже в Африке на нескольких вышли. Работка больше нудная, чем сложная. Зато результат – стоит игра свеч. Ни одному стахановскому прииску, ни золотому, ни алмазному, не угнаться. А в кладах еще и произведения искусства попадаются – дороже всяких камней и золота… Потому и два ордена за неполный год… А Тютрюмов, А. М., о своих таежных сокровищах как молчал, так молчит по‑прежнему. Ладно, если нравится. Пока не до него. Лесу много, пусть себе валит. Хотя нужно распорядиться убрать его с лесоповалов. А то вдруг задавит ненароком…
Вот! Зимин прервал чтение. Не ошибся, не почудилось, когда листал тетрадки: точно мелькнула фамилия человека, которым интересовался. Несколько смущали, правда, инициалы. Бывшего командира Пихтовского ЧОНа звали Степаном, отчество неизвестно, но начальная буква отчества – «П». И все‑таки это о том самом Тютрюмове, застрелившем на становище Сопочная Карга секретаря Пихтовского укома Прожогина и флотского старшего лейтенанта Взорова. Без сомнения. Тютрюмов – фамилия редкая. Чтобы еще был и однофамилец, к тому же причастный к таежным сокровищам, – нет. Исключено. И значит, верно, не подвела память пихтовского долгожителя Егора Калистратовича Мусатова: жив был его командир в конце 1920 года. И пятнадцатью годами позднее, в тридцать пятом, тоже оставался в добром здравии. Где‑то в лагерях, на лесоповале, но жив. И о нем, как не в пример о других, помнили высокие чины аж на самой Лубянке. И лагерное начальство, где находился, валил лес Тютрюмов, регулярно о нем докладывало наверх…
Зимин думал так, продолжая внимательно изучать дневниковые записи. Было интересно, поглощал страничку за страничкой, попривыкнув к почерку Малышева, как захватывающий детектив. Однако речь вперемежку со скупыми упоминаниями о жене, сыне, сослуживцах, – о другом, о других делах.
В одном месте, где записи никак не были связаны с Сибирью, Зимин невольно задержал внимание, прочитал дважды:
…Встретил на Самотеке Шуру. Даже не верится, как давно не виделись. Когда в шестом году мой отец поставил условие: или я порываю с революционерами и уезжаю из России учиться в Сорбонну, или он не знает меня, не помогает мне, а нужны были деньги на подпольную типографию, – утонули родители Шурки, и она почти все наследство передала на типографию. Я ее сделал нищей, фактически ограбил, предал потом, уйдя к Даше. И Шура ни‑ког‑да не бросила слова упрека после. Только попросила не напоминать о себе, забыть, что у нас – дочь… Судить по одежде, Шура не бедствует. Постарела заметно. Я окликнул ее в толпе, и она узнала меня. В глазах ее вспыхнули испуг, неприязнь, гнев; она отшатнулась и ускорила шаги. Догонять было бессмысленно – она все равно не стала бы говорить…
Вот кто – дети от первого брака полковника госбезопасности Малышева. И, значит, дети их детей могли быть посвящены в тайну пихтовского клада. Один из них мог приехать в шестьдесят девятом году на станцию Пихтовую и там погибнуть. Вполне допустимо. Что гадать? Проще спросить о первой семье Малышева у нынешнего владельца дневника – художника Лучинского.
Дочитывая очередную, третью, тетрадку, Зимин уже убедил себя, что о командире Пихтовской части особого назначения из дневника малышевского он больше сведений не почерпнет… И вдруг последовала запись, датированная 29 июля 1936 года:
Сегодня рано утром из Новосибирска приехал в Пихтовое. Можно было выйти в Пашкино. Оттуда до бывшей лесной Муслимовской дачи ближе, всего тридцать километров, в то время как от Пихтового все полета наберется и дорога разбита. Однако Тютрюмов сказал, что ему легче сориентироваться, если добираться от Пихтовой. Тут уж его воля – закон.
Я в Пихтовой был впервые в гражданскую, сразу как выбили со станции колчаковцев. Торчащие печные трубы на месте сгоревших изб, пути, сплошь забитые вагонами и обледенелыми промерзлыми паровозами, трупы людей и конские уже не воспринимались. Это был общий тогда железнодорожный заупокойный пейзаж, тянувшийся чуть не сплошь от самой адмиральской столицы. Огромный и ненужно красивый среди царящей разрухи, пустой и холодный, как склеп, вокзал да изящная златоглавая кирпичная церковка – всего‑то и запало в память от Пихтового.
Теперь церковка при станции была обезглавлена и обнесена высоким глухим деревянным забором. А вокзальное здание оказалось на удивление ухоженным.
Тютрюмов, вышедший в сопровождении двух оперуполномоченных следом за мной из вагона, тоже с интересом оглядывался. Он не был здесь столько, сколько и я.
Я не собирался задерживаться в Пихтовой ни лишней минуты.
Три «эмки», весь, наверно, наличный парк легковушек в этом городке, ждали нас за углом, и через час, проехав через деревушку Кураново, прибыли на колхозную конеферму. Дальше проезжей дороги нет. Только верхом на лошадях по тропе в заболоченном лесу можно пробираться.
Позавтракали и переоделись, пока готовили верховых лошадей, и тронулись в путь. Сразу окунулись в заболоченные пихтачи, где, верно, не только машине не пройти, но и всадникам без проводников не пробраться: их роль выполняли местный лейтенант‑чекист и майор‑сибулоновец.
К полудню выехали к часовне. Тютрюмов не просил перед поездкой карту, полагался на память. Я на всякий случай прихватил дореволюционную десятиверстовку этого района. Бревенчатый островерхий домик с крестом на макушке значился на ней как часовня во имя святого великомученика целителя Пантелеймона.
Конечным пунктом путешествия по тайге Тютрюмов называл лесную Муслимовскую дачу. Не нужно было и взглядывать лишний раз на карту, память пока не подводила Тютрюмова: до Муслимовской дачи всего‑то два километра. Может, чуть‑чуть больше.
– Разрушили бы давно. Но от дождя, ветра укрываться в ней хорошо, – по‑своему оценил мой взгляд на часовню и принялся оправдываться майор‑сибулоновец.
– Да и кто видит ее тут , – поддержал лейтенант.
– Ориентир хороший , – неожиданно подал голос молчавший весь путь Тютрюмов. Говорить время от времени при посторонних нейтральные слова, фразы ему не воспрещалось, и он воспользовался этим правом.
Лейтенант и майор посмотрели на него с благодарностью, закивали. Я на перроне вокзала Тютрюмова им никак не представил; перед поездкой в Сибирь ему придали приличествующий появлению на людях вид, заставили сбрить бороду, сделали недурную прическу, одет он был, как я, в штатский костюм, и лейтенант с майором наверняка считали его в нашем квартете если и не равным мне, то во всяком случае выше по рангу, по званию, чем оперуполномоченный.
Меня меньше всего занимали и часовня, и кто за кого Тютрюмова принимает. Думал: Тютрюмов не знает, что лесной Муслимовской дачи больше не существует, на ее месте лагпункт. Когда устраивал тайник, обязательно оставлял свои заметки, знаки. Если они убраны, срыты при строительстве лагеря, может получиться, что при самом огромном желании отыскать нужное место Тютрюмову не удастся, уедем ни с чем из этих наполненных тучами комаров дебрей…
Последние строчки Зимин читал, что называется, на нервах.
Ясно было: полковник госбезопасности Малышев описывал свою шестидесятилетней давности поездку вместе с Тютрюмовым по тем самым местам, по той дороге, где он, Зимин, буквально полтора месяца назад проезжал с конюхом Засекиным, следуя на пасеку, на Подъельинческий кордон.
Но не это, конечно же, держало в напряжении. Заключительные строчки малышевских записей в тетрадке под номером «III» утекали с неостановимой быстротою, как тоненькая струйка песчинок в песочных часах. И он боялся, что в последней, в четвертой тетрадке не окажется продолжения записей о поездке Малышева и Тютрюмова, судя по всему, в концентрационный лагерь «Свободный», останется навсегда загадкой цель этой поездки.
Боялся напрасно. Продолжение было.
29. VII.36 г.
От Муслимовской лесной дачи не осталось и следа. Ни избы лесника, ни хозяйственных построек при ней, ни единого деревца. Огромная площадка с вереницей приземистых зарешеченных бараков. Все, что было прежде, точно выбрито. Словно кто‑то предвидел, что потребуется определить, где здесь стоял дом лесничего, и стер все следы… На самом же деле никто ничего не заметал: все дотла сгорело еще до того, как намечали расположить тут лагпункт.
Тютрюмов не узнал местности. Показал ему карту – тоже бесполезно. Ему можно верить. Единственная надежда теперь – бывший лесничий Муслимов. Начальник лагеря подсказал насчет Муслимова. Он жив, обретается в глухой деревушке около Пашкино. Тридцать лет здесь провел, должен что‑то помнить. Немедленно распорядился послать за ним. Однако даже если сразу найдут бывшего лесничего, все равно сегодняшний день потерян.
Отправив легковушку и полуторку на поиски Муслимова, я почти тут же пожалел, что не поехал сам. Все бы не торчать здесь, не кормить гнус.
Майор‑сибулоновец не нашел ничего лучшего, как предложить осмотреть лагерь. Совсем было хотел отказаться, как вдруг вспомнил, что в «Свободном» заключенные почти сплошь по делам первой категории. Совсем немного – по второй и третьей. И ни одного – по другим. Спросил: нет ли в лагере знаменитостей. Вопроса такого как будто только и ждали. Знаменитостей из социально чуждого элемента хоть отбавляй, но самые интересные – Петр Корнилов, брат известного царского генерала, и бывший колчаковский генерал Анатолий Пепеляев.
Пепеляева, сказали, я увижу чуть позднее, его приведут. (Майор‑сибулоновец сделал при этом знак начальнику по режиму.) Петр Корнилов же – рядом, в лазарете. Уронил себе на ногу кирпич и отдыхает.
Через несколько минут я стоял у кровати, на которой лежал брат знаменитого мятежного генерала. Несмотря на большую разницу в возрасте – на сегодняшний день – и годы лагерей, способные стереть даже близнецовое внешнее сходство, Петр Корнилов оставался копией брата. То же скуластое, азиатского типа лицо, глаза с косиной, упрямые губы.
Невольно, глядя на брата Лавра Корнилова, я перенесся мысленно на Кубань, в Екатеринодар; вспомнились события почти двадцатилетней давности, когда все это еще только начиналось и исход, чья возьмет, был неясен. В конце марта восемнадцатого года кое‑как пробрался я в Екатеринодар. По слухам, Ванька Сорокин, вступив в город, чинил там резню, грабежи и расстрелы, по размаху не поддающиеся никакому воображению. Имея личное задание Свердлова и Феликса, я должен был, приехав в Екатеринодар, ни во что не вмешиваясь, сделать доклад в Центр – подтвердить или опровергнуть слухи. Как раз в те дни Корнилов рвался к Екатеринодару и точно бы взял его, когда б в предместье, у станицы Елизаветинской, не был убит шальным снарядом. Корниловцы похоронили своего командира и отступили. Какой‑то дегенерат, может сам Сорокин, велел выкопать мертвого Корнилова и на траурных дрогах, которые тянули разубранные, точно на свадьбу, по‑праздничному лошади с алыми лентами и яркими цветами в гривах, возили генеральское тело по мощенным брусчаткой улицам кубанской столицы на потеху полупьяной солдатской толпе, пока была охота. Потом разложили в центре города костер и сожгли тело вместе с телом какого‑то подполковника, тоже извлеченного из могилы. Помню, как сейчас, меня чуть не стошнило, когда я стоял у инквизиторского костра, глядел в распухшее, уже тронутое тлением монголоидное лицо генерала, недавнего Главковерха. Нет, я никогда не симпатизировал Корнилову, изначально мы были врагами, но я не мог не отдавать должного этому образованнейшему крестьянину‑генералу. Все‑таки хотя бы того, чтобы захороненное тело его не тревожили, он заслужил…
Мне нечего было сказать старику, генеральскому брату, незачем было с ним и встречаться.
Выйдя из лазарета, подумал, что и с Пепеляевым свидание – лишнее. Но его уже вели мне навстречу.
Прежде мне не приходилось видеть генерала Пепеляева, хотя, когда в гражданскую войну я работал в белом тылу, раза три мы точно оказывались рядом – в одном городе, в одном эшелоне, в расположении одной части. В лицо его я знал. По портретам в газетах, на листовках и воззваниях. В восемнадцатом – девятнадцатом годах портреты его печатались часто, чаще, чем даже адмирала Колчака, особенно после его успехов на Урале, взятия Башкирии, Глазова. У него тогда было красивое лицо бравого мальчишки‑новобранца. Да он и был тогда по возрасту мальчишкой. Пять лет непрерывной войны принесли ему генеральские погоны и гроздь орденов на грудь, но не вывели из естественного природного возраста.
Время и тяжелая жизнь изрядно изменили Пепеляева, стерли сходство с портретами поры его полководческой славы. Не уверен, что я бы узнал его, если бы он сам не назвал своей фамилии. Тот цветущий парень в генеральском мундире – и этот седой человек с глубокими морщинами на лице, в замызганной робе…
Я сказал Пепеляеву, что в гражданскую воевал против него, именно против его Первой Сибирской армии. Он не полюбопытствовал, кто я, когда и где это было, ответил: «Возможно» – и посмотрел на меня вопросительно: что дальше? У меня были к нему вопросы: когда всё было проиграно и его вышибли за границу, кой черт понес его обратно в Россию – освобождать якутскую тундру и льды полярных морей? И еще хотелось услышать от него, почему потом, когда был пленен, не улучил момент, не свел счеты с жизнью бывший боевой генерал – и довольствуется прозябанием. Может, спросил бы, будь мы один на один. Впрочем, что спрашивать. Особенно про желание – как угодно, но жить. Тютрюмов чем в этом отношении лучше? Конечно, не чета Пепеляеву. Но тоже ведь – такая бурная боевая молодость. Чего стоят только эксы – миасский, верхисетский, невьянский… Перестрелки, погони, побеги, роскошная жизнь за границей. И вот. Готов торговаться за каждый год, месяц, день жизни.
Я приказал увести Пепеляева. Сам отправился отдыхать в гостевой флигелек – обыкновенную деревенскую избушку с застланным половиками полом, с деревянной кроватью, с ходиками на стене и видом из окошек на камышовое озеро.
После верховой езды – а лет десять уж точно не садился на лошадь – ломило все тело, хотелось лечь. Велел не беспокоить, приходить, когда только привезут лесника…
Запись от 29 июля на этом обрывалась, следующая была датирована 31‑м числом того же месяца. Зимин на минуту дал отдых глазам. Все‑таки он не ошибся, верно определил по рассказу пихтовского почетного гражданина: участвовал Степан Тютрюмов в экспроприации на станции Миасс. Еще раз тщательно нужно просмотреть миасское дело. Заодно и другие, упоминающиеся в малышевском дневнике.
31. VII.36 г.
Муслимова доставили утром. Я объяснил ему, что от него требуется, и он сразу закивал: постарается, мол. От меня не ускользнуло, как бывший лесник вздрогнул, взглянув на стоящего среди военных Тютрюмова. Кажется, он даже заколебался, подойти или нет. Огляделся вокруг. Потом принялся ходить, смотря себе под ноги, делая широкие круги. Тщедушная, изогнутая в наклоне стариковская фигурка время от времени застывала на месте. Снова он шел и снова останавливался. Присел на корточки перед торчащим из земли пеньком. Из кармана пиджака вынул пачку папирос, положил на этот пенек. Вскоре неподалеку нашел еще один. И его, диаметром помельче, пометил, воткнув рядом прутик. Сделал шагов пятнадцать‑семнадцать в сторону строящегося брусового дома – клуба, как объяснил мне начальник лагеря, – и замер: тут был порог его исчезнувшего дома. Как определил? Пенек, на который положил папиросы , – остаток березы, на сук которой набрасывал уздечку, покидая дом или возвращаясь домой. Много лет, часто по нескольку раз на дню, проделывать путь от двери дома к березе – любой расстояние запомнит. Теплые искорки каких‑то личных воспоминаний мелькнули при этом в глазах у Муслимова. Мгновенно испуг пришел им на смену, когда я попросил указать еще и место, где был колодец. Уточнил: тот колодец, которым пользовался до двадцатого или до двадцать первого года.
Старый лесник опять посмотрел на Тютрюмова. Перехватив взгляд, я понял: приехали не зря. Тютрюмов сдает золото, и покоится оно, целехонькое, здесь, на дне замурованного колодца…
С той же легкостью Муслимов указал местонахождение пропавшего колодца. Как только солдаты лагерной охраны приступили к раскопу и, уже стоя по грудь в яме, наткнулись на колодезную клеть, я принялся за допрос старика. Он не путался, не врал, все совпадало. Тютрюмов нагрянул к нему, как раз когда «потерялся» на десять дней после событий на Сопочной Карге. Ровно шестнадцать лет назад. 26 или 27 августа. На рассвете. Один. На коне и с двумя навьюченными грузом лошадьми. Самолично сбросил два металлических патронных ящика – часть груза – в колодец, сказал, что в них – золото. Это государственная тайна. Колодец нужно закопать, о золоте забыть. Ответственность за сохранность золота – по самой чрезвычайной революционной строгости. В чем Тютрюмов взял с него подписку. Старик даже не понял, перед какой властью, старой или новой, в случае чего он будет отвечать. Как командира красного уездного Пихтовского чоновского отряда он Тютрюмова не знал.
Оперуполномоченный Денисов записывал за стариком с недоверчивой ухмылкой. А Мулсимов рассказывал мне все это, как на исповеди, и кажется, не понимал, что отныне и до скончания дней за недонесение властям грызть ему лагерные сухари. Если его вообще не расстреляют…
К обеду колодец был вычищен до дна, банки из‑под патронов, наполненные золотом, подняты на поверхность.
А ближе к вечеру выехали из «Свободного». Через Пашкино до Новосибирска автодорога сносная, и я с большим запасом успевал к ночному курьерскому поезду.
– А ты большой профессионал. Талант. Так запугал старика, – похвалил я Тютрюмова.
Он промолчал.
– Станция, где ты пытался бежать. Где торговку огурцами из‑за тебя ранили, – сказал я, когда проезжали Озерное. Я велел шоферу остановиться на площади возле райкома ВКП(б). Приказал Тютрюмову выйти из машины и подвел его к деревянному памятнику‑тумбе с красной фанерной звездой наверху и надписью «Красный герой командир Тютрюмов С. П. (1890–1920 гг.)».
– Взгляни на свою могилу, – сказал . – Хочешь знать, кто здесь похоронен?
– Кто?
– Кого ты убил на Сопочной Карге?
– Прожогин?
– Он – в Пихтовом.
– Тот офицер? Взоров?
– Ладно. Какая тебе разница. И хватит дурака валять. С нынешнего дня другой отсчет пойдет. День жизни – сто, нет, двести граммов золота. Или – вот … – Я кивнул на облупленный памятник.
– Это на несколько дней.
– Многих переживешь , – перебил я . – Особенно если прибавишь кедровую шкатулку купца Шагалова…
Вот как даже. Бывший представитель Сибревкома полковник госбезопасности Малышев копал глубоко. Знал и о кедровой шкатулке с драгоценностями, попавшей в руки Тютрюмова после уничтожения банды Скобы на Орефьевой заимке. От кого знал? Едва ли бывший командир Пихтовского ЧОНа сам сознался. Скорее всего, Егор Калистратович Мусатов все‑таки рассказал о ней следователю в Новониколаевске. Возможно, услышал от дочери священника Градо‑Пихтовского храма Анны Леонидовны Соколовой, если допрашивал ее. Хотя не исключено, что сведения о шкатулке получены от управляющего делами купца Шагалова, или как его там называли, – доверенного? Да, доверенного Головачева.
Значит, в тридцать шестом году часть колчаковского пихтовского клада уже была изъята, увезена из‑под Пихтового. С территории концлагеря «Свободный». Сколько килограммов, пудов увезено в тридцать шестом? И сколько прежде? Осталось ли вообще в районе станции Пихтовой хоть что‑то из спрятанного в гражданскую золота, помимо пушилинской части?..
Запись о поездке в Сибирь на упоминании о шкатулке купца‑миллионера Шагалова обрывалась. За этот год записей больше не было. Весь тридцать седьмой год и по осень тридцать восьмого дневник не велся. Дальше, вплоть до самой Великой Отечественной, записи были короткие, в несколько строк. Как ни странно, они стали более пространными, хоть и не частыми с началом войны. Зимин выделил среди них одну. Осеннюю. Сорок первого года.
16. IX.41 г.
Вчера возвратился из Орла. Чудом там остался жив. И в том, что случилось, отчасти моя вина. Мы въехали в город как раз с началом сильнейшей бомбежки. Сидевший за рулем капитан Денисов не знал дороги к тюрьме и, меня не предупредив об этом, зачем‑то выехал к мосту через Оку. Я в это время еще раз просматривал переданные мне Кобуловым бумаги и не следил, как едем. Когда же взглянул, мы стояли у въезда на мост. Спереди, сзади, с боков нас подпирали машины, подводы, беженцы с груженными скарбом тележками. Образовалась пробка в несколько тысяч человек. А немецкие самолеты уже заходили на бомбежку, сыпались бомбы. Попробовал открыть дверцу, выйти – бесполезно: другая машина сбоку впритирку. Денисов растерялся, сдуру пробовал дать обратный ход. И его дверца зажата. Мы оказались как муха в янтаре. Вот‑вот новая стая самолетов должна была появиться. Рукояткой пистолета попытался разбить ветровое стекло. Слабо. Крикнул Денисову, чтоб бил автоматом. Он все давил на газ. Сам взял автомат, прикладом высадил стекло, вылез из кабины. Потащил за собой Денисова, он вцепился в руль, как припаялся. Удар в скулу рукояткой пистолета его отрезвил, он отпустил руль, и я буквально выдернул его из машины. С капота видно было, где легче выбраться из пробки. Устремились туда, где людское кольцо реже. Денисов уже владел собой, шел сам и прокладывал путь мне, распихивая людей. Успели вылезти из толпы до того, как вторая волна бомбардировщиков накрыла пробку… Кругом были раненые, трупы. Горел мост; дымились воронки на месте, где минуту назад метались люди и где застряла наша «эмка» и машина, стоявшая к ней впритык. Большой кусок кузова грузовика с номерным знаком, груженая телега с обломком оглобли, деревянный сундук плыли по спокойной, в желтых листьях Оке… Радоваться, что для нас обошлось, было некогда. Забрав подвернувшийся грузовик, сам сел за руль, доехали до централа.
Начальник местного УНКВД и начальник тюрьмы были предупреждены о моем приезде. Обоих застал в тюрьме. Московская группа особистов‑оперативников здесь уже работала. Начальник УНКВД доложил, что к вечеру операция закончится, его люди действуют в контакте с москвичами. Почти половина, 76 человек, уже ликвидированы. Их сажают после объявления приговора в крытые бронированные машины и увозят в Медведевский лес, это недалеко от города, по дороге к Мценску. Там, в местах, где зарывают расстрелянных, деревья выкопаны с корнями. На месте выкопанных деревьев вырыты могилы. После того как всех расстреляют и захоронят, деревья будут возвращены на место. Как будто ничего и не происходило. Лес, само собой разумеется, оцеплен…








