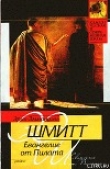Текст книги "Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер"
Автор книги: Валерий Иванов-Смоленский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
Значения некоторых слов, встречающихся в реминисценции
Авторитет (блатн. жаргон) – представитель высшей группы в неформальной иерархии преступного мира.
Агнозия (медицинск.) – нарушение процесса восприятия.
Акведук – сооружение в виде моста с водоводом.
Аквила – военный знак в виде орла в Риме.
Акция – жалоба, частный иск в римском праве.
Анналы – ежегодная запись событий.
Арамеи – представители семитских племен.
Ариане – сторонники учения пресвитера Ария.
Асс – римская медная монета.
Баклан (блатн. жаргон) – слово, имеющее крайне презрительный оттенок.
Беспредел (блатн. жаргон) – беззаконие, «беспонятие».
Блатной (блатн. жаргон) – представитель высшей группы заключенных, преступник, живущий «по понятиям»).
Борисфен – древне-греческое название реки Днепр.
Ботать по фене – разговарвать на жаргонном языке.
Булла – римский футляр для амулета.
Бушприт – наклонный брус, выступающий за форштевень парусного судна.
Вертухай (блатн. жаргон) – надзиратель.
Всадник – представитель знатного сословия с высоким имущественным цензом.
Всесоюзный Бур (блатн. жаргон) – Усольское управление лесных лагерей, расположенное на Северном Урале, отличавшееся крайне жестким режимом, куда помещались неисправимые заключенные, находящиеся в «полной отрицаловке».
Вульгус – сброд.
Галлы – римское название кельтов, населявших Францию и Северную Италию.
Гаста – копье.
Геспер – вечерняя звезда.
Гладиус – прямой меч.
Госпитальер – владелец постоялого двора.
Готы – представители основной части германских племен.
Гулевать (блатн. жаргон) – заниматься преступной деятельностью.
Гунны – представители кочевого народа из внутренней Азии.
Денарий – серебряная римская монета, равная 16 ассам.
Дальняк (блатн. жаргон) – лагеря, расположенные на Севере и за Уральским хребтом.
Деперсонализированный синдром (медицинск.) – нарушения восприятия, при котором части своего тела ощущаются качественно измененными.
Децимация – казнь каждого десятого воина.
Дуконарий – высший должностной чин в Риме, присваиваемый, как правило, наместникам императора в провинциях.
Дуумвир – один из двух управленцев в Риме.
Инвектива – письменное обличение какого-либо лица.
Инкунабула – старинная книга.
Институция – установление.
Интердикт – запрещение.
Иррадиация (медицинск.) – разновидность иллюзии.
Каламус – перо для письма.
Калдарий – парилка.
Календа – первый день каждого месяца.
Канал – лагеря в районе строительства Беломорканала.
Карцер – римская государственная тюрьма на восточном склоне Капитолия.
Кассис – римский боевой шлем из металла.
Квадрига – боевая колесница, запряженная 4 конями в один ряд.
Квестор – должностное лицо в судебных и финансовых учреждениях.
Клибанус – военный панцирь, доспехи.
Клюз – отверстие для якорной цепи.
Книги Элефантиды – древнейшая порнографическая энциклопедия.
Когорта – воинское подразделение, численностью от 360 до 600 воинов.
Колония – поселение.
Консул – высшее должностное лицо в Риме.
Конфабуляция (медицинск.) – иллюзия мышления, при которой человек верит в свою выдумку.
Костолом (блатн. жаргон) – оперативный работник НКВД).
Котурны – сандалии на очень толстой подошве.
Кум (блатн. жаргон) – начальник оперативной части ИТУ, тюрьмы.
Курия – здание или место заседания римского сената.
Куриал – римский городской магистрат.
Лабарум – государственное знамя Рима.
Латиклава с широкой пурпурной каймой – одежда высших римских сановников.
Легат – назначаемый римским сенатом правитель провинции или уполномоченный на правление.
Легион – воинское подразделение, состоящее из 10 когорт.
Ликтор – служитель, сопровождавший и охранявший высших должностных лиц Рима.
Ломать фанеру (блатн. жаргон) – разбивать, растаптывать грудную клетку.
Манипула – низшее боевое подразделение в римском легионе.
Манускрипт – древняя рукописная книга.
Матрона – знатная женщина.
Молох – бог Солнца в древней Иудее.
Мусор (блатн. жаргон) – работник милиции.
Налипушник (блатн. жаргон) – самозванец, выдающий себя за вора в законе.
Наседка (блатн. жаргон) – агент кума или опера, подсаженный в камеру.
Натацио – бассейн.
Никтофобия (медицинск.) – необъяснимый страх ночи, темноты.
Нобилитет – правящая знать в Риме.
Овация – малый триумф.
Оптимат – более знатная часть римской аристократии.
Особняк (блатн. жаргон) – ИТК особого режима.
Паллий – римский мужской плащ.
Паннония – римская провинция, занимавшая часть территорий современных Венгрии, Югославии и Австрии.
Папирус – водное растение, использовалось в древности для изготовления писчего материала.
Патриции – родовая аристократия в Риме.
Пахан (блатн. жаргон) – самый авторитетный блатной в криминальном сообществе.
Пектораль – нагрудное украшение.
Пенаты – домашние боги.
Пергамент – недубленая кожа, выделанная из шкур крупного рогатого скота и свиней, использовалась для письма.
Перо (блатн. жаргон) – нож.
Пилас – круглый или конусообразный головной убор.
Пилум – короткое метательное копье, дротик.
Плебей – представитель беднейших слоев населения в Риме.
Погоняло (блатн. жаргон) – воровская кличка.
Подмасть (блатн. жаргон) – специализация вора.
Подснежник (подснежный вор, блатн. жаргон) – человек прикидывающийся вором для какой-то цели.
Понятия (блатн. жаргон) – система неформальных норм и правил в криминальном сообществе.
Портал – дверь, вход.
Портик – галерея с колоннами.
Правилка (блатн. жаргон) – разбор конфликта между заключенными.
Предъява (блатн. жаргон) – обвинение в компрометирующем проступке.
Пресс-хата (блатн. жаргон) – специальная камера в СИЗО, в которую арестованного помещают для предварительной физической и психологической подготовки другими заключенными.
Префект – римская военная или государственная должность.
Принцепс – первый сенатор в списке, фактически глава государства.
Припотел (блатн. жаргон) – шестерка, несколько более высокого ранга.
Прозелит – приверженец нового вероисповедания.
Проконсул – здесь, наместник провинции.
Прокуратор – уполномоченный римского императора из сословия, не ниже всадников.
Прописка (блатн. жаргон) – обряд введения новичка в тюремное сообщество.
Проскрипции – списки лиц, объявленных вне закона.
Психастения (медицинск.) – расстройство психики, крайняя нерешительность, боязливость.
Релегация – высылка неугодного лица.
Реминисценция – смутное воспоминание, отголосок, обычно результат невольного заимствования автором чужого образа, мотива, стилистического приема. Иногда сознательный прием, рассчитанный на память и ассоциативное восприятие читателя.
Саддукей – представитель религиозно-политической группировки в Иудее, объединяющей высшее жречество, землевладельческую и служилую знать.
Свалить (блатн. жаргон) – совершить побег.
Свояк (блатн. жаргон) – кандидат в воры в законе.
Сенат – выборный Совет старейшин в Риме, высший орган власти.
Серы – (греч., лат.) шелковые люди (китайцы).
Сикомор – дерево из рода фикус, семейства тутовых (библейская смоковница).
Следить за метлой (блатн. жаргон) – не допускать в разговоре оскорбительных, неуважительных выражений.
Стадий – мера длины (600 футов).
Стратум – мостовая.
Сухарь (блатн. жаргон) – заключенный, выдающий себя за блатного или вора.
Тепидарий – теплая баня.
Термы – горячие бани в Риме.
Тибия – римский духовой инструмент.
Тихарь (блатн. жаргон) – заключенный из хозобслуги.
Тога – верхняя римская одежда, кусок шерстяной, как правило, белой, ткани, драпировавшейся вокруг тела.
Триба – сословие граждан Рима.
Трибун – высшее выборное лицо из плебеев.
Трибут – налог.
Триклиний – столовая комната.
Триумф – торжественное вступление в столицу полководца-победителя в Риме.
Трюмануть (блатн. жаргон) – водворить в ШИЗО (штрафной изолятор).
Туника – римская одежда с короткими рукавами, носилась под тогой.
Турма – отряд из тридцати конных воинов.
Тянуть отвес (блатн. жаргон) – отбывать срок.
Угловой (блатн. жаргон) – неформальный лидер в камере, секции, бараке.
УЛИТЛ – Управление лесных исправительно-трудовых лагерей.
Фарисей – представитель религиозно-политической группировки в Иудее, выражавшей интересы средних слоев населения.
Фасция – связанный пучок прутьев с воткнутым в него топориком (знак власти в Риме).
Фибула – застежка, пряжка для скрепления одежды.
Фраер (блатн. жаргон) – человек, не принадлежащий к воровскому миру.
Фрак (блатн. жаргон) – пиджак.
Фракия – историческая область на востоке Балканского полуострова.
Фуфло (блатн. жаргон) – ложь.
Хата (блатн. жаргон) – камера.
Хитон – льняная или шерстяная подпоясанная рубаха.
Хламида – плащ, обычно надевающийся поверх хитона.
Хозяин (блатн. жаргон) – начальник ИТУ, тюрьмы.
Хребиловка (блатн. жаргон) – несерьезно, детство.
Цветной (блатн. жаргон) – вор в законе, урка (в 30-50-е годы).
Цезарь (кесарь) – титул римского императора.
Целла – помещение в здании.
Центурия – войсковая единица, состоящая из ста воинов.
Цеховик (блатн. жаргон) – хозяйственник, арестованный за расхищение социалистической собственности.
Цирик (блатн. жаргон) – конвойный.
Черная Маруся (блатн. жаргон) – закрытый фургон с одиночной клеткой для перевозки осужденных к смертной казни.
Шерстяной (блатн. жаргон) – заключенный, выдающий себя за блатного.
Шконка (блатн. жаргон) – койка.
Шмон (блатн. жаргон) – обыск.
Щука (блатн. жаргон) – опытный, проницательный следователь.
Эдикт – указ.
Эдил – римское должностное лицо городского магистрата, занимавшееся управленческой деятельностью в определенной области.
Эллинисты – приверженцы синтеза греческой и восточной религий.
Эпистула – письмо.
Эрарий – римская государственная казна.
МИФ, СВИДЕТЕЛЬСТВО И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Роман В. Иванова-Смоленского «Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер»
…Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
Б. Пастернак. Гефсиманский сад
Художественная рецепция этико-эстетических ценностей, переживших столетия и даже тысячелетия, иными словами – мифологии и литературной классики, предпринималась на всех этапах развития мирового искусства слова, включая ХХ век. Что касается рубежа ХХ—ХХI столетий, названная тенденция, очевидно, не только не утрачивает своего значения, но и становится одной из определяющих слагаемых творчества многих конкретных писателей разных стран и литературного процесса в целом. Причин тому немало; среди существеннейших из них следует выделить потребность человека, переживающего ситуацию безусловного мировоззренческого кризиса и рушащейся ценностной иерархии, в некой более или менее прочной нравственно-философской опоре, своего рода гаранте стабильности. Таковым сегодня, как и прежде, справедливо видится духовное наследие – живое воплощение связи времен и поколений.
Разумеется, в ряду разнообразных мотивов обращения современных авторов к культурной традиции чрезвычайно важны и мотивы собственно эстетические, поиски новых художественных возможностей изображения человека и мира. Ведь всякое талантливое, творческое освоение наследия сулит новые открытия – не только и не столько даже в самом наследии, сколько в современной писателю действительности.
Вряд ли необходимо доказывать, что особенно притягательными для художников слова были и остаются произведения литературы, в той или иной степени основанные на материале Книги книг. «Библия – бесконечность», – очень точно сказал в свое время российский философ В. Розанов; посредством содержащихся в ней образов и сюжетов все новые авторы стремятся придать своим повествованиям обобщеннно-символический, предупредительно-прогностический смысл, пытаются помочь современникам сопоставить личный духовный опыт с общечеловеческим, с праопытом.
Именно в русле художественного осмысления русской классики создал свою новую книгу белорусский русскоязычный писатель Валерий Иванов-Смоленский.
В. Иванов-Смоленский, член Союза писателей Беларуси (его настоящее имя – Валерий Григорьевич Иванов; по роду деятельности – юрист-практик с более чем 30-летним опытом работы в органах прокуратуры, коллеги отзываются о нем как о профессионале высочайшего класса), достаточно хорошо известен отечественному и российскому читателю своими остросюжетными книгами «www. оборотень. ru», «Записки кладоискателя», «36 часов из жизни прокурора», «Капкан для оборотня» о содержании которых говорят сами названия. Новый роман В. Иванова-Смоленского «Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер» (2007) представляет собой художественную интерпретацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова – книги, которая не только во многом основана на мифе, но и сама давно стала своеобразным мифом, полным тайн и загадок.
Как известно, над романом «Мастер и Маргарита» М. Булгаков работал с 1928 по 1940 г., то есть до конца своих дней. Работал, находясь в тяжелейшем моральном, физическом и материальном состоянии, обусловленном многими факторами – разлукой с братьями, «сердечной тоской» по ним; смертью писателей Е. Замятина и И. Ильфа, принадлежавших к не слишком широкому кругу его друзей; беспросветным одиночеством и элементарной нищетой; главное же – запретом на публикации и постановки (игрались только «Дни Турбиных»), чудовищной травлей, обвинениями в «реакционности», «бездарности», «убогости», «посягательстве на советский строй». 27 марта 1929 г. Е. С. Булгакова делает в дневнике запись: «Положение наше страшно», а спустя ровно год, 28 марта 1930 г., М. Булгаков в адресованном правительству страны письме, помимо прочего, с горечью констатирует: «…я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных – было 3, враждебно-ругательных 298». Семью годами позже он напишет: «Сейчас сижу и ищу выхода, и никакого выхода у меня, по-видимому, нет… За семь последних лет я сделал шестнадцать вещей разного жанра, и все они погибли. Такое положение невозможно, и в доме у нас полная беспроглядность и мрак». Вопреки неимоверным усилиям писателя («Дописать раньше, чем умереть»), роман остался незавершенным. 26 лет хранился он в бумагах М. Булгакова, прежде чем в 1966–1967 гг. был опубликован журналом «Москва» в сопровождении статей К. Симонова и А. Вулиса.
Книга В. Иванова-Смоленского «Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер» и выросла, по собственному признанию автора, из желания попытаться проникнуть в тайну замысла великого предшественника и, в связи с этим, «построить несколько иную версию изложения евангельских списков». То, что именно библейская, евангельская линия булгаковского произведения увлекла нашего современника, – неудивительно, поскольку, по мнению большинства литературоведов и писателей, исследователей и почитателей творчества М. Булгакова, как раз она является самой яркой, самой впечатляющей частью незаконченного, во многом несовершенного, неотшлифованного, но при этом гениального романа «Мастер и Маргарита». Об этом, в частности, писал о. Иоанн Шаховской в своем предисловии к первому русскому изданию книги в Париже (1967); высоко оценивая эпику ее «современных», «московских» страниц, он тем не менее замечает: эта книга – «не только обличение бесчеловечия обывательского. В центре ее встает очистительная гроза над Голгофой, входящая на ее страницы внутренней повестью о Римском Прокураторе Иудеи, Понтии Пилате». Об этом же, несколько сдержанно, писал и К. Симонов: «…Если говорить об истории Христа и Пилата, то это вообще одни из лучших страниц русской литературы 20-х годов».
Спустя ровно сорок лет им вторит В. Аксенов: «А самое гениальное в этом романе – именно история Пилата… Поразительное проникновение в эту историю в Иерусалиме!.. Да-да, как будто он сам там сидел, подсматривал и все детально описал – и Пилата, и как хрустел песок под ногами у легата, и грозу… В Иерусалиме до сих пор говорят: „Посмотрите, какой сегодня закат булгаковский!“»
В. Иванов-Смоленский тоже считает, что, хоть замысел Булгакова доподлинно и неизвестен, «главными героями его романа были не Мастер и Маргарита». Не являются они главными персонажами и его книги, хотя их имена – с переменой мест – фигурируют в ее подзаголовке.
В сущности, начиная с подзаголовка, В. Иванов-Смоленский сознательно отказывается от суверенности своего произведения и затем последовательно, практически на всех художественных уровнях, придерживается принципа интерпретации знаменитой булгаковской книги. На уровне поэтики, отсылающей, условно говоря, к булгаковскому совмещению несовместимого, немыслимому сведению в единой повествовательной плоскости конкретно-земного, даже банального, с инфернально-условным. На уровне творческого метода, который (по отношению к роману М. Булгакова), думается, удачнее всего был определен о. И. Шаховским как «метафизический реализм». На уровне композиции, едва ли не симметричной булгаковской: «Мастер и Маргарита» состоит из двюх частей, в целом включающих 32 главы и эпилог; книга-интерпретация содержит заметку «От автора», 36 глав и глоссарий, включающий пояснения некоторых слов, использованных в произведении. Наконец, на уровне жанровой модификации, которая, согласно авторским определениям, синтезирует в себе приключенческий роман и реминисценцию.
Определение жанровой формы «Последнего искушения дьявола» как реминисценции особенно показательно и изначально предполагает его прочтение и восприятие в свете романа-предшественника. В общем-то, реминисценция в своей содержательной сути нередко используется в литературной практике; разница в том, что в данном случае сам автор изначально, как уже было сказано, декларирует «привязанность» своей книги к произведению-первоисточнику. Впрочем, четкой дифференциации понятия «реминисценция» (как и многих других, если не большинства, литературоведческих терминов) в науке об искусстве слова до сих пор не существует.
Так, автор-составитель «Словаря литературоведческих терминов» (2006) С. П. Белокурова раскрывает содержание этого понятия следующим образом: «Реминисценция (позднелат. reminisc;ntia – воспоминание) – неявная отсылка к другому тексту, наводящая на воспоминание о нем и рассчитанная на ассоциации читателей; воспроизведение автором в художественном тексте отдельных элементов своего более раннего (автореминисценция) или чужого произведения при помощи цитат (часто скрытых), заимствования образов, ритмико-синтаксических ходов и т. д.». Очевидно, по многим параметрам роман В. Иванова-Смоленского соответствует определению «реминисценция», хотя о неявности отсылок к тексту-предшественнику здесь говорить не приходится; наоборот, писатель делает все возможное (в том числе снабжает книгу специальным вступлением «От автора»), чтобы их акцентировать.
В связи с этим уместно привести из того же словаря определение аллюзии (франц. allusion – намек): «художественный прием, сознательный авторский намек на общеизвестный литературный или исторический факт, а также известное художественное произведение. А. всегда шире конкретной фразы, цитаты, того узкого контекста, в который она заключена, и, как правило, заставляет соотнести цитирующее и цитируемое произведения в целом (выделено мною. – Е. Л.), обнаружить их общую направленность (или полемичность)». Ясно, что при таком понимании реминисценции и аллюзии книга В. Иванова-Смоленского в гораздо большей степени подпадает под определение аллюзии.
Впрочем, состояние науки о литературе на сегодня таково, что один термин достаточно легко опровергнуть другим; например, известный российский литературовед В. Е. Хализев определяет ту же аллюзию иначе – как разновидность недомолвок, как намеки «на реалии современной общественно-политической жизни, делаемые, как правило, в произведениях об историческом прошлом». В любом случае, литературовед, имеющий дело с книгой «Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер» найдет благодатную почву для размышлений о ее жанре. Тем более что последний, как уже говорилось, осложнен и определением произведения как приключенческого романа – думается, своего рода авторской «наживкой» для массовой читательской аудитории, которой слово «приключения» говорит гораздо больше, чем ремисценция и аллюзия, вместе взятые. Говорю это не в упрек и не в обиду автору; в конце концов, это тоже способ привлечь внимание широкого читателя к серьезному произведению, каковым книга В. Иванова-Смоленского, безусловно, является. Кстати говоря, способ, давно и с успехом применяемый писателями-постмодернистами, – будь то Умберто Эко или Милорад Павич, Курт Воннегут или некто другой, не менее известный, для кого «засыпать рвы, уничтожать границы» между массовым читателям и эрудитом является делом принципа.
К слову, сама по себе жанровая неоднозначность новой книги тоже представляется своеобразной аналогией к роману «Мастер и Маргарита», палитра жанровых дефиниций которого, принадлежащих критикам и ученым, чрезвычайно широка: интеллектуальный роман, роман-миф, роман-пародия, мистерия, меннипея, неомифологический роман, роман-сказка, философский роман, сатирический и проч. – при том что каждое из этих определений имеет под собой основания, каждое дополняет читательское восприятие произведения новыми смысловыми параметрами.
Что касается системы персонажей в романе В. Иванова-Смоленского, то здесь наблюдаются существенные смещения акцентов. У М. Булгакова Маргарита – идеал истинной и жертвенной любви, любви прежде всего женщины к мужчине, но также и к человеку вообще, в особенности человеку обиженному, страдающему. В сравнении с Мастером, не случайно предпочевшим житейский покой и бытийное умиротворение, она более деятельна, пережитое вселяет в нее неистовство, страсть к разрушительству. Достаточно вспомнить разгром в доме Драмлита, когда досталось не только действительным гонителям Мастера, но и людям, случайно подвернувшимся под руку, не причинившим ему никакого зла. Затем, что важно, наступает отрезвление.
В романе В. Иванова-Смоленского душевное состояние и поведение Маргариты сохраняют конфликтную напряженность двух начал – женственного, мирополагающего, с одной стороны, и бесовского, влекомого искушением, с другой. Второе, однако, одерживает верх; отдавшая, причем по собственному настоянию, Воланду душу взамен сладкого чувства и необъятных возможностей неограниченной свободы, Маргарита становится не просто воительницей, но – частью мира Воланда, мира тьмы. В некотором смысле на ней тоже лежит вина за судьбу Мастера, понявшего, но не принявшего перевоплощения возлюбленной, не вынесшего своего одиночества, оставленности ею, своим последним ангелом: отчаявшись, он все же сжигает свою рукопись и, по сути, кончает самоубийством, задохнувшись в ядовитом дыму прежде, чем до его тела доберется огонь.
Двойственное впечатление (как и при чтении романа-предшественника) производит знаменитая троица подручных Воланда – Фагот, Азазелло и Бегемот; остающиеся у В. Иванова-Смоленского, в продолжение булгаковской традиции, своего рода персонажами-трансформерами, призрачными и одновременно убедительными, они стараются добросовестно – посредством всевозможных проделок и провокаций – выполнить поручение повелителя: убрать из мироздания Иисуса Христа, окончательно его уничтожить, привести Зло к необратимому торжеству. В некотором смысле они, хотя и «расчеловечившиеся» (о. И. Шаховской), иногда выглядят человечнее людей, даже обнаруживают сочувствие к Христу, оставленному учениками, презираемому народом, еще вчера с признанием и восторгом преклонявшимся перед ним, устилавшим ему путь пальмовыми ветвями и своими одеждами. «Увы, с горечью произносит Азазелло, – такова природа человеческая… Природная подлость заставляет их сначала сотворить себе кумира, а затем безжалостно низвергнуть его». «Похоже, он знает это и прощает их всех, – едва слышно добавил кот…» И мрачно заключил: «Чего не стало – того и не было».
Несмотря на хитроумность, неимоверную замысловатость и даже «изящность» сценариев уничтожения Христа, все усилия Воланда и его подручных оказываются напрасными: многовековая история противостояния Князя Тьмы с Иисусом Христом давно убедила первого, что избавиться от Христа можно только в строгом соответствии с законами, установленными людьми, то есть теми, за кого он страдал и боролся, кого простил за предательство и чьи грехи взял на себя, взойдя на Голгофу; в противном случае казнь Христа будет неправосудной и неизбежно обернется его воскресением. Дьявол способен на многое, кроме одного, – придать преступлению не вид, но суть законности и справедливости, ибо это невозможно по определению. Именно поэтому вновь и вновь воскресает Христос – и после Голгофы, и в Москве 1936 года, куда он перемещен благодаря стараниям мессира и где должна была осуществиться вторая попытка его уничтожения, на этот раз – посредством советской репрессивной системы («Там есть наш человек, он вам известен…») (две эти попытки и составляют основу сюжета новой книги).
Следует заметить, что Воланд в новом романе, по сравнению со своим булгаковским прототипом, еще более фантомен, и не только по той простой причине, что он существует вне времени; по сути, он лишь отдает распоряжения, вносит коррективы, подводит итоги, но сам почти не действует.
Гораздо более объемны образы Пилата и Христа. Как и у М. Булгакова, в новой книге они – фигуры ключевые, смыслообразующие; соответственно, и прочтения этих образов белорусским писателем представляются более значимыми, нежели «московская» и «римская» (в последней руками Маргариты умерщвлен «подлый Тиберий») истории.
В трактовке В. Иванова-Смоленского Понтий Пилат гораздо менее двойствен, чем у М. Булгакова; воин и полководец, «всадник в шести поколениях», он и в новой версии умен и проницателен, но все его помыслы сводятся к желанному возвращению в Рим, которое стало бы реваншем за длящуюся пятый год фактическую ссылку в забытую Богом провинцию. Здешний народ он ненавидит, его обычаи и уклад жизни презирает. С целью посеять серьезные потрясения, для устранения которых потребовались бы дополнительные войска императора Тиберия, солдаты по наущению Пилата оскверняют храмы, оскорбляют чувства верующих; ответные волнения прокуратор подавляет жестоко и беспощадно – в расчете на еще более масштабный и повсеместный мятеж. Хотя стоицизм плененного и обреченного на смерть Иисуса и в нем вызывает уважение, он отказывается утвердить приговор Синедриона на римский вид казни не столько из стремления сохранить ему жизнь и даже не столько из желания самому «умыть руки» («Не я пролью кровь его, но сами иудеи»), сколько в явной надежде на то, что теперь, когда начнутся массовые столкновения между стражниками Синедриона и приверженцами Христа, он дождется присылки новых легионов, зальет кровью Иудею и осуществит триумфальное возвращение в Рим. Если в римском прокураторе М. Булгакова, по справедливому замечанию о. И. Шаховского, «удивительно ярко видна основная трагедия человечества: его полудобро», то в отношении Пилата «нового» даже о «полудобре» говорить, в сущности, не приходится. Здесь зло однозначно, безальтернативно и лицемерно. Никакой метафизической тревоги о своей посмертной судьбе и бессмертной репутации прокуратор не испытывает, как не стоит он, собственно, перед проблемой нравственного выбора, в то время как адекватное восприятие образа булгаковского Пилата без учета этой проблемы немыслимо. В новой версии у Пилата иное, скажем так, идеологическое предназначение: продемонстрировать механизмы манипулирования, на которых зиждется насильственная власть, поступающая с каждым, будь то обыкновенный смертный, репресированный Сталиным, или сам Иисус Христос, как с разменной монетой, как с пешкой в большой игре.
Кстати говоря, изображение этих механизмов убедительно свидетельствует, что с незапамятных, мифологических времен по сегодняшний день техника насилия в мире, техника осуждения на смерть невиновных по большому счету не изменилась, разве что более изощренными становились сами методы уничтожения людей, как прежде, так и теперь согласующиеся с печально известным «Нет человека – нет проблемы». Иное дело, что белорусскому писателю для соотнесения мифа и реальности, прошлого и настоящего симпатические чернила уже не требовались; профессиональным языком излагаются формы и методы деятельности силовых органов в период культа личности – от сбора информации и анализа компромата, сыска и провокаций до протокольной рутины. Расширяется и круг персонажей: философствует Сталин, ставит перед подчиненными задачи всесильный глава НКВД Ягода, идет речь о Максиме Горьком, Вышинском, Кагановиче, советских военачальниках, упоминаются Карла дель Понте и «человек с пятном на лбу» (впрочем, обилие имен, призванных актуализировать исторические аналогии, и определенных – в прямом и переносном смыслах – «лобовых» деталей, их «педалирование» придают некоторую рыхлость финалу повествования и снижают притчевость произведения).
Впечатляюще написан В. Ивановым-Смоленским образ Христа, исказить который не удается ни первосвященникам, ни Воланду с его свитой. Как и в интерпретируемом романе, в новом произведении он подчеркнуто человечен; не просто предчувствуя, но зная свой удел, Христос тем не менее «с тоской и печалью» взывает к Господу в надежде, что в последнее мгновение Всевышний избавит его от «чаши сей». Эпизод этот, исполненный пронзительной печали, душевной боли и скорби, вызывает ассоциации с многочисленными литературными трактовками соответствующих евангельских преданий. В частности, с двума гениальными стихотворениями под общим названием «Гефсиманский сад». Одно из них принадлежит австрийскому поэту Райнеру Марии Рильке:
…Еще и это. И таков конец.
А мне идти – идти, слепому, выше.
И почему Ты мне велишь, Отец,
искать Тебя, раз я Тебя не вижу.
А я искал. Искал, где только мог.
В себе. В других. И в камнях у дорог.
Я потерял Тебя. Я одинок.
А я искал. И меж людей бродил.
Хотел утешить горечь их седин.
И с горем, со стыдом своим – один.
Потом расскажут: ангел приходил…
Какой там ангел!..
(пер. А. Карельского),
второе – Борису Пастернаку:
…Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы…
И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца…
Особого анализа заслуживает язык романа В. Иванова-Смоленского. Во многом он родствен языковой стихии булгаковского произведения, что вполне закономерно, ибо сам писатель, посвящая читателя в побудительные мотивы создания своей книги, предуведомляет его о сознательном «заимствовании автором чужого образа, мотива, стилистики и словесных оборотов». В «Последнем искушении дьявола» синтезированы трагическое и комическое, конкретика описаний (интерьера, портрета, пейзажа) и поистине гофмановская фантасмагоричность, обыденное и условно-фантастическое. Совершенно прав был В. Аксёнов, подчеркивая двойственность творческого метода М. Булгакова: с одной стороны, он «держался бунинского… направления», то есть реалистического, с другой – «время от времени впадал в авангард» («Собачье сердце», «Роковые яйца», «Багровый остров» – «…конечно, уже авангард, сюрреализм». Не говоря уж о «Мастере и Маргарите»). Соответственно, сюрреалистичностью отмечен и роман В. Иванова-Смоленского, в хронотопе которого библейские истории монтируются с картинами из жизни ХХ века на разных его отрезках, включая суггестивно поданный период перестройки, а повседневная реальность (древняя и современная) предельно инфернализируется.
Впрочем, читатель, переступивший порог ХХ1 века, к разнообразным художественным «измам» привык до оскомины; скорее, он испытывает потребность в документе, факте. Роман В. Иванова-Смоленского способен эту потребность удовлетворить сполна: почтение к реалиям – одно из характерных качеств его прозы. Книга предельно насыщена информацией: от экскурсов в историческое прошлое, касающихся разнообразных обычаев и символов, смертной казни в Иудее и распятия на кресте в Риме, копей царя Соломона и ловли жемчуга, родословной обряда крещения и этимологии имени Понтия Пилата, его военного прошлого и сути распри с Каифой, до комментариев к статьям уголовного кодекса, заключений судебно-медицинской экспертизы, постановлений об объявлении в розыск, отчетов и справок о показательных процессах, протоколов допросов, в которых невероятным образом вполне материальные улики уживаются с мистикой.
Чрезвычайно обширна аллюзивная парадигма романа В. Иванова-Смоленского; в нее, помимо, разумеется, различных составляющих непосредственно интерпретируемого произведения, органично вплетаются нити, ведущие к собственно евангельским текстам, Квинту Горацию Флакку и Иосифу Флавию, Гёте и Пушкину, Ницше и Достоевскому, Соловьеву и многим другим мыслителям и художникам слова.
В заключение заметим: вступая в контекст гениального творения, всякий новый автор в известном смысле рискует, ибо как минимум должен соответствовать определенной художественной планке. В. Иванову-Смоленскому, думается, удалось достойно продолжить традицию М. Булгакова, создать книгу мифологизирующую, свидетельствующую и одновременно предостерегающую.
Ева Леонова,доцент кафедры зарубежной литературы филологического факультета Белгосуниверситета кандидат филологических наукапрель 2008 г.