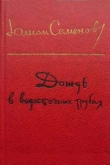Текст книги "Атаман Семенов"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Попытка смены власти на КВЖД не удалась, как потом отметил Семенов, «исключительно благодаря моему своевременному вмешательству, которое повлекло за собой окончательный мой разрыв с советской властью».
Когда поезд, на котором Аркус следовал в Иркутск, остановился на станции Даурия, в вагон, где располагался новый управляющий КВЖД, ворвалась группа казаков и выволокла новоиспеченного «генерала» на перрон. Семенов не собирался его долго держать в кутузке – ну, неделю-две, не больше: ему важно было сбить с него начальственную спесь, а если Аркус заявит, что в Иркутск не поедет – и вообще отпустить его, и сделать это незамедлительно, посадить на поезд, уходящий в глубину Китая, и помахать вслед белым платочком.
Любой нормальный человек на месте Аркуса поспешил бы принять эти условия и бегом бы устремился в поезд, уходящий на восток, но только не Аркус. Он повел себя иначе. Презрительно смерил Семенова с головы до ног и проговорил сквозь зубы, сплевывая слова, будто подсолнуховую скорлупу:
– Я вас не знаю и знать не хочу.
– Ить ты! – Семенов усмехнулся и вновь подкрутил пальцами колечки на усах.
– Вы пойдете под суд, и вместе с вами – те лица, которые незаконно произвели мой арест.
– Ить ты! – вторично усмехнулся Семенов. – Произвели! Незаконно! – Повернулся к казакам, которые привели Аркуса. – Ну-ка, станичники, перетряхните вещички этого господина. Вдруг найдется что-нибудь интересное.
Интересное нашлось. Из багажа Аркуса были извлечены бумаги, одна – по поводу Семенова, другая – Хорвата, согласованные с китайскими властями, где черным по белому было написано: есаула Семенова Г.М. следует немедленно арестовать, генерал-лейтенанта Хорвата Д.Л. с должности сместить.
Семенов повертел бумаги в руках, весело оскалил зубы и подошел к Аркусу:
– Арестовать меня, значит, вздумали?
Аркус презрительно сжал глаза в щелки, разом становясь похожим на китайца, мотнул головой. Жест был непонятным: то ли он подтверждал возможность ареста Семенова, то опровергал его, а через мгновение есаул обнаружил, что в него летит плевок.
Еле-еле Семенов от этого плевка увернулся и не замедлил ответить – в нем мигом вскипела злость, и есаул коротко, без замаха, очень умело ударил Аркуса кулаком в лицо.
– Хватит разбираться с этим сукиным сыном! – просипел он неожиданно сдавленным голосом, позвал своего верного урядника: – Бурдуковский!
Бурдуковский подскочил к есаулу, козырнул лихо:
– Ваше высокоблагородие!
– Что у нас с военно-полевым судом? Он существует?
Этого Бурдуковский знать, естественно, не мог; не отрывая ладони от папахи, он виновато приподнял одно плечо:
– По-моему, нет.
– Отрядить трех человек в военно-полевой суд, – приказал Семенов. – Немедленно!
Этот суд из двух солдат и одного офицера собрался на станции Даурия через десять минут. Заседание проходило в кабинете Березовского. Было оно недолгим: суд на одном дыхании, едва войдя в кабинет коменданта станции, вынес вердикт: смертная казнь. Приговор был окончательным, обжалованию не подлежал и в исполнение должен был приведен немедленно.
Аркус, не ожидавший такого поворота, побледнел, лицо его сделалось потным, он знакомо мотнул головой – не верил, что его могут расстрелять.
– Напрасно, голубчик, не веришь. – Семенов усмехнулся и приказал верному Бурдуковскому: – Решение военно-полевого суда – к немедленному исполнению!
Двое казаков подхватили Аркуса под локотки и поволокли за станционный сарай. Аркус пробовал что-то кричать, но мороз, ветер, густой дым, валивший из станционной трубы – там только что в печь засыпали полцентнера угля, – заталкивали слова ему обратно в глотку. И Аркус, поняв, что все кончено, что он проиграл свою партию окончательно, заплакал.
Через несколько минут за сараем грохнули два выстрела, один за другим. Несостоявшегося управляющего КВЖД не стало.
Семенову было понятно: промедление смерти подобно, к Хорвату надо ехать сегодня же. Но помешали спешные дела, и выехал есаул лишь на следующий день, через сутки, в девять часов утра восемнадцатого декабря 1917 года, вместе с урядниками Бурдуковеким и Батуриным прибыл на станцию Маньчжурия.
Жизнь тут была много веселее, чем на станции Даурия, – здесь имелось несколько трактиров и лавка колониальных товаров. Из российских на полках лежали спички, произведенные еще до Великой войны на станции Седанка, что под Владивостоком, – видно, закуплены были спички в количестве сверхизбыточном, раз их до сих пор не сумели распродать, поскольку ныне фабрика в Седанке, ставшая японской, спички не выпускала; были еще и бабьи ленты, которыми можно и одежду украшать, и волосы подвязывать, все остальное – иностранное: слабенькое японское пойло саке, которое – тьфу! – надо употреблять горячим, твердые американские галеты, напоминающие прессованную фанеру, такие они были невкусные, австралийская ветчина в железных банках, похожих на традиционные чайные коробки, украшенные ярким рисунком, и жесткая, как железо, вяленая страусятина.
Есаул, увидев страусятину, лишь изумленно покачал головой:
– Ну и ну! – Спросил у лавочника: – Сам-то пробовал?
– Пробовал, – неохотно ответил тот и испуганно покосился на дверь, словно оттуда должен был выползти злой Змей Горыныч, – мясо и мясо, не отличается от коровьего, только зубы надо иметь хорошие.
– Зубы всегда надо иметь хорошие. А чего сидишь такой невеселый? Заболел, что ли? Или плохо позавтракал? А?
Лавочник неопределенно махнул рукой:
– Вот именно, «а», господин генерал.
– Да не генерал я. – Семенов поморщился.
– Все равно – большой человек. А быть невеселым есть отчего, извините великодушно. Сегодня обещают прийти посланцы из Совдепа. Слышали о таком?
– Слышал. И видел. И в Чите, и в Иркутске, Даже близко соприкасался.
– Вот и мы с хозяином соприкоснулись.
– И что же?
– Лавку нашу сегодня собираются экс... экс... тьфу! – отплюнулся лавочник, выдернул из-под весов клочок бумажки, на котором было записано трудное слово, и прочитал по слогам: – Экс-про-при-и-ро-вать, Без стакана водки не выговоришь. Неприличное слово.
– Действительно, неприличное, – согласился Семенов и, купив страусиного мяса и галет, вместе со спутниками двинулся в паспортный пункт.
Под ногами остро, будто стеклянное крошево, скрипел снег. На ветках деревьев сидели голодные, по-собачьи нахохлившиеся вороны. А вот собак не было видно. Семенов удивился этому.
– Здесь, в зоне отчуждения, полно корейцев, – пояснил Бурдуковский. – Для них собачатина – все равно что для нас парная телятина, такое же желанное блюдо. Делают они из собачатины мясо «хе» и наедаются так, что потом на ноги подняться не могут.
– Эге! – продолжал удивляться есаул. – А я-то думаю: где собаки?
В паспортном пункте сидело два офицера.
Увидев есаула – человека, старшего по званию, – хмурый военный чиновник представился:
– Куликов!
Его коллега, молодой, румяный, с двумя серебряными значками на гимнастерке – один был университетский, второй – об окончании школы прапорщиков – также не замедлил представиться:
– Прапорщик Кюнст!
Семенов положил на стол военного чиновника свой паспорт, рядом – бумаги Бурдуковского и Батурина, взял стул и, повернув его спинкой вперед, сел, как на коня.
– Направляемся к господину Хорвату, – пояснил он, глянул в окно, неожиданно заметил там китайского солдата и поинтересовался: – Расскажите-ка, господин хороший, что тут у вас происходит? Китайцы почему-то разгуливают в зоне отчуждения, как у себя дома.
На лице военного чиновника появилась грустная улыбка, он сбил с левого погона какую-то соринку и также глянул в окно.
– Вчера сюда пришла китайская пехотная бригада. При полной выкладке. Будут разоружать наших.
– Как разоружать? – Семенов привстал на стуле, будто в стременах. – Какое право имеют эти тыквенные головы разоружать наших солдат?
– Господин есаул, революционные преобразования докатились из России и сюда, на КВЖД. Никому ни до чего нет дела. Власть бездействует, железнодорожная рота и ополченческая дружина, составляющие гарнизон города, полностью деморализованы, на всех заборах, как воробьи, сидят и горланят агитаторы, в городе – грабежи, убийства, ночью за порог дома выйти нельзя... А-a! – Лицо военного чиновника исказилось, он отвернулся в сторону, расстроенный. – В общем, китайцы решили взять власть в свои руки, разоружить гарнизон и навести в городе порядок.
– Китайцы... Чтобы они разоружали русских?! – негодующе воскликнул Семенов. – Этого еще не хватало! – Словно о чем-то вспомнив, он достал из кармана кителя мандат, полученный им в Петрограде, положил на стол перед военным чиновником.
Тот медленно зашевелил губами:
– Воен-ный комис-сар Дальне-го Востока. – Краска прилила к его лицу, и Куликов поспешно вскочил с места.
– Сядьте! – сказал ему Семенов. – Пригласите-ка лучше ко мне сюда, в здание станции, начальника китайского гарнизона, командира бригады, начальника дипломатического бюро Цицикарской провинции с драгоманом[42] 42
Драгоман – переводчик, состоящий при Европейском посольстве на Востоке.
[Закрыть], городского голову и начальника милиции.
Военный чиновник лихо щелкнул каблуками, перевел взгляд на прапорщика:
– Кюнст, выполняйте приказание!
Кюнст вскочил с обрадованным видом, как и его начальник, щелкнул каблуками и, сдернув со старой рогатой вешалки шинель, исчез.
– М-да, и вас, оказывается, тоже разложили большевики, – удрученно протянул Семенов, пригладил ладонью усы.
В разговоре он не сразу обнаружил, что сзади, в самом темном углу, у весело потрескивающей поленьями печки сидит еще один человек и неотрывно глядит на огонь. Поручик с седыми висками словно погрузился в этот огонь целиком, стал частью его и на людей, заходивших в паспортный пункт, не обращал внимания.
Печать беды лежала на твердом, изрезанном морщинами лице этого человека – хорошо знакомая Семенову по фронту. Люди с такой меткой обязательно погибали в ближайшем бою. Семенову сделалось душно, и он повел головой в сторону, пытаясь освободить себе горло. Это не помогло, Семенов расстегнул на воротнике кителя крючок.
– Что-то случилось, поручик? – спросил он.
Вместо поручика ответил военный чиновник:
– Случилось. В нашем здании, на втором этаже, заседает революционный трибунал – солдаты судят поручика Егорова...
– Вас, значит? – Семенов ткнул пальцем в сидящего у огня офицера.
– Так точно, – ответил военный чиновник.
– И за что, простите великодушно... судят?
– Ни за что! – У Куликова от возмущения даже задергалась одна бровь. – За то, что отказался выполнять приказания разложенцев и дезертиров.
– Понятно, – тихо и очень отчетливо произнес Семенов, потискал рукою воздух, словно разминал застоявшиеся пальцы, выкрикнул зычно, будто в атаке: – Бурдуковский!
– Урядник словно из воздуха возник, только что не было его, отирался на перроне станции – и вот он, уже стоит посреди комнаты.
–Я!
– Встань у дверей с винтовкой и никого сюда не впускай. Если явятся господа-товарищи за поручиком Егоровым – гони их в шею. Не послушаются – можешь врезать прикладом по зубам. Понял?
– Так точно!
– Действуй! – Семенов повернулся к поручику: – Не бойтесь никого и ничего. И тем более – самозваного революционного суда.
Через двадцать минут на лестнице послышался топот, дверь в приемной с треском распахнулась, раздались возбужденные голоса. Бурдуковский, державший винтовку у ноги, напрягся. Семенов со скучающим видом отвернулся к окну – в окно была видна колониальная лавка. Ее деревянная дверь, на манер сундука окованная рисунчатыми полосками меди, открылась, и на улицу вывалился шустрый старичок. В руке он держал новенький кожаный баул ядовитого оранжевого цвета. Похоже, это был хозяин лавки, в которой Семенов купил два фунта вяленого страусиного мяса. За хозяином торопливо потрусил тонконогий рыжеголовый паренек в треухе, сброшенном с головы на спину, – треух держался на матерчатых завязках, затянутых спереди в узелок.
Из приемной послышались крики.
– Бурдуковский, выйди разберись! – приказал Семенов.
Урядник решительно шагнул за дверь. Крики в приемной усилились, но через полминуты все стихло.
Семенову в окно было видно, как на улицу вывалился спутанный клубок, из которого с трудом выбрался здоровенный детина с испачканным чем-то темным лицом, прокричал высоким встревоженным голосом:
– Казаки!
Клубок рассыпался, пространство перед окном расчистилось. Бурдуковский вернулся в комнату.
– Ну и что? – спросил у него Семенов.
– Как вы и благословили, ваше высокоблагородие, прикладом дал по зубам. Пришлось.
– Подействовало?
– Еще как!
Семенов вновь повернулся к поручику:
– Повторяю, не бойтесь никого и ничего.
Егоров отозвался голосом тихим и благодарным:
– Я в полном вашем распоряжении, господин есаул.
– А вот это – любо! – Семенов употребил любимое слово донских казаков. – Ваша помощь мне понадобится.
Тем временем Кюнст привел в станционное здание китайских чиновников и начальника городской милиции – низенького кривоногого капитана с рябым, посеченным оспой лицом,
– Прошу, господа! – послышался бодрый голос Кюнста. – Прошу! Господин комиссар Временного правительства России находится в паспортном пункте. Направо, пожалуйста!
Группу китайцев возглавлял генерал Ган – мешковатый человек с опухшими подглазьями и вялым ртом, украшенным щеточкой усов. Именно ему было дано указание разоружить гарнизон Маньчжурии – полторы тысячи человек; останавливало Гана пока одно: сил у прибывшей пехотной бригады было для этого мало. Генерал ждал подкрепления.
– Не надо никаких подкреплений, – напористо начал атаку Семенов, – русских должны разоружить русские, и я это сделаю сам. Лично. Если их будут разоружать китайские солдаты, то может пострадать мирное население. Согласны, господин генерал? – спросил он у Гана.
Подумав немного, генерал наклонил голову – согласен, мол, затем поинтересовался глуховатым, чуть подрагивающим от возраста голосом:
– А как вы собираетесь это сделать, господин комиссар? У вас же для этого сил тоже недостаточно, вам нужен хотя бы полк...
– Полк будет. Это вопрос несложный, полк мне надо будет срочно перекинуть сюда со станции Даурия.
– А одного полка хватит? – спросил Ган.
– Если не хватит – буду просить помощи у вашей бригады.
– Помощь будет оказана, – пообещал Ган.
Семенов блефовал: весь его «полк» вместе с Бурдюковым и Батуриным состоял всего из семи человек. Еще трое были направлены в разные места с письмами, один казак находился в Харбине вместе с поручиком Жевченко.
– Мне нужен транспорт, – потребовал Семенов.
– Он будет вам предоставлен, – почти автоматически пообещал китайский генерал.
– Тридцать теплушек, оборудованных нарами и печками...
– Дадим, – охотно ответил Ган, и Семенов понял, что меньше всего этому старому человеку хотелось заниматься тем, к чему его приставили – ратным делом, войной. – Если надо сорок или сорок пять теплушек, оборудованных этими самыми... диванами – дадим сорок пять. Назовите номер полка.
– Полк именной, такие в русской армии номеров не имеют. Называется – Монголо-Бурятский.
Генерал задумался, он о таком полке не слышал, но в следующий миг вяло махнул рукой – ладно!
На том совещание закончилось.
Через час в распоряжение Семенова были предоставлены тридцать теплушек, прицепленных к старому зеленобокому паровозу – пассажирскому, когда-то водившему составы в Париж. Семенов написал письмо Унгерну и вызвал к себе Бурдуковского.
– Срочно отправляйтесь с поездом в Даурию. Это – лично в руки войсковому старшине барону Унгерну, – отдал письмо Бурдуковскому. – В случае опасности письмо надо немедленно уничтожить.
Суть авантюры была проста: Семенов просил Унгерна собрать имеющихся на станции Даурия его людей (всего получалось семь человек, Семенов подсчитал точно), посадить их по теплушкам, во всех вагонах, затопить печки-буржуйки и зажечь свечи – то есть создать впечатление, что в составе полно людей, и прибыть на станцию Маньчжурия.
Ну, а как сложатся дела здесь, будет видно. Батурину же Семенов велел потолкаться в людных местах Маньчжурии и везде сообщать как бы невзначай, что на подходе Монголо-Бурятский полк.
В четыре часа утра девятнадцатого декабря состав с «полком», пыхтя, окутываясь белыми клубами пара и лязгая сочленениями, прибыл на станцию Маньчжурия. Есаул уже ожидал его. Было морозно, снег громко визжал под подошвами, от этого визга хотелось зажмуриться. Дышалось легко. У Семенова было хорошее настроение. Едва состав затормозил у воинской платформы, есаул выставил около него двух казаков с винтовками.
– Если кто будет подходить и любопытствовать, что за состав, отвечайте: «Прибыл Монголо-Бурятский полк», – напутствовал он казаков.
– Ясно, ваше высокоблагородие. Но ежели публика начнет интересоваться, почему двери теплушек закрытые, тогда что отвечать?
– Какой же дурак станет распахивать двери настежь в сорокаградусный мороз? На улице – сорок! Да ветерок еще тот... маньчжурский. А?
Семенов с казаком Батуевым поехал разоружать дружину, Унгерна – также с одним казаком – отправил в железнодорожную роту, хорунжему Малиевскому дал список с адресами и велел ехать по квартирам. Наказал:
– Это список наиболее отъявленных большевистских горлопанов. Если будут брыкаться – не стесняйтесь бить по зубам. Всех арестовать и – на вокзал.
На вокзале, на главном пути, около самой станции, уже стоял длинный состав, приготовленный для «разоруженцев» – их надо было немедленно вывезти в Россию.
– И без них хватит здесь вони! – резко высказался о них Семенов.
Капитан Степанов, начальник местной милиции, должен был помочь Унгерну, но, узнав, какими силами барон собирается разоружать целую роту, нехорошо побелел рябым лицом. У него даже губы затряслись от страха.
– Капитан, проверьте у себя штаны, – посоветовал барон, но Степанов на это никак не отреагировал, словно ослеп и оглох, и тогда Унгерн, не долго думая, отделал его ножнами шашки.
После этого капитан повесив голову, понуро поплелся вслед за бароном в казарму железнодорожной роты.
«Как я и ожидал, разоружение произошло быстро и легко, без всяких инцидентов, – написал впоследствии Семенов, – если не считать попытку одного из членов комитета дружины призвать растерявшихся товарищей к оружию. Призыв этот, однако, успеха не имел, так как винтовки были уже заперты нами на цепочку и около них стоял мой Батуев с ружьем на изготовку и взведенным на боевой взвод курком. В то же время, вынув пистолет, я объявил во всеуслышание, что каждый, кто сделает попытку сойти с места, будет немедленно пристрелен.
Я обратился к солдатам с соответствующей речью, объявив им именем Временного правительства о демобилизации и отправлении их по домам, причем дал 20 минут на сборы, объявив, что каждый опоздавший будет арестован и предан суду.
Услышав об отправке домой, солдаты повеселели и быстро начали свертывать свои пожитки и упаковывать сундучки. Через полчаса все было готово. Я выстроил дружину во дворе, рассчитал по два и повел вздвоенными рядами к вокзалу, оставив Батуева окарауливать казарму. На вокзале я подвел свою колонну к эшелону, уже готовому к отправлению, рассадил солдат по вагонам, назначив старших на каждую теплушку. К этому времени и барон Унгерн привел разоруженных им солдат в количестве нескольких сот человек, которые также были размещены по теплушкам. От каждого десятка по одному человеку было командировано за кипятком, и вскоре все было готово к отправлению эшелона... Не хватало только хорунжего Малиевского, который должен был арестовать агитаторов и лидеров местных большевиков.
В конце концов прибыл и Малиевский – высокий усатый казак с наганом в руке, перед ним тащилось несколько сгорбленных людей неопределенного возраста с испуганными лицами.
– Этих – в отдельную теплушку, – скомандовал Семенов. – И на дверь – пломбу, чтобы никто из них до места назначения и носа не высунул. – Он заглянул в теплушку, встретился глазами с печальным бородатым господином в каракулевой шапке-пирожке. Это был местный учитель. – Вы должны быть горды, что въедете в Россию в запломбированном вагоне, – сказал он учителю, большому любителю, как сказывал военный чиновник Куликов, поговорить на сходках о светлом будущем человечества, – ваш вождь Ульянов-Ленин также въехал в Россию в запломбированном вагоне. – Семенов засмеялся и тихонько похлопал ладонью о ладонь.
Учитель что-то пробурчал под нос и отвернулся от есаула.
– А морду воротить необязательно, – сказал ему Семенов. – Кстати, вы не знаете, почему ваш вождь избрал себе такой псевдоним – Ленин? Почему не Олин, не Манин, не Авдотьин, а Ленин? У него что, жена – Лена? Или та, которая ложится в постель вождя? Может быть эта дамочка – Лена?
Учитель молчал, он не хотел опускаться до общения с издевающимся над ним есаулом.
– Не хотите разговаривать? – В голосе Семенова послышались укоризненные нотки. – Напрасно! – Он повернулся к Бурдуковскому, стоявшему рядом и держащему в одной руке большой пломбир, похожий на кузнечные щипцы, и снизку свинцовых пломб – в другой, приказал: – Пломбируйте вагон, урядник. А господин Куликов пусть приклеит на дверь бумажный квиток и шлепнет на него печать. Открыть вагон разрешается только на станции Борзя. Отправление эшелона – в десять ноль-ноль. А станция Борзя – это во-о-он где, за десятью землями, аж под самой Читой.
Конвоировал эшелон из тридцати семи вагонов всего один человек, подхорунжий Швалов, широкоплечий низенький казак с маленькими глазами-укусами: глянешь в них – обязательно уколешься. Он мрачно оглядел теплушки и поскреб пальцами голову – задание было ему явно не по душе.
– Эшелон пойдет до Борзи без остановок. Поедете на тормозной площадке, – сказал Швалову есаул. Казак, услышав это, невольно поежился: это же на семи ветрах, просквозит так, что все косточки будут звенеть, словно стеклянные. Семенов продолжил: – На станции Даурия машинист замедлит ход – спрыгнете. Задача ясна?
Швалов молча, не по-уставному, кивнул.
Когда паровоз дал прощальный гудок, Семенов прокричал зычно, чтобы его было слышно во всех тридцати семи теплушках:
– Предупреждаю – если кто-то вздумает покинуть вагон по дороге, охрана будет стрелять без предупреждения. Это всем понятно?
Все тридцать семь вагонов хранили молчание.
– Тогда вперед, в Россию, на сытые красные харчи! – Семенов махнул рукой, давая команду отправляться.
Паровоз вновь дал гудок, с макушек деревьев посыпался снег, и вагоны, жестко стуча колесами на стыках, поползли на запад, скрывшись в розовом морозном тумане.
– Бай-бай! – сказал Семенов на прощание и отправился греться в помещение паспортного пункта.
Начальнику КВЖД Семенов отправил телеграмму: «Харбин. Генералу Хорвату. Разоружил обольшевичившийся гарнизон Маньчжурии и эвакуировал его в глубь России».
Вскоре со станции Борзя поступило сообщение, что эшелон благополучно прибыл...
Тем временем вспухла еще одна «болячка»: местный Совет неожиданно сошелся в здании железнодорожного собрания на некую «сидячую сходку», и, как почувствовал есаул, речь на этой сходке должна будет идти о нем. Семенов заслал на это собрание своего человека, «казачка» – поручика Алексеева. Тот все выяснил и едва ли не с боем, выдернув из кобуры пистолет, выбрался из битком набитого помещения.
Оказалось, на повестке дня у местного Совдепа, еще вчера беззубого, вялого, стояло два вопроса. Первый – «О нарушении революционных свобод есаулом Семеновым и об отношении к нему в связи с этим» и второй – «О разгоне Учредительного собрания в Петрограде большевиками»[43] 43
«О разгоне Учредительного собрания в Петрограде большевиками». – Заседание Учредительного собрания проходило 5 (18) января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде, делегаты отказались принимать декреты Советской власти, и в ночь с 6 (19) на 7 (20) января ВЦИК принял декрет о его роспуске.
[Закрыть]. Узнав об этом, Семенов медленно, будто получил удар в лицо, подвигал нижней челюстью: а ведь этот Совет еще день назад совершенно искренне благодарил его за то, что он очистил город от «разнузданных солдат». Только что хвалили решительного есаула, и вона – развернулись на сто восемьдесят градусов. Перевертыши! Есаул выматерился и скомандовал зычно, будто вел сотню в атаку:
– Офицеры, к оружию!
К Семенову тем временем присоединились офицеры Маньчжурского гарнизона – винтовки похватали человек двенадцать. А вообще, народу набралось столько, что едва вместились на двух извозчиках.
Около здания железнодорожного собрания было тихо, все находились в зале, заседали. Семенов ехидно усмехнулся:
– Ну-ну!
У всех выходов он поставил офицеров, а сам в сопровождении подполковника Скипетрова, подъесаула Тирбаха и поручика Цховребашвили стремительно вошел в зал, на ходу передернул затвор винтовки, загоняя патрон в ствол, легко взбежал на сцену. За маленькой трибункой, украшенной красной лентой, какими девочкам-модницам родители на рождественские праздники обычно подвязывали волосы, стоял сухонький человек в очках, с желчным цветом лица и как раз разглагольствовал о Семенове.
Семенов, оказавшийся тут как тут, смерил оратора презрительным взглядом и направил на него ствол винтовки:
– Руки вверх!
Оратор поперхнулся, пропищал что-то немощно, задавленно, чужим голосом и сполз под трибуну.
Был оратор, и не стало его.
– Так будет со всеми! – рявкнул Семенов, вглядываясь в зал. – Со всеми, кто пойдет против меня и моей воли... Понятно? Руки, руки! Почему руки не все подняли? Я же русским языком приказал: всем поднять руки. Всем, а не только этому жалкому ораторишке. – Он заглянул под кафедру – оратора там уже не было.
В проходе встали с винтовками трое офицеров – спутники Семенова, – они были готовы стрелять.
Собравшиеся неохотно подняли руки; Семенов, со сцены увидев, что руки подняли все до единого, подал следующую команду – как на учениях:
– А теперь по одному подходите к сцене и сдавайте оружие. Если кто-то вздумает опустить руки – будем стрелять незамедлительно. Все это слышали? Выстраивайтесь, господа большевики, в цепочку и по одному ко мне... Сдавайте-ка ваши стволы-стволики. И не шалите, не шалите. – Семенов пистолетом погрозил залу. – Я шалостей не люблю. Когда сдадите оружие, поговорим, как мне надлежит вести себя дальше.
Очередь в гнетущем молчании медленно двигалась к сцене, гулко шлепались на деревянный настил «стволы-стволики ». Чего тут только не было! Один бравый дедок в железнодорожной фуражке с бархатным околышем сдал даже длинный, с посеребренным стволом дуэльный пистолет пушкинской поры; Семенов подхватил его, осмотрел – редкое оружие.
– Ты, старик, эту пищаль случайно не из музея уволок?
– Я, ваша степенность, никогда ни у кого ничего не волок, в жизни такого не было, – обиженным тоном ответил дедок. – Не приучен.
– Ить ты, какой сердитый! – Семенов рассмеялся.
Дедок отошел в сторону. Зал был гулким – слышен каждый шепот, каждый чих, каждое шарканье подошвы, и в этой гулкой недоброй тиши очень громко, отчетливо просипел шамкающий немощный голосок:
– У меня руки болят, разрешите их, гражданин начальник, опустить.
Похоже, именно в ту пору родилось знаменитое выражение – «гражданин начальник», хорошо знакомое не только уркам всех мастей, но и широкому кругу профессионалов – прокурорам, следователям, милиционерам, которых в двадцатые годы из-за их фуражек стали звать «снегирями», а чуть позже резко и презрительно: «мусорами», а также журналистам, пишущим на криминальные темы, и просто любопытствующим обывателям.
Есаул поискал глазами владельца немощного шамкающего голоса. Это был сгорбленный, совсем не старый человек с высокими потными залысинами на крупной голове, в затерханном пиджачке и скрюченными, очень большими руками. Если такой дядя сожмет пальцы в кулаки, то каждый кулак будет не менее лошадиной морды. Семенов даже присвистнул про себя: видно, когда в детстве растили, выкармливали этого человека, в чем-то ошиблись – корм пошел не в тело, а в кулаки.
– Разрешите опустить руки, гражданин начальник, – вновь раздался его шамкающий голос.
– Нет! – резко ответил Семенов. – Опустишь – буду стрелять.
– У меня руки затекли, не могу держать...
–Нет! – рявкнул есаул. – Не надо было такие хомуты отращивать... Руки можно опустить, лишь когда будет сдано все оружие. Выход один – сдавать свои пистолетики быстрее.
Через пятнадцать минут на сцене лежала вся «карманная артиллерия» собравшихся. Семенов пересчитал оружие, цифра оказалась внушительной – девяносто стволов.
– Неплохо, однако, вы вооружились, – проговорил Семенов, устраиваясь за хлипкой кафедрой, – но оружие это вам до понадобится. Если снова возьметесь за него – будете иметь дело с регулярной армией и со мной лично. Понятно?
Зал угрюмо молчал.
– Я спрашиваю, это вам понятно? – повторил вопрос Семенов.
– Да куда уж, – наконец послышался одинокий голос. Прозвучал он не громко, но акустика усилила голос, он донесся до каждого в зале.
– Вот и хорошо, – удовлетворенно произнес Семенов. – За незаконное ношение оружия наказывать на сей раз никого не буду, но в следующий раз, если попадетесь – пеняйте на себя. Судить буду по законам военного времени. Это первое. Второе. Я считаю, нельзя такой важный вопрос, как разгон Учредительного собрания в Петрограде, отодвигать в дальний угол и отдавать пальму первенства обсуждению моей скромной персоны. Поэтому я предлагаю выслушать сообщение подполковника Скипетрова, который лишь сегодня ночью вернулся из Иркутска... В Иркутске, да будет вам известно, питерские события повторились. Есть возражения?
Зал угрюмо молчал.
– Не слышу что-то бодрых голосов, криков «ура» и вообще... Никакого воодушевления что-то нет в вас, господа большевики. Что-то вы увяли. – Семенов повернулся к подполковнику: – Господин Скипетров, начинайте!
Пока Скипетров выступал, положив поперек трибуны винтовку, вглядываясь в темные напряженные лица и фиксируя каждое движение, Семенов изучал проворно выскользнувший из-под тяжелой широкой кулисы и подкатившийся прямо к ногам есаула бумажный шарик. Семенов поднял шарик, развернул.
Это был список большевиков, находившихся в зале, тех, кто не попал в вагон, ушедший в Россию. Список уместился на маленьком клочке бумаги – и состоял всего из восьми фамилий. Семенов повертел его в руках, поиграл желваками. Вгляделся в зал. Ему было интересно угадать, как же выглядят большевики, какие они? Вон тот, с небритой квадратной челюстью и маленьким лобиком, одетый в пиджак, сшитый из дешевой «чертовой кожи» – точно большевик. Или нет? Не угадаешь, но похож очень. Или вон тот, смахивающий на большую мрачную птицу, с маленькими, будто у рыбы-пескаря, глазками...
Есаул прошелся взглядом по залу, выбирая наиболее приметные лица, остановился на гривастом старике, седые волосы которого, будто у священника, пластались по плечам, потом задержался на худощавом человеке в пенсне, с интеллигентным лицом, очень похожим на доктора Чехова, следом – на студенте в дохлой, подбитой «рыбьим мехом» шинельке, украшенной погончиками горного института, подумал, что все эти люди бросаются в глаза, а большевики вряд ли будут приметными, они ведь мастера конспирации, и интерес его к этим людям, к угадыванию неожиданно пропал. Остались только усталость да какая-то невнятная досада, ощущение того, что вся борьба его будет напрасной, и это неясное ощущение тревожило, пожалуй, больше всего.