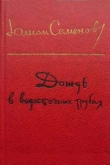Текст книги "Атаман Семенов"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Официант лихо щелкнул каблуками. Семенов не удержался, прищурился:
– Эх, парень, пошел бы ты ко мне в армию, я бы из тебя быстро сделал отличного унтера.
Официант улыбнулся обезоруживающе:
– Не мое это дело, господин хороший. К армии я неспособный.
– Попадешь к толковому воспитателю – сразу станешь способным.
– He-а, не попаду, – вновь обезоруживающе улыбнулся официант, столкнулся глазами с угрюмым взглядом Унгерна и исчез.
– Как вам этот экземпляр, Роман Федорович? – спросил Семенов.
– Отвратительный. Не люблю таких. Я бы его высек плетью... Для начала – тридцать ударов.
Конечно, Унгерн всегда отличался крайностью суждений, но в этот раз был прав: парень ни стыда ни совести не имеет, прячется среди юбок, отсиживается за суповыми тарелками от армии, когда Россия находится в опасности. Не дело это...
Когда Унгерн злился, у него белели, делались бешеными, какими-то бездонными глаза, рот начинал нервно дергаться, четкая речь становилась невнятной. Семенову был известен случай, когда барон стрелялся с пехотным поручиком из-за рядового казака. Поручик ударил казака, и Унгерн этого не стерпел – вызвал обидчика на дуэль. Семенов спросил, не думая, что вопрос этот может быть неуместен:
– А чем закончилась та дуэль с поручиком?
– Ничем, – потеребил пальцами подбородок барон и пояснил: – Нам не дали достреляться.
Народа в ресторане было немного – сидели мукденские купцы; они, шумно сопя, с громкими прихлебываниями тянули из блюдец жидкий чай, в углу тихо шушукались путейский техник и краснощекая девица, влюбленно глядевшая на него, да военный с узенькими серебряными погонами на плечах, проходящий по неведомому ведомству – то ли чиновник, то ли врач, то ли интендант, то ли военный ветеринар, то ли почтовик, – ел, торопливо работая вилкой. Вот и все посетители.
– Мы рано появились здесь, Григорий Михайлович, – сказал Унгерн, неожиданно повеселев, – народ еще подоспеет. Тут, – он оглянулся, – тут такие песни да такие танцы-шманцы почтенная публика демонстрирует, что... – Слов у барона не хватило, и он помотал в воздухе рукой. – А главное, мы всех мазуриков из города вышибли, теперь народ без всякой опаски ходит по увеселительным заведениям.
– Ох, Роман Федорович! – Семенов засмеялся, ему сделалось ни с того ни с сего легко, словно душа его освободилась от некого непосильного груза; он почувствовал, что вернулся в свою кадетскую молодость, когда на улицах Оренбурга они задирали девчонок и получали отпор, катались парами на катке и мечтали о погонах с офицерскими звездочками. Сколько времени прошло с той поры, что и не верится даже – было ли это? – Ох, Роман Федорович!
– Что, Григорий Михайлович? – Унгерн, удивленный голосом Семенова, его тоном, приподнял брови.
– Бедовый вы человек!
– Это почему же?
– Жизнь очень любите.
– Жизнь любят все. Даже мокрицы.
– Говорят, мокрицы не ощущают боли.
– Не верю я в это. Все живое ощущает боль, даже растения – например, крапива, или чертополох, или побеги березы – все, абсолютно все.
Около стола вновь возник официант в красной рубахе. Он оказался малым проворным, успел сгородить не только закуску, но и наполнить все три графина: один имел густой янтарно-черный цвет, в него была налита черемуховая настойка, второй – яркий красный, это была настойка из мелкой маньчжурской вишни, кислой, как кавказская слива ткемали, пунцовой, будто морозное солнце на закате, третья посудина сияла первозданной прозрачностью, была чиста, как горная влага. Семенов не удержался, потер руки и сказал:
– Ого!
Нет, определенно в нем сегодня было что-то от мальчишки-кадета.
Унгерн ощутил в себе юношеский порыв, тряхнул плечами:
– Холодно что-то!
После первой стопки сделалось теплее. После второй стопки – еще теплее.
Ресторан начал наполняться людьми. Пришел железнодорожный рабочий в форменной тужурке, с петлицами, украшенными молоточками, – нечастый гость в ресторации. Солидный, усатый, с докрасна раскаленными морозом щеками, в двойном ватном одеяльце он нес ребенка; рядом, держа мужа за рукав, робко двигалась жена, тоненькая, похожая на пичугу, в расписных теплых пимах, вдетых в новые лакированные галоши. Рабочий сегодня окрестил ребенка и зашел в ресторан отметить это дело. На щекастом лице папы играла довольная улыбка.
– Це-це-це, – укоризненно процецекал Семенов, – сейчас наш дитятя, хлебнув «смирновской», такой рев устроит – музыкантов не будет слышно.
– Он долго с ребенком здесь не пробудет, – успокоил Унгерн. – Выпьет пару стопок за здравие и исчезнет.
Так оно и получилось: через десять минут жена начала обеспокоенно дергать счастливого муженька за рукав, тот некоторое время посопротивлялся, задавленно мыча и крутя головой, потом махнул рукой, и тоненькая хвощинка, звонко опечатывая пол новенькими твердыми галошами, повела его к выходу.
Появился заезжий купец из русских с двумя приказчиками в одинаковых шелковых рубахах-косоворотках желтого цвета, поверх которых были надеты меховые жилеты. Следом за ними ввалилась большая компания сотрудников городской управы – чиновники праздновали чьи-то именины, галдели, Как гимназисты; увидев есаула, они мигом смолкли – успели узнать его характер. Унгерн это засек и воскликнул весело:
– Вона как!
Впрочем, молчали чиновники недолго – вскоре развеселились вновь.
На крохотной деревянной сценке возник скрипач в бархатных штанах и мягких цыганских сапожках, приложил к плечу скрипку, чуть придавил ее острым, как у женщины, подбородком и вскинул смычок. Дымный воздух всколыхнулся, пополз в сторону, разрезанный тонким, жалящим, как нож, горьким звуком, обнажилось пространство, предметы стали видеться четче, звук завибрировал, задрожал и вдруг стих, будто омертвел, но в следующую секунду возник снова; из-за китайской ширмы, расписанной драконами – добрыми существами, спасающими «бачек» от неурожая и небесных напастей, – появился еще один музыкант. Также в бархатных штанах и в сапожках, очень похожий на скрипача – белозубый, кудрявый, с хмельными темными глазами. В руках у второго музыканта была гитара. Смуглая крепкая кисть взметнулась над струнами, скрипка подпела гитаре, музыканты дружно топнули, гикнули, свистнули и... в общем, понеслось.
– Лихо! – одобрительно наклонил голову Унгерн.
Ресторан преобразился, в нем словно сделалось теплее, люди стали ближе друг к другу, даже чиновники из управы, эти бумажные кренделя, которых так не любил Семенов, и те стали походить на людей.
– Эка! Людями себя почувствовали, – не удержался есаул от едкого смешка, – пожиратели промокашек.
Музыканты играли недолго. Гитарист хлопнул ладонью по струнам, обрывая их звон, скрипач опустил смычок, поклонился публике и произнес сильным чистым голосом:
– Выступает покорительница Харбина и Сингапура, несравненная Маша Алмазова!
Скрипач провел смычком по струнам, рождая долгий тонкий звук, и вновь поклонился публике. Добавил к тому, что сказал:
– Королева публики не только Харбина и Сингапура, но и Хабаровска, Владивостока, Посьета, Гензана, Шанхая, Мукдена. Ее талант отмечали Вяльцева и Вертинский, ее голос слушал сам Шаляпин. Все были в восторге. Ита-ак... высту-пае-ет... – скрипач выпрямился, стал выше, грудь у него сделалась широкой, как чистое поле, и он выдохнул трубно: – Маша Алмазова!
Откуда-то сбоку, из помещения, куда ныряли половые, вышла легкая, с гибким станом и большими угольно-черными глазами девушка – вылитая цыганка, с длинной русской косой, украшенной красной лентой, – перекинула косу на грудь, поклонилась собравшимся и запела низким, очень сочным грудным голосом. Она пела про морозную степь, про умирающего ямщика. Семенов почувствовал, что по коже у него побежала легкая кусачая дрожь – голос этой красивой цыганки проникал в душу, доставал до сердца, распространялся вместе с кровью по жилам, – он поспешно налил в стопку черемуховой наливки, выпил и не ощутил вкуса напитка, помотал головой, словно освобождаясь от наваждения, наполнил стопку снова, выпил и опять не почувствовал вкуса спиртного.
– Это что же такое делается? – пробормотал он оглушенно, запоздало крякнул.
Унгерн заметил состояние есаула, также наполнил свою стопку:
– Колдунья, а не девка!
Печальная песня сменилась веселой, и в помещении словно светлее и просторней сделалось, воздух стал другим. На крохотную площадку перед эстрадной выскочил один из чиновников, выдернул из кармана платок и, взмахивая им, будто девица, понесся по кругу, топая ногами и радостно гикая. Сделал круг около эстрадки, потом другой и хлопнулся перед певицей на колени.
В Семенове вдруг возникло что-то острое, завистливое, крапивно острекающее, он недовольно помял пальцами горло и произнес осуждающе:
– Вертопрах облезлый! Надо будет Бурмакину, городскому голове, сказать, он ему живо на валенки деревянные каблуки прибьет. Ба-альшими гвоздями. На молоденьких зарится... А? Пень старый!
– Не такой уж он и старый, – вступился за чиновника Унгерн. – Да потом, представьте себе, Григорий Михайлович, радостей-то у него, кроме казенного стола с зеленым сукном, никаких. Дома – сварливая жена, крикливые детишки, теща с опухшими глазами, постоянно попрекающая его в том, что он испортил жизнь ее дочери, вот если бы дочка вышла замуж за сватающегося к ней купца второй гильдии Голозадова, то была бы счастлива, и так далее. Затюкан, задерган, замордован этот чиновник донельзя. Единственная отдушина – раз в месяц сходить в ресторацию, покуражиться перед эстрадной. Не осуждайте его, Григорий Михайлович!
– Таких я не осуждаю, Роман Федорович, таким я головы отрубаю, – сурово произнес Семенов, поднял кулак, обвел его пальцем, рисуя сабельный эфес. – Вжик – и нету кочана!
Он скосил глаза на эстрадку и вдруг столкнулся своим взглядом со взглядом поющей Маши Алмазовой, его словно бы пробило током. Семенов почувствовал, что тело его встряхнулось само по себе, в груди возникла и тут же пропала боль. Он с трудом отвел взгляд.
В дверях кто-то громко затопал, это отвлекло Семенова, он поднес ко рту кулак, удивленно крякнул в него:
– Ничего себе пламень души!
– Какой души? – не понял Унгерн.
– Я разумею – цыганской.
– А-а. – На этот раз до Унгерна дошло, он бросил на Машу быстрый взгляд. – Думаю, в этой женщине не только цыганская кровь присутствует, тут намешано столько всего, что сам черт ногу сломит, наверное, вплоть до негритянской крови, не говоря уж о еврейской и румынской.
– Еврейской? – недоверчиво спросил Семенов.
– Мне кажется...
Семенов поспешно наполнил наливкой стопку барона, затем также поспешно налил себе.
– За то, чтобы не казалось, Роман Федорович! – Залпом, стремительно выпил.
Барон, улыбнувшись тонко, выпил следом, вилкой подцепил лаково поблескивающий брикетик паюсной икры, отправил в рот, разжевал с неким изумлением. Не выдержав, приподнял бровь:
– Вот уж не думал, что селедку можно есть с повидлом, сверху намазывать сливочным маслом, а потом – европейской кисловатой горчицей и жевать все это с большим удовольствием...
– О чем это вы?
– О том, что паюсная икра вполне совместима со сладкой наливкой.
– Такая изысканная вкуснотень, как паюсная икра, Роман Федорович, совместима со всем, даже с соляной кислотой. – Семенов, как всегда, был резок, ловил себя на этом, пробовал остановиться, но это ему удавалось плохо – в следующую минуту он уже забывал, что только что чувствовал себя неловко, и вновь резал «правду-матку» в глаза, не выбирая выражений и не стесняясь собеседника.
Около стола появился хозяин заведения – крепко сколоченный мужик с лукавыми черными глазами. Он держал в руке лампу-десятилинейку, спросил озабоченно:
– Господа столом довольны?
– Вполне, – ответил Унгерн.
Хозяин поставил на скатерть лампу – лампа была только что заправлена керосином, бок ее украсила длинная, блескучая, остро пахнущая дорожка. Семенов поднял голову, показал глазами на потолок, где под абажуром тускло помигивала электрическая лампочка;
– А этот стеклянный горшок что – уже дуба дает?
– Электричество скоро отключат, оно у нас, господин полковник...
– Есаул, – поправил Семенов.
– Электричество у нас, господин есаул, дают в вечернее и ночное время только на железную дорогу и на дистанцию.
Семенов повел головой в сторону Маши Алмазовой;
– А эта прелесть у вас откуда?
Хозяин перевел взгляд на крохотную гулкую эстрадку, где пела Маша, приложил ладонь ко рту:
– Очень серьезная девушка, должен заметить вам, господин полковник...
– Есаул, – поправил Семенов.
– Полковником вы все равно будете. И генералом тоже... У вас это на лице написано. Так вот, господин генерал, за ней пробовал тут приударить помощник городского головы, очень важный и богатый молодой человек, так она его отделала так, что он неделю пролежал в постели.
Есаул не выдержал, азартно хлопнул в ладони:
– Молодец девка!
Маша Алмазова тем временем подняла руку, и Семенов вновь столкнулся с ней глазами. Наступила тишина. Лишь дым, потрескивая, словно живой, неспешно плыл в сторону двери, втягивался в тамбур, в невидимые щели, исчезал... Хорошо было в ресторане, уютно. А главное – здесь была Маша Алмазова. Семенов чувствовал, что у него даже в виски натекло тепло, подействовало расслабляюще, и он, отведя глаза от Маши – словно не хотел сам себе признаться, что она ему нравится, – потянулся к графинчику с черемуховой наливкой, но посудина была пуста.
Есаул поднял руку, пощелкал пальцами, подзывая кудрявого официанта, тот мигом появился, выжидающе наклонил голову.
Показав ему опустошенную посуду, на дне которой застыло немного темной, цветом схожей с дегтем жидкости, Семенов приказал:
– Повтори!
Гитарист тем временем тихо колупнул пальцем струну, родив нежный долгий звук, потом подцепил вторую струну, и Семенов ощутил некую сладкую тоску, родившуюся внутри, – она подползла к горлу и застряла там, есаул потряс головой, словно хотел избавиться от некого наваждения, но сил избавиться от него, да и, честно говоря, желания не было, он беспокойно втянул в себя воздух, задержал его в груди и вновь глянул на Машу.
Та не отводила от есаула глаз. Он попробовал глянуть на себя со стороны – в порядке ли одежда, не пристало ли что к кителю, на плечах ли погоны? – но ничего не засек и успокоился. Унгерн беспокойство есаула, конечно, заметил и молча отвел глаза в сторону. Он невольно подумал о том, что Семенов, собственно, еще очень молодой человек – несмотря на генеральский иконостас орденов, украшающий его грудь, – есаулу всего двадцать семь лет. В этом возрасте можно сделать огромное количество ошибок, и все будут прощены... Напрасно считал Унгерн, что ошибки, сделанные в этом возрасте, будут прощены, что их перекроют некие победы, достижения, что на ошибки наложится положительный материал, все перемешается, одно нейтрализует другое. Ничего подобного! И Унгерну, и Семенову за свои ошибки пришлось отвечать.
На столе тем временем появился новый графин с черемуховой наливкой.
Семенов наполнил стопки.
– А вот вишневая, зар-раза, не так вкусна, – сказал он.
– Наверное, вишня не та. В Малороссии из вишни, например, делают такие спотыкачи – действительно споткнешься и закачаешься. Вкусноты и крепости необыкновенной. Голова свежая, ясная, все соображает, а ноги не идут.
– Малороссы – вообще мастера на такие штуки.
– Они и на другое мастера. Сало любят больше самодержца российского.
– Самодержца больше нет.
– Если Господь не отступится от России – будет.
Гитарная струна издала тонкий вздох, он повис в воздухе, рождая горечь и слабость одновременно; пронзительный звук этот был чем-то вроде позывного, через несколько мгновений все умолкло вновь, Семенов покосился на Машу и почувствовал, что ему, как мальчишке, охота сглотнуть слюну – во рту собрался сладкий комок, ни туда ни сюда. Выпив стопку, он поспешно налил из черемухового графинчика другую – Маша продолжала пристально смотреть на него. Гитарист тронул пальцем струну в третий раз – и верно ведь, это был позывной, – Маша поклонилась ресторанному залу и тихо, но очень отчетливо – ее услышали все, – объявила;
– «Гай-да, тройка!»
Смотреть же она продолжала на одного Семенова, она словно гипнотизировала есаула, старалась проникнуть в него, забраться внутрь, посмотреть, что там находится, и он – вот ведь как, исключительный случай – не был против этого.
– Из репертуара Анастасии Вяльцевой, – сказал Унгерн. Песни Вяльцевой ему нравились давно, с собой войсковой старшина возил целую коллекцию ее пластинок – полковые умельцы сколотили для них изящный чемоданчик, покрасили лаком, и денщик барона следил за драгоценным чемоданчиком как за собственным оком.
Певица взмахнула рукой, поклонилась публике и начала петь тихо, низко, стараясь, чтобы голос ее дошел до каждого, кто здесь находился, проник в душу, потом повысила голос, и в ресторане на столах зазвенели бокалы...
– Все равно ей до Вяльцевой далеко, – сказал Унгерн.
– А мне она нравится.
– Мне тоже, – поспешно согласился с есаулом Унгерн – он увидел, как у того резко побледнело и сделалось беспощадным, будто в атаке, лицо, глаза сжались в узкие злые щелки.
Маша пела и продолжала смотреть на Семенова. Унгерн отметил, что, пожалуй, он первый раз в жизни видит есаула таким, усмехнулся едва приметно; о чем сейчас думал барон, понять было невозможно. Семенов вновь потянулся к графинчику. Пальцы у него неожиданно дрогнули, и он опустил руку.
– Аль налнвка перестала нравиться? Григорий Михайлович? – поинтересовался барон участливо.
– Нет, наливка та же, и нравится так же... Просто я боюсь напиться. А напиться хочется.
– Я понимаю, – сочувственно произнес барон. – Со мной на фронте такое тоже случалось.
– А я на фронте не пил. Даже не тянуло. Иногда только полстопки за компанию с господами офицерами, и все. – Семенов вновь поглядел на Машу, та пела сейчас про солдата, в одиночестве умирающего у подножия маньчжурской сопки и, перед тем как отойти, посылавшего наказ своей невесте. Песня была печальной, тревожила душу, мужчины притихли, даже несгибаемый Унгерн и тот сгорбился – и его проняла песня...
Свет керосиновой лампы, отраженный круглым жестяным щитком, приваренным к ручке, упал на голову барона, рыжие волосы его сделались яркими, красными, как брусничный лист, вспыхнули огнем, в глазах тоже вспыхнули крохотные огоньки – не барон, а прямо черт какой-то, наряженный в казачин мундир...
Отведя взгляд, Семенов порылся в кармане, достал оттуда «катеньку» – сотенную бумагу, в России эти деньги уже не ходили, но здесь, на КВЖД, ими продолжали пользоваться, хотя упорно поговаривали о замене их местными деньгами; подумав немного, Семенов сунул деньги обратно в карман и из часового «пистончика» – маленького кармашка – достал три золотых червонца.
Это та самая валюта» которую никто никогда не отменит. Даже если ее запретят каким-нибудь дурацким указом» она все равно будет у людей в ходу.
Когда Маша закончила петь и поклонилась залу, Семенов положил монеты на тарелку, ловко, как официант, подхватил ее в ладонь и шагнул к эстрадке. На ходу встретился с Машиным теплым взглядом, уловил в нем что-то заинтересованное и одновременно удивленное, опустился около ее ног на колено и поставил тарелку с монетами на пол.
Ресторанный зал на мгновение замер, даже мукденские купцы перестали дуть свой чай и жевать жирный сладкий рис, затихли все, лишь дым потрескивал, как порох, и плотными слоями плыл к выходу да на станции нервно повизгивала своим слабеньким гудком – пару не хватало – маневровая «кукушка»... Маша поклонилась есаулу, и ресторан взорвался аплодисментами.
Наутро весь городок заговорил о зарождающемся романе певицы и военного комиссара Временного правительства. На Семенова на станцию приходили поглазеть местные сплетницы-старушки, но его в Маньчжурии уже не было, сразу после ресторана он ночью же уехал в Даурию – разведчики оттуда принесли сведения, что появились конные разъезды красных и, судя по всему, на Даурию будет предпринято нападение.
Это значило, что базу надо окончательно переводить в Маньчжурию и добровольцев в армию набирать уже там. А добровольцы уже потянулись из России к Семенову, и это радовало есаула – не было теперь и дня, чтобы не появилось несколько новых человек. Иногда добровольцы приходили группами.
– Хар-рашо! – довольно произносил будущий атаман и потирал руки.
Из Даурии Семенов вернулся поздно, едва улегся спать, как его разбудил дежурный ординарец – чернявый, с темной блестящей кожей парень в белой барашковой кубанке и двумя лычками младшего урядника на погонах.
– Ваше высокородие... – Едва он тронул Семенова за плечо, как тот стремительно вскинулся на постели, протер кулаками глаза.
– Что, большевики наступают на Даурию? Или уже прут на Маньчжурию?
– Никак нет. Прибыл адъютант командующего китайскими войсками.
– Чего-о?
– Китаец прибыл, ваше высокородие. Важный, как купец из Мукдена. Рожа сальная, глаз не разобрать. Хочет видеть лично вас.
– А больше он никого не хочет видеть? Час-то вон какой.
– Никого. Только вас.
– Охо-хо. – Семенов опустил ноги с кровати, натянул сапоги. Сапоги у него были знатные, сшитые специально для студеной сибирской зимы – на стриженом собачьем меху, тонкие. – Ладно, зови этого важного мандарина[46] 46
Мандарин (от санскрит, мантрин – советник) – название чиновников феодального Китая, данное португальцами.
[Закрыть].
В спальню вошел китайский майор с реденькой нашлепкой усов, поклонился есаулу и произнес на хорошем русском языке:
– Я от генерала Чжана Хуан-сяна.
И что же потребовалось от меня господину генералу Чжан Хуан-сяну? Да еще не в самый подходящий час. – Есаул демонстративно зевнул и похлопал по рту ладонью.
Господин генерал Чжан Хуан-сян требует до восьми часов утра сдать оружие и распустить людей. В этом случае он гарантирует вам и всем вашим людям личную неприкосновенность и полную безопасность.
Семенов не удержался от желания похлопать себя еще раз ладонью по рту. Похлопал. Снова зевнул. Ему нужно было оттянуть время.
– Знаете, майор, вопрос этот, несомненно, важный, но очень сложный. Поверьте мне. Он требует обсуждения с вашей стороной.
– Согласен. – Переводчик наклонил голову.
– Поэтому прошу пожаловать ко мне начальника штаба китайских войск.
– Хорошо. – Переводчик вновь наклонил голову и, бросив сочувственный взгляд на Семенова, исчез.
Есаул выругался. Потом потребовал от дежурного ординарца поставить самовар, достать из погреба пару бутылок водки и сунуть их в сугроб, чтобы напиток основательно охладился, приготовить также закуску и в большое блюдо налить варенья – так, чтобы было всклень[47] 47
Всклень – полно, вровень с краями.
[Закрыть]: китайцы любят сладкое, и даже соленое свиное сало готовы есть с вареньем. Затем есаул приказал разбудить Унгерна.
– Роман Федорович, пока я тут буду разводить всякие «мерлихлюндии» и «утю-тю» с китайцами, немедленно выкатывайте пушки, которые я привез, на прямую наводку на китайские казармы. Расчеты пусть находятся наготове. Рядом с орудиями сложите все снаряды, что у нас имеются. И... прислуги, кстати, пусть будет побольше. Все артиллеристы чтоб – при полной боевой выкладке.
– Понял вас. – Унгерн рассмеялся и приложил руку к козырьку.
Начальник китайского штаба – очень вежливый тихоголосый полковник – явился через час, сел за стол, закурил, не спрашивая разрешения у хозяина.
«Ладно, – зло подумал Семенов, – еще не вечер... А цыплят, как известно, по осени считают. Посмотрим, как ты будешь вести себя в восемь часов утра». С улыбкой налил начальнику штаба чашку чая, затем пощелкал пальцами.
На призывный щелк явился лихой младший урядник, разбудивший Семенова, и поставил на стол на плоскую закусочную тарелку обмерзшую, в искристой ледяной махре бутылку водки.
– Давайте, господин полковник, по русскому обычаю, – предложил Семенов, – тем более разоружение – штука грустная. По другим знаю. Видел, как это делается.
Поколебавшись немного, китайский полковник махнул рукой: с этими русскими как свяжешься, так обязательно напьешься.
А Семенову только это и надо было. Он наполнил стопки, поспешно поданные дежурным ординарцем, поднес свою стопку к носу, затянулся крепким спиртным духом.
Государственную водку от частной можно отличить так же, как коньяк господина Шустова от керосина. – Семенов столкнулся взглядом с глазами переводчика, понял, что до того не дошел смысл сказанного, улыбнулся и одним махом осушил стопку. Поднял ее, уже пустую, перевернул, поймал в ладонь несколько капель. – За добрососедские отношения. Между вами и нами. – Он тряхнул рюмку снова, опять поймал несколько капель. – За добрососедские отношения всегда пьют до дна.
Переводчик понимающе кивнул, что-то проговорил, наклонившись к уху начальника штаба, – не проговорил даже, а пропел.
– Прошу последовать моему примеру, – призывно произнес есаул и вновь взялся за бутылку.
Едва начальник штаба выпил, как Семенов опять наполнил его стопку. Налил и переводчику. Произнес душевно, с широкой улыбкой:
– Чувствуйте себя как дома, господа.
– Спа-си-бо, – медленно, с трудом произнес начальник штаба.
Есаул продолжал действовать по старому русскому обычаю – такого дорогого гостя, как этот начальник штаба, напоить так, чтобы он разучился не только ходить, но и даже шевелить бровями. Несколько раз начальник штаба пробовал завести разговор о разоружении, но Семенов поспешно поднимал руку в протестующем жесте:
– Это потом, потом, потом! Вначале попьем чаю, а потом будем вести деловые переговоры.
Чаепитие затянулось. Из-за стола вылезли, когда желтовато-черное глухое небо за окном пошло пятнами, будто гнилое, а с деревьев посыпался иней – было уже восемь часов утра. К подъезду был подан штабной автомобиль китайцев, но Семенов, подхватив гостя под локоток, протестующе замахал рукой:
– Нет, нет, нет, мы малость прогуляемся... Подышим воздухом.
Сопровождали их два казака с винтовками; один из них Белов, лишь недавно появился в Маньчжурии, одолев все красные кордоны, рассказал о том, что на Слюдянке – станции, расположенной недалеко от Иркутска, – красные установили плотный кордон, проскочить который, не зная местности, очень трудно, и на кордоне этом всех добровольцев заворачивают назад. «Значит, встревожились совдеповцы, – есаул довольно улыбнулся, – значит, почувствовали в Семенове силу».
Еще Белов передал есаулу газету со статьей о Семенове.
– В Иркутске на вокзале купил, – сказал он, – из газет-то я, собственно, и узнал, что вы тут находитесь, в Маньчжурии.
Газета была тиснута на плохой серой бумаге, часть букв не пропечаталась, плыла. На второй странице была напечатана статья, рисованный заголовок которой с изображением стекающих черных капель крови гласил: «Палач в казачьей форме».
– Это про меня, что ли? – недоверчиво спросил Семенов, ткнув пальцем в рисованный заголовок.
– Про вас.
Есаул вгляделся в текст, натянуто усмехнулся:
– Ну что ж, выходит, большевики начали меня ценить. Скоро, глядишь, и крупную сумму за мою голову назначат.
– Нет худа без добра, – резонно произнес Белов, – если бы не эта газета, я бы вас не нашел.
Но вернемся к Семенову, который, демонстративно пошатываясь и держа под руку китайского полковника, шел по морозной Маньчжурии.
Спекшийся крупитчатый снег так громко скрипел под подошвами, что хотелось заткнуть уши.
Полковник, едва шевеля ногами, пару раз умудрился завалиться в сугроб, но Семенов его оттуда выдернул.
– К-куда мы идем? – заплетающимся языком поинтересовался полковник.
– На площадь.
– Разве русские казармы находятся там?
– Нет, там находятся китайские казармы.
Полковник, остановившись, долго соображал, при чем тут китайские казармы, и, так ничего не сообразив, махнул рукой;
– Все равно. Пусть будут китайские казармы.
– Это надо же так нализаться, – укоризненно сжал глаза в щелочки Семенов, словно не был причастен к тому, что китаец так здорово захмелел. – Ай-ай-ай! – Сам есаул был трезв как стеклышко – ни в одном глазу.
– А когда будет разоружение? – икнув, спросил полковник.
Семенов посмотрел на часы:
– Минут через десять.
– Хорошо, – удовлетворенно произнес китаец.
– Или через пятнадцать...
– Можно и через пятнадцать, это тоже хорошо. – Полковник остановился, втянул сквозь зубы воздух, помотал головой; хотел отрезветь, но это у него не получалось. – Во всем виноват русский чай» – сказал он.
– Так точно – русский чай, – подтвердил есаул.
– Очень он крепкий.
– Ну-у, смотря на какую голову...
Миновав два узких, кривых, забитых поленницами проулка, они вышли на площадь, где располагались китайские казармы.
– О, Знакомые места, – обрадовался полковник. Он уже забыл, о чем шла у него речь с русским есаулом по дороге.
В следующую секунду полковник увидел два орудия, снятые с передков и развернутые стволами к казармам.
– Как вам это нравится? – спросил у полковника Семенов.
Хмель слетел с китайского начальника штаба в несколько мгновений; от такого быстрого преображения полковник, будто от холода, застучал зубами.
– Что это такое? – спросил он дрожащим голосом.
Есаул, не глядя на полковника, скомандовал артиллеристам:
– Заряжай!
Те послушно лязгнули замками орудий и вогнали в стволы по одному снаряду.
– Молодцы! – похвалил артиллеристов Семенов и повернулся к полковнику: – Значит, так... Передайте вашему командующему мой ультиматум: в течение четверти часа он должен быть здесь, около орудий, с ручкой и чернилами – мы подпишем договор о дружбе и союзе со мною. Если это требование не будет выполнено, я разгромлю ваши казармы и все, что в них находится,
– Хоросо, хоросо, все путет хоросо, – скороговоркой пробормотал начальник штаба и бегом припустил в казармы. Переводчик споро потрусил за ним.
Китайский генерал вместе со свитой прибыл к орудиям через десять минут – это Семенов засек по часам. Адъютант нес следом за генералом чернильницу, укутанную в дамскую меховую муфту, чтобы чернила не замерзли, ручку и несколько листов бумаги. Подойдя к есаулу, генерал козырнул ему, словно старшему по званию. Семенов небрежно козырнул в ответ.
– Я же сказал – принести ручку и чернила, бумага не нужна... Бумага у нас есть своя, – Есаул щелкнул пальцами, и бравый дежурный ординарец протянул ему изъятую где-то у чиновников – только у них на столах можно найти такое – кожаную папку.
Семенов открыл папку. Там лежали два листа бумаги, на которые был нанесен – от руки – текст на русском и китайском языках. Это был «заранее заготовленный, немногословный, но сильный по духу и определенный по содержанию приказ», в котором говорилось, что «китайский генерал приказывает всем подведомственным ему чинам относиться к есаулу Семенову и его частям как к союзным войскам и строго запрещает всякие выступления против них».
Китайский генерал, не произнеся ни слова, подписал приказ. Один экземпляр Семенов отдал ему, другой оставил себе.