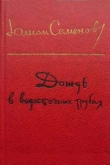Текст книги "Атаман Семенов"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Так точно, сударыня. Буряты-агинцы. Разве вы никогда не слышали о таких?
– Мне всегда казалось, что буряты и монголы – это одно и то же.
– Не совсем. Монголы – это даргинцы, а буряты – агинцы. Честь имею, мадемуазель! – Семенов лихо козырнул и, не желая больше продолжать разговор с юной особой, вывел казаков из трамвайного вагона.
Но как известно, в природе существует закон парности случаев: всякая история, даже самая маленькая, имеет свойство повторяться.
Смотреть на прославленных русских борцов не поехали – отправились в Кремль. В Кремле Семенов приосанился: вспомнил занятия в казачьем училище в Оренбурге, часы, проведенные в кабинете истории Российской империи, и стал объяснять агинцам на их родном языке, что такое Москва и Кремль в ней. Объяснял, конечно, как мог – слишком многое он уже забыл, – кое-где вообще перевирал факты и даты, ловил себя на этом, но не поправлялся. Это самое последнее дело – поправляться перед подчиненными, враз потеряешь авторитет.
«В это время вблизи нас оказались две дамы и мужчина, – вспоминал впоследствии Семенов в своей книге «О себе», описывая кремлевскую экскурсию. – Они усиленно прислушивались к нашему разговору и, конечно, ничего не могли понять. Вдруг мужчина обращается, долго ли мы находились в пути и не устали после длинности дороги?»
Сотник Семенов поправил кончиком мизинца усы и начал рассказывать, как они тридцать три дня тряслись в дырявых жестких теплушках, что видели и вообще, какова Сибирь первого месяца войны. Мужчина и его спутницы внимательно слушали. Затем, как отметил Семенов, обе дамы «начали с чувством глубокого участия говорить много приятного по нашему адресу».
Семенов понял, что их вновь, как и в трамвае, приняли за японцев, одетых в русскую форму. В нем опять возникло что-то злое, секущее, он был готов наговорить резкостей, но сдержал себя.
«Когда я пытался разубедить их в этом и сказал, что мы – забайкальские казаки, то одна из дам возразила, что, возможно, офицеры действительно русские, но солдаты, без сомнения, иностранцы, так как она слышала наш нерусский разговор. Они уверяли меня в своей благонадежности и указали, что я напрасно скрываю обстоятельство, всем известное, о том, что идут японцы. Я не сомневаюсь, что многие жители Европейской России принимали нас за японцев, и, возможно, агенты противника не раз искренне вводили в заблуждение свои штабы несоответствующими истине донесениями».
Мужчина неверяще помотал одной рукой.
– Вы, господин офицер, скрываете правду, – заявил он. Лицо его от волнения аж пошло пятнами. – Но представьте себе, как мы благодарны нашим восточным соседям за то, что они пришли России на помощь...
Разошлись, недовольные тем, что не поняли друг друга.
Через три дня эшелон с забайкальскими казаками отправился на фронт, в Польшу, остановился недалеко от Варшавы, в местечке, о котором Семенов никогда не слышал, – в Ново-Георгиевске.
...Казаки сразу поняли, что сотник Семенов умеет воевать. Он словно был рожден для войны. А главное – с ним в атаку идти было нестрашно – Семенов принадлежал к тем командирам, которые никогда не бросают своих подчиненных на произвол судьбы и тем более не оставляют их в беде.
В глазах у сотника при виде противника появлялась некая хмельная веселость, губы раздвигались в победной улыбке, усы вслушивались, будто у зверя, почувствовавшего добычу, он мог не задумываясь в одиночку кинуться на десяток немцев сразу.
Лошади у казаков были в основном степной породы – забайкалки. Невысокие, гривастые, со звероватым оскалом крупных зубов и налитыми кровью глазами. В бою они вели себя отменно, не боялись ни стрельбы, ни взрывов, смело шли грудью на прусских широкозадых битюгов[6] 6
Битюг — крепкий ломовой конь, плотная рослая лошадь.
[Закрыть], норовили сбить их с ног, хрипели, грызли зубами, вставали на дыбы, в любой миг были готовы нанести всякому зазевавшемуся германскому лошаку удар копытами по храпу – немецкие лошади свирепых забайкалок побаивались, шарахались от них, отказывались слушаться всадника, разворачивались на сто восемьдесят градусов, норовя удрать домой…
Одно было плохо у забайкалок: они уступали прочим лошадям в скорости. У Семенова же под седлом ходил чистопородный конь, очень выносливый, быстрый – сотник часто отрывался от казаков, а в атаке оторваться от своих и остаться без прикрытия – штука опасная, может плохо кончиться. Так запросто можно въехать в плен. Но Семенов этого не боялся.
Полтора месяца бригада, в составе которой находился Первый Нерчинский полк, воевала под Варшавой, действуя успешно, потом переместилась к городу Ново Място.
Девятого ноября 1914 года сотник Семенов взял с собою пятнадцать казаков и отправился с ними в разведку, за линию фронта.
Задача у Семенова была усложненная: надо было не просто произвести разведку, тихо прийти и, собрав сведения, тихо уйти, а шквальным ветром налететь на немцев в районе Остатние Гроши, где были замечены некие тактические перемещения войск, в коротком жестоком бою выяснить, сколько же у германцев сил и где располагаются огневые точки, и попытаться живыми вернуться назад.
Ноябрь в Польше выдался слякотный, земля разбухла от дождей, сделалась угольно черной, какой-то неприятной, червивой – из-под копыт забайкалок вместе с сырыми ошмотьями земли во все стороны, будто лапша, летели жирные дождевые черви. Лошади шарахались от них, оскользались, от мокрых шкур шел пар, лица казаков были сосредоточенны и бесстрастны.
По пути попалась фура с понурым немцем, наряженным в шинель-большемерку, горбом собравшуюся у него на спине. Семенов с гиканьем устремился к нему, на скаку вытягивая из ножей шашку. Немец вскинулся в фуре, защищаясь от удара руками. Семенов рубанул прямо по рукам, перебил их клинком – отхваченные кисти рук, брызгаясь кровью, с мягким стуком шлепнулись в фуру; немец завизжал, в следующий миг жалобный визг его обрезала шашка, развалившая пополам голову. Из раскрытого, словно бутон, черепа под копыта семеновского коня посыпался крупитчатый розовый мозг.
Разведка, не задерживаясь, поскакала дальше.
Через сорок минут спешились в небольшом сыром лесочке. На макушках елей висели неряшливые клочья тумана, будто куски серой мокрой ваты, с веток капала холодная влага, по-синичьи тенькала, всаживаясь в землю; если такая капля попадала за воротник, то пробивала холодом до самого крестца. Казаки невольно ежились.
Мимо леска проходила проселочная дорога с двумя обледенелыми колеями, совершенно пустынная, невдалеке были видны немецкие окопы со свеженасыпанными желтовато-черными брустверами. Чтобы хоть как-то замаскировать эти слишком бесстыдно обнаженные брустверы, немцы накидали на насыпь сушняка, сохлой травы, длинных кудрявых веток, бурьяна, кое-где даже вдавили в землю серую, содранную с крыш черепицу, листов пятнадцать, не меньше. Семенов, стоя с биноклем под елью, минут двадцать обследовал окопы.
Было понятно, что немцы приготовились оставить линию фронта, отступить и после броска в собственный тыл нырнуть в эти окопы.
Слева, в таком же сыром лесочке, Семенов обнаружил несколько артиллерийских фур, окрашенных в защитный цвет, загруженных длинными деревянными ящиками, в которых перевозили артиллерийские снаряды.
Самых пушек не было видно – их либо закатили в глубину леса, либо еще не успели подтянуть. Семенов сделал на карте несколько пометок.
За окопами, примерно в сотне метров, виднелись дома– деревянные, бедные, с высокими темными крышами и ровными редкими заборами. «Интересно, где же немаки взяли черепицу? – возник в мозгу невольный вопрос. – В селе нет ни одной черепичной крыши. Если только где-нибудь в глубине села завалили кирху? Вряд ли». Семенов провел линзами по домам. Пусто. Тихо. На улицах ни одного человека.
«Вот мокрицы, – у Семенова задергался ус, – попрятались по норам. Чуют многоножки, что будет большая молотилка». Неожиданно сотник увидел стремительно пересекшего деревенскую улицу человека, одетого в полевую егерскую форму, – тот вышел из-за одной ограды и поспешно нырнул за другую.
Семенов внимательно изучил палисадник, в который нырнул егерь. Никаких бросающихся в глаза примет. Даже намека нет на то, что там могут находиться военные, и все же вскоре сотник обнаружил полевую кухню, спрятанную под двумя яблонями. Точно такую же кухню Семенов нащупал биноклем и в том дворе, откуда выскочил егерь, – кухня была спрятана за сараем и, чтобы она не была видна с воздуха, с русских аэропланов, затянута сверху старой рыбачьей сетью.
Две полевых кухни в одном селе – это уже что-то, кухни наводили на кое-какие мысли. В Остатних Грошах стояла воинская часть.
– По коням! – скомандовал сотник.
Казаки поспешно позабирались на лошадей.
– Ну что, братцы, есть желание посмотреть, кто в этой деревне живет?
– Как скажете, ваше благородие, так и будет.
– Как скажу... – Семенов хрипловато засмеялся, лицо его сделалось хищным, – так и скажу. За мной!
Он первым вынесся из леска и наметом пошел по проселку в сторону деревни. На скаку – это движение стало у него уже привычным, рукоять клинка словно бы сама припечатывалась к ладони, к пальцам, – вытянул шашку из ножен.
В деревню они ворвались вихрем. Сотннк гигикнул, боевой клич этот подхватили казаки – тоже загигикали, заулюлюкали, засвистели, лошади-забайкалки заплевались пеной, захрипели злобно.
На улицу вывалилось несколько немцев в егерской форме – егерей, похоже, здесь было не менее батальона, – один из них пальнул в сотника из винтовки, но промахнулся, пуля просвистела у Семенова над самой папахой, подпалив на ней несколько скруток шерсти; сотник, словно почувствовав горячий свинец, вовремя пригнулся – во второй раз солдат выстрелить не успел, Семенов рубанул его шашкой по шее, снеся голову, будто кочан капусты, и немец, выпустив из рук винтовку, завалился на спину... Второго егеря, слишком близко оказавшегося около всадника, Семенов проткнул острием шашки, словно штыком.
Несмотря на азарт атаки, от острого глаза Семенова не ускользнуло ничто – ни две штабные машины, стоявшие во дворе широкостенного, по-купечески вольно расположившегося на земле дома, ни одинокая гаубица, нашедшая себе место во дворе следующего дома, под прикрытием высоких, блестящих от влаги слив, ни повозка, в которой на треноге был установлен пулемет, ни грузовики, накрытые брезентом.
Все это Семенов засекал на скаку, увиденное прочно отпечатывалось у него в мозгу.
Кто-то из казаков, скакавших сзади, бросил в машины гранату. Раздался взрыв. Следом грохнул еще один взрыв.
Сотник метнулся на коне в сторону, перемахнул через низкую плетеную изгородь и бросил гранату в повозку, на которой стоял тупорылый, с блестящим язычком дула, высовывавшимся из кожуха, пулемет.
Взрыв расколол воздух, когда Семенов был уже далеко, под осколки попал один из немцев, сотник лишь услышал далекий, словно принесшийся из преисподней вскрик...
Деревню проскочили на скорости, погони за казаками не было – слишком стремительной получилась эта атака, на обычную атаку не похожая, а за ветром, как известно, угнаться непросто, – нырнули в ближайший, темный от осенней мокрети лесок. Леса здесь растут, как грибы – семьями, с замусоренными опушками, круглые, густые, в солнечную пору очень приветливые, в смурную – угрюмые, с темной лешачьей порослью колючих кустов, плотно обложивших стволы. Из-под копыт семеновского коня неожиданно выскочил заяц, метнулся в сторону. Казаки заулюлюкали.
– Как бы косой не обмокрился от страха.
– Здешние косые – боевые мужики, такие пустяки, как казацкие кони, их не пугают, – больше всех балагурил Белов.
Агинцы, еще месяц назад требовавшие себе переводчика, научились немного разуметь по-русски, и не только разуметь, но и говорить.
– Шпрехайте, шпрехайте больше – людьми будете, – втолковывал им Белов, – научитесь говорить по-русски, потом будете учиться шпрехать по-немецки...
И агинцы старались.
Семенов выставил дозор из трех человек, остальным велел спешиться. Через двадцать минут он отправил в полк двух казаков с донесением о том, что он обнаружил в Остатних Грошах, сам же решил еще немного побыть в немецком тылу.
Больше часа простоял Семенов с казаками в круглом, будто краюха хлеба, лесочке, ожидая, что кто-то вдруг появится на пустынной дороге, украшенной двумя длинными блестящими полосками льда – тележный след на проселке обледенел и выделялся очень заметно, – но дорога была удручающе пуста. Видимо, налет казаков на Остатние Гроши испугал немцев.
– Отходим, – негромко произнес Семенов, садясь на коня.
Кони были накормлены, казаки перевели дух, перекурили и перекусили. Пора было двигаться дальше.
В тот день Семенов совершил еще один налет на небольшую немецкую часть, вздумавшую расположиться на отдых в глухом, с высокими закраинами, хорошо защищающими от ветра овражке. В коротком бою сотник зарубил немца, пытавшегося развернуть против казаков пулемет и дать очередь, захватил в плен штабного велосипедиста с перекинутой через плечо кожаной сумкой, – затем казаки ветром пронеслись по улицам двух заштатных польских деревенек, но немцев там не обнаружили и на ночлег расположились в лесу.
На большой поляне, плотно прикрытой деревьями, развели костер, на рогульках подвесили несколько котелков – надо было хотя бы раз в сутки поесть горячего, потом, выставив часовых, забылись в коротком сне. Ночью было холодно. Спали в бурках. Иногда кто-нибудь примерзал к земле, к веткам, к полегшей траве, и его приходилось отдирать вместе с буркой. Казаки ругались. Семенов успокаивал их:
– Настоящий солдат должен познать все – и мороз, и жару, а уж по части, где переспать, должен пройти все огни и воды.
– Уж лучше решать вопрос, с кем переспать, а не где, ваше благородие. – Это был Белов, такие шуточки мог отпускать только он.
Белов дробно, по-синичьи, рассмеялся.
Сотник неопределенно мотнул головой – не понять, поддерживает он Белова или нет, хотя глаза у него на мгновение сделались жесткими. Впрочем, на поверхность ничего не выплыло, сотник сдержал себя – язык ведь без костей, что хочет, то и мелет, – и произнес добродушным тоном:
– И такое в нашей жизни обязательно будет. Доживем и до этого.
– Доживем до понедельника, ваше благородие, а там, глядишь, хлеб подешевеет, – пробормотал Белов угасающим голосом, натянул на голову бурку и уснул.
Утром снова начали месить мерзлую грязь на тыловых дорогах, но безуспешно – то ли немцы успели предупредить своих о шальных казаках, прочесывающих тылы, то ли произошло еще что-то, Семенов, покрякав от досады, подкрутил усы и решил возвращаться в полк, всего несколько дней назад осевший в Сахоцине – зеленом местечке, богатом цирульнями, плохим виноградным вином, голенастыми крутобедрыми девками и черствым хлебом, который местные пекари готовили с добавлением картошки и мелко смолотой кукурузы.
– Задание мы выполнили еще вчера, – справедливо рассудил Семенов, – пора и честь знать.
День прошел быстро, попасть в Сахоцин засветло не удалось, и Семенов решил заночевать в маленькой, черной, словно насквозь прокопченной дымом, измазанной сажей деревушке. Чумаза деревушка была настолько, что невольно думалось – а не живут ли тут ведьмы, у которых метлы работают на смеси дегтя с мазутом? До Сахоцина осталось идти совсем немного – пятнадцать верст, но в темноте решили не рисковать, иначе кони останутся без ног.
Ночь хоть и была ветреной, темной, с низкими удушливыми облаками, а прошла спокойно, утро наступило серое, какое-то беспросветное, лишенное не только радости и броских красок, но даже свежего воздуха. Откуда-то издалека понизу полз вонючий, пахнущий незнакомой химией дым. Словно где-то горела фармацевтическая фабрика.
Было тихо. Только на западе, километрах в пяти от деревеньки, грохотало одинокое орудие, раз за разом посылая в невидимую цель снаряды. Семенов, приложив ладонь ковшом к уху, прислушался к орудийным ударам: наша пушка или немецкая?
Определял он это по неким неведомым приметам, и когда у него спрашивали, в чем разгадка, лишь смеялся в ответ да произносил одну и ту же фразу:
– Не знаю.
Он действительно не знал, чем отличается звук немецкого орудия от нашенской лихой пальбы – выстрелы были похожи, будто близнецы, и в то же время какое-то различие между ними было, Семенов угадывал это различие интуитивно, на подсознательном уровне, но словами описать это не мог.
– Наше орудие лупит, – прислушавшись к далеким ударам, вынес вердикт сотник. – Только чего оно так далеко делает? Там же немцы.
– Может, пока мы мотались по разным Остатним Грошам, карта фронта перекроилась? – предположил Белов.
– Может, и перекроилась. – Семенов резким движением . подтянул подпругу на седле и в ту же секунду ловко взлетел на коня. Скомандовал тихо, словно только для самого себя: – Уходим.
– А как же, ваше благородие, с завтраком быть? – спросил сотника казак с черными, блестящими, как у таежной птицы, глазами, теряющимися в длинных лохмах бараньей папахи. Фамилия его была Никифоров, в полк он прибыл из-под Хабаровска, из маленького железнодорожного городка под названием Алексеевск, имеющего узловое значение; городок так был назван в честь наследника престола[7] 7
…Алексеевск...назван в честь наследника престола... – Алексей (1904-1918), сын Николая II, расстрелян в Екатеринбурге. Город в 1924 г. переименован в г. Свободный.
[Закрыть], юного цесаревича. Семенов Никифорова приметил, как приметил и Белова: эти казаки, несмотря на некий мусор в голове, – надежные.
– Что, Никифоров, на яишню потянуло?
– Потянуло, – не стал скрывать тот.
– В Сахоцине твою яишню и съедим, – сказал Семенов.
Но позавтракать в Сахоцине не удалось. Едва подъехали к этому маленькому городку, украшенному высокими голыми тополями, как услышали длинную пулеметную очередь, за ней – несколько винтовочных хлопков. Сотник немедленно вздыбил коня, предупреждающе поднял руку:
– Стой, казаки!
Стрельба ему не понравилась. Казачий полк – это серьезная боевая единица, с которой не рискует связываться даже целая немецкая днвизия, и если кто-то позволил себе напасть на Сахоцин, то, значит, напал крупными силами.
Раздалось еще несколько винтовочных хлопков. Кто может позволить себе стрельбу в городке, занятом казаками? Может, перепившие офицеры? Послышалось еще несколько выстрелов. Семенов вскинул к глазам бинокль – немецкий, снятый с убитого артиллерийского обер-лейтенанта; в России приличные военные бинокли не производили, и факт этот каждый раз, когда сотник брался за бинокль, рождал у него ощущение досады – не хотелось пользоваться немецким.
Сильные линзы позволили отчетливо видеть разбегающихся людей. Вот один бородатый солдат в обмотках лихо перемахнул через высокую изгородь из колючих кустов, вознесся над другой колючей грядой, но, подбитый пулей, упал на нее. Рука свесилась с жесткого куста, энергично заработала клешнястыми пальцами.
Это была атония. Бородатый солдат умирал.
«В городе немцы! – у Семенова от одной только этой мысли невольно зачесались кулаки. – Откуда они здесь?» Новость была неприятной. Пока казаки прочесывали немецкие тылы, германцы неплохо поработали в тылах наших.
Вот в окуляр попал всадник – из городка, отчаянно размахивая руками на скаку, несся одинокий казак. Вдогонку ему хлобыстнула винтовка. Потом ударила еще раз. Семенов выругался и ударил коня плеткой, тот, бедняга, едва не застонал от боли. Сотник пришпорил его и понесся навстречу одинокому всаднику – показалось, что за ним сейчас устремится погоня и ее надо будет отсечь. Но погони не было.
Увидев впереди казачий разъезд, всадник свернул к нему. Сотник вновь вскинул бинокль, чтобы получше разглядеть этого расхристанного, без фуражки и пояса, человека и невольно вздрогнул – это был его собственный денщик Чупров. И конь, на котором скакал Чупров, был также хорошо знаком сотнику – это был его личный конь, чистокровный норовистый жеребец. Вряд ли этого коня могли догнать короткохвостые немецкие битюги.
– Стой, Чупров! – издали закричал денщику сотник. – Стой!
Но Чупров ничего не слышал – ветер свистел у него в ушах, все забивал. Не доехав двадцати метров до казаков, Чупров остановился. Тяжело, боком, сполз с коня. Отер рукою пот е лица и едва слышно шевельнул губами:
– Слава богу, выбрался...
– Ну, Чупров, если ты испохабил копыта моему коню – берегись! – Семенов не выдержал, сжал руку в кулак.
Коня в отсутствие сотника должен был подковать полковой коваль, но не подковал – что-то, видимо, помешало...
– Бездельники! – Остывал Семенов быстро – так же быстро, как и загорался. – Чего там случилось, Чупров?
А у Чупрова уже дрожал от обиды рот.
– Извиняйте насчет коня, ваше благородие, и вообще извиняйте, ежели что не так... Но другой возможности вырваться из Сахоцина не было.
– Извиняйте, извиняйте, – проворчал Семенов по-стариковски, – скакал бы по пахоте – тогда другое дело, а тебя понесло на трамбовку.
– Иначе бы не ушел, Григорий Михайлович.
– Докладывай, что произошло, – потребовал сотник, остывая окончательно. – Где полк? Что за стрельба?
Полк снялся еще вчера и ушел вышибать из-за реки «вильгельмов», а здесь... здесь остались только два обоза, – Чупров провел рукой по лицу, увидел на пальцах кровь – у него была разбита верхняя губа, – два обоза, значит, да штабные фуры... Воевать некому.
– Немцев много?
– Около полка примерно.
– Около полка или примерно?
– Примерно около полка, – тупо повторил Чупров. Он еще не отошел от скачки, от того, что пережил, – может быть, даже больше. Налетели внезапно, как вороны... Знаю еще, что два немецких эскадрона спешились.
– Где?
–Да у церкви ихней, у этой... как ее? Ну, на «цырлих-манирлих» слово похоже. С буквой «це».
– У кирхи, что ли?
– Во-во. С буквой «хэ». Заставу из «вильгельмов» выставили. – Чупров упорно называл немцев «внльгельмами». Все называли по-разному – «гансами», «фрицами», «адиками», выбирая слово поудобнее для языка, а Чупров называл «вильгельмами» – словно в недобрую память о ненавистном кайзере, не в честь, а в память. – И что еще плохо...
– А почему стрельба такая редкая? – перебил денщика Семенов.
– Это немцы по разбежавшимся обозникам пуляют, в каждого в отдельности. И что еще плохо, я говорю, ваше благородие, они знамя нашенское в плен захватили.
– Ма-ать честная! – Сотник невольно присвистнул, лицо его исказилось, и он привычно поднял коня на дыбки, выкрикнул резко, со слезой, будто сорока, в которую угодил заряд дроби: – Братцы, это что же такое делается? Немцы захватили наше знамя! – Лицо у сотника обузилось, сделалось хищным, незнакомым. Семенов вытянул из ножен шашку, с лязганьем загнал ее обратно. – За мной!
Это была отчаянная атака.
Ну что, казалось бы, мог сделать десяток усталых, плохо выспавшихся всадников против немецкого конного полка или даже хотя бы двух спешившихся эскадронов? В городе, как потом выяснилось, было больше полка – четыре эскадрона...
Немцы готовились уйти из Сахоцина, но не успели. Два эскадрона сопровождали длинный неповоротливый обоз, двигавшийся с черепашьей скоростью. Чего только в этом обозе не было – и четыре сейфа с важными штабными документами, и канцелярия Уссурийской конной бригады вместе со столами, замкнутыми на ключи, и целый ворох ценных казачьих бурок, присланных с Кубани, – их не успели раздать казакам, и семьдесят ящиков с заряженными пулеметными лентами и сами пулеметы – новенькие, с еще не стертой смазкой «максимы», тревожно вскинувшие к небу свои ровно обрубленные, похожие на поленья стволы, и горы офицерского обмундирования, загруженного в фуры с высокими бортами, и главное – знамя Первого Нерчинского казачьего полка – целая штука[8] 8
Штука – целый, нетронутый предмет, изделие, рулон ткани.
[Закрыть] тройного шелка, без которой полк не имел права на существование.
– За мной! – вновь громко прокричал Семенов.
Запоздало оглянулся, почувствовал, как боль стянула ему скулы, выругался матом – сзади скакал Чупров, не отставал от казаков. Семенов погрозил ему кулаком:
– Отзынь! Коня мне запорешь!
Чупров его не понял, продолжал скакать, и Семенов, покраснев от натуги, от азарта, от злости, от досады на ординарца, словно тот был во всем виноват, заорал что было мочи и врубился в кучу сцепившихся немцев, полоснул одного шашкой по голове, потом с оттяжкой рубанул другого.
Среди немцев поднялась паника.
– Знамя! Где знамя? – прорычал Семенов, будто немцы понимали русскую речь и могли разобраться в его рычании, метнулся в сторону, легким ударом шашки перерубил кожаные поводья, соединявшие десяток задастых крепких битюгов, собранных вместе, которые с визгом унеслись кто куда. Немцы остались без лошадей.
– Где знамя? – вновь прорычал Семенов, устремляясь в освободившийся проулок.
Казаки, размахивая шашками, выкрикивая что-то азартное, ринулись за ним следом.
– Дас зинд казакен! – послышался испуганный крик.
– Казакен, казакен, – подтвердил Семенов, продолжая орудовать шашкой.
Через несколько минут он догнал последнюю подводу обоза – с высокими бортами, нагруженная офицерскими сапогами, обоз еще не успел уйти, – ездовой, старый худой немец в роскошной каскетке, сияющей медью и лаковым обтягом кожи, сидел на скрипучем, пахнущем ворванью[9] 9
Ворвань – устаревшее название жира морских млекопитающих и некоторых рыб.
[Закрыть] верху, как на груде соломы, и шлепал вожжами лошадей.
Увидев Семенова, он взвизгнул надорванно, будто получил удар ногой в низ живота, в самое важное место, и стремительно соскользнул с пароконки[10] 10
Пароконка – повозка, запряженная парой лошадей.
[Закрыть] на оглоблю, похожую на длинный орудийный ствол, с нее спрыгнул в чистый, присыпанный песком кювет, откатился в сторону, прикрывая голову руками.
Сотник не стал стрелять: ездовые – самые безобидные люди среди врагов – как правило, немощные, убогие, скрюченные ревматизмом, разноногие, криворукие – их жалеть надо, а не убивать. А вот «вильгельмов», как величает этот народ Чупров, небрежно пошлепывающих своих битюгов ладошками, каждый раз стараясь дотянуться до жирного конского зада, он сейчас здорово пощекочет шашкой.
–Аль-ле-лю-лю-лю! – зашелся в крике сотник, заводясь от этого крика сам, делаясь сильнее, злее, ловчее, привстал на стременах, прокрутил шашкой над головой «мельницу» – блестящий клинок работал как пропеллер «ньюпора» – боевого самолета, находящегося на вооружении у русской авиации. – Аль-ле-лю-лю-лю!
Конь под Семеновым был хороший, как и все его кони, – мог носиться, словно ветер, у дончака даже шкура задрожала, пошла сыпью от крика хозяина; запасной конь, на котором сейчас скакал Чупров, был еще лучше.
Сотник перестал крутить шашкой «мельницу», рубанул клинком воздух – раздался жесткий свист, на который оглянулись сразу несколько немцев.
– Казакен! – вновь послышался заполошный крик, и немцы – целых два эскадрона, хорошо вооруженных, сытых, – даже не достав клинки из ножен, бросились от казаков врассыпную.
Ездовые – как один похожие на убогого немца, слетевшего с горы офицерских сапог, – горохом посыпались со своих возов, стараясь слиться с каким-нибудь кустом, раствориться в сухой крапиве, обратиться в мышь, в таракана, лишь бы не видеть этих страшных казаков.
Сотник точно вычислил, в какай повозке находится знамя – оно лежало в новенькой двуколке, придавленное грудой штабных бумаг, – круто развернул коня и, словно дух, возникший из ничего, встал перед двуколкой.
Ездовой с вытаращенными глазами вскинулся в двуколке в полный рост и поднял руки.
– А ну пошел вон отсюда! – зарычал на него Семенов, легким движением шашки обрезал постромки; освободившиеся лошади захрапели испуганно, а ездовой продолжал тянуть вверх руки. – Я же сказал – вон! – выкрикнул сотник, перепрыгивая в двуколку.
Похоже, только сейчас ездовой понял, как ему повезло: он всхлипнул благодарно и так, с поднятыми руками, и исчез. Не война, а чудеса какие-то. Человек может исчезать в одно мгновение.
Древко знамени торчало из-под синих папок, к которым были приклеены аккуратные белые этикетки с интендантским перечнем. Сотник небрежно сплюнул за борт двуколки, лицо у него исказилось, стало чужим, каким-то кошачьим, усы вспушились. Он выдернул знамя из-под папок. Прорычал недовольно, чувствуя, как у него подрагивает от возмущения подбородок:
– Развели тут бумаги, крысы штабные!
Штабистов Семенов, как и многие забайкальцы, особенно окопники, не любил – они казались ему слишком высокомерными, погруженными в дворянскую заумь, не способными держать шашку в руках... А что главное для солдата в пору войны? Колоть врага шашкой, будто колбасу, и подмазывать кипящим салом пятки, чтобы «колбаса» эта бежала быстрее. При встречах со штабными офицерами, даже со старшими по званию, Семенов холодно улыбался и отворачивался в сторону. Приветствовал их только тогда, когда этого невозможно было избежать.
Сотник перекинул знамя Белову:
– Держи!
Тот ловко поймал его, развернул; Семенов вновь вскочил в седло, увидел замешкавшегося немчика в новой, еще не обмятой форме и решил захватить его в плен. У немчика неожиданно закапризничала лошадь – такое часто бывает, и всадник, вместо того чтобы огреть ее пару-тройку раз плеткой и быстро привести в чувство, начал с большезадой гнедой кобылой валандаться, уговаривать ее, успокаивающе хлопать ладонью по холке.
– Дур-рак! – прорычал Семенов, устремляясь наперерез к немчику.
Немчик оглянулся на дробный топот копыт, вскрикнул надорванно, словно преследователь выстрелил в него, залопотал что-то, давясь словами, воздухом, собственной оторопью – на него даже противно глядеть было; в это время кобыла его, будто почувствовав опасность, рванула с места так, что в разные стороны полетели невесть откуда взявшиеся мокрые комья земли.
– Дур-рак! – вновь хрипло прорычал Семенов, который знал, что немчика этого все равно догонит и возьмет в плен.
Похоже, одуревший неумеха этот добавил немцам паники: из-за домов на рысях выскочил целый эскадрон, увидел казаков и припустил лошадей от забайкальцев так, что на копытах лошадей только подковы засверкали, через несколько минут он смял другой эскадрон, шедший впереди. А ведь немцам ничего не стоило развернуться – хотя бы одному-двум десяткам человек, – и тогда Семенов со своими людьми увяз бы в рубке...
Отовсюду неслись панические крики:
– Казакен!
А Семенов как выбрал себе одну цель – немчика-кавалериста, испуганно встряхивающегося в седле, – так и продолжал ее преследовать, скалил зубы, будто волк, и крутил около головы коня плетку, пугая его, и тот на скаку всхрипывал и старался отвернуть голову от плетки в сторону.
Вр-решь, не уйдешь, – пробормотал Семенов угрожающе, глядя на спину немчика, обтянутую добротным форменным шабуром, утепленным меховой подкладкой, чтобы владельцу было не холодно рубать русских солдатиков, чтобы не застудился родимец, размахивая сабелькой во время исполнения своего воинского долга.
И вообще, все на этом немце сидело ладно, было специально подогнано, все – добротное, новенькое, необмятое, неспешно, с толком и умом сшитое, – видно, на войну он пошел как на некий праздничный променад, где могут повстречаться красивые девушки, на которых надо будет произвести неизгладимое впечатление.