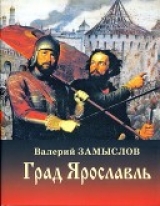
Текст книги "Град Ярославль (СИ)"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Михеич же давно заприметил старательного парня и как-то сказал:
– Хочешь на стены подняться?
– На кладку глянуть?
– На кладку, паря. Постой подле меня.
На упругих щеках Первушки вспыхнул румянец, будто его чем-то крепко смутили. Он уже ведал, что означало «постоять» подле Михеича. Неужели и он, как заправский подмастерье, начнет кирпичи выкладывать?!
Стоял час, другой, цепко приглядываясь к ловким, уверенным рукам Михеича, а затем, вновь зардевшись как красна-девица, робко спросил:
– Можно мне кирпич положить?
– Попробуй, паря.
Первушка разом взмок, будто на Тугову гору многопудовый куль тащил. Господи, не уронить бы себя в глазах Михеича! Главное, слой раствора правильно положить, чтоб не мало и не лишку было, иначе кирпич осядет или наоборот «выпучится».
Дрогнул мастерок в руке, а Михеич, заметив волнение ученика, отвернулся от него и принялся наставлять молодого, конопатого ярыжку, кой уплотнял глину увесистым чекмарем.
– Ты чего, Фролко, как молотом о наковальню бухаешь? Тут те не кузня. Помягче, помягче уминай!
Пока мастер выговаривал ярыжке, Первушка уложил свой первый кирпич. Прикинул, кажись, лег ровно и плотно, не выбиваясь из кладки. Отлегло от сердца, унялось волнение.
– А у тебя, паря, глаз наметанный. А ну-ка еще пару кирпичей.
Теперь уже Михеич дотошно смотрел на работу Первушки. Но тот не подкачал, справился, выложив добрый десяток кирпичей.
– Отныне ежедень будешь на стенах. Беру тебя своим подручным.
После этих слов счастливей Первушки на белом свете не было!

Глава 7
В ОБИТЕЛИ
По воскресным дням Первушка ходил в Спасо-Преображенский монастырь. Не для молитвы посещал обитель, а дабы лишний раз полюбоваться древней твердыней и каменными храмами. Непременно останавливался в Святых воротах, и в который уже раз отмечал искусную работу мастеров, выложивших мощную, неприступную, хитроумную башню с бойницами и боковыми воротами в отводной стрельне. И вновь, дотошно разглядывая твердыню, восторженно думал:
«Ай да мастера! В главный вход супостату не вторгнуться: стрельня надежно прикрывает. А коль все же вражья сила сунется, вся поляжет. Не зря мастера бойницы сотворили, из них не только стрелами, но пищальным дробом ворога приласкают. Башня-ловушка!
Первушка мысленно вообразил, как супостаты, даже пробив Святые ворота и ворвавшись внутрь стрельни, попадают в западню. Они становятся слепыми, как котята: ведь через брешь не видно главных ворот, ибо они сбоку. Чтобы пробить ворота, надо внутрь стрельни затащить пушки и развернуть громоздкие орудия в тесном проходе. Но в это время из бойниц гремят выстрелы, льется кипящая смола, падают охапки горящего льна. Слышаться стоны и вопли раненых, и обожженных врагов.
Так им и надо, супостатам! Не зря изографы расписали арки Святых ворот пророчествами о конце света. Ишь, как чудовищные драконы пожирают людей. Кромешный ад поджидает неприятеля в сей диковинной башне.
Затем Первушка заходил в нутро обители и подолгу стоял подле каменных храмов Спасо-Преображения и Входа в Иерусалим. Собор был трехглавым с закомарным покрытием, окруженным с южной и западной сторон галереями-папертями.
От всего облика собора с прорезанными узкими, щелевидными окнами, напоминающими крепостные бойницы, веяло не смирением, а суровым мужеством. Вот и здесь искусные зодчие видели не только храм, а последний оплот защитников крепости.
«Последний, – подумалось Первушке, – ибо супостаты уже ворвались в обитель, перевалившись через стены обители, а защитники укрылись в соборе. Других надежд на спасение нет, но собор-крепость дает возможность сражаться с врагами в отчаянный час битвы. Все-то предусмотрели зодчие. Воздвигая храм, они ведали: защитники не бросят щиты, мечи и копья, не запросят пощады, не сдадутся чужеземцу, а вынудят его обильной кровью добывать последнюю твердыню.
Ласкали глаз стены, арки и своды собора, искусно расписанные, как поведал Надей Светешников, московскими и ярославскими изографами.
– То «братская» стенопись, Первушка.
– Почему «братская»?
– Расписывали собор два брата из Москвы: Третьяк и Федор Никитины, а вкупе с ними – Афанасий и Федор Сидоровы из нашего града. А было тому, почитай, полвека.
«Знатные были изографы, – вновь подумалось Первушке. – Много лет миновало, а стенопись, будто вчера живописали. Ни дождь, ни жара, ни морозы ее не берут. Вот бы сие мастерство постичь!».
От величественного собора было трудно оторваться. Но задерживался взгляд Первушки и на Трапезной палате, с примыкающей к ней Крестовой церкви на подклете, и на Владычных покоях, и на жилых кельях монахов, которые располагались «коробьями» (в каждой по две кельи с сенями). Сама Трапезная также возведена не без искуса. Верхний ярус занимала столовая палата, а нижний – поварня, квасоварня, медуша. Оба яруса перекрыты сводами. Своды же опирались на наружные стены и на один (чему немало дивился Первушка) весьма толстый столб.
«Крепко стоит. Даже Трапезная в лихой час может оказаться твердыней».
К Трапезной, когда чрево снеди просит, лучше не подходить: уж такие исходят из нее дразнящие запахи! И чем только не тянет из каменного подклета: горячими наваристыми щами, ядреным «монастырским» квасом, гречневой кашей, жирно сдобренной льняным маслом, пареной репой и пареными яблоками.
Но иной раз нос чует не только запахи «простой» пищи, но и заманчивое благовоние стерляжьей ухи, жирной кулебяки из свежей осетрины и прочих лакомых яств, предназначенных для архимандрита, высших монастырских иерархов и знатных гостей, посещающих один из самых богатейших обителей Руси.
«Не бедствует, далеко не бедствует Спасский монастырь. У него, сказывают, тысячи крестьян, уймищу вотчин, торжков и мельниц. Здесь же, в обители, как поведал Надей Светешников, временно хранятся деньги, собранные с поморских и понизовых городов в цареву казну. Опричь того, в монастыре сидят государевы злоумышленники. Сидят в святой обители!».
– Ты чего тут вынюхиваешь и высматриваешь?
Голос грубый, задиристый.
Первушка обернулся. Перед ним стоял средних лет щербатый, долговязый мужик с рыжей, торчкастой бородой и с прищурыми, въедливыми глазами.
– А тебе что? – резко отозвался Первушка. Не любил он, когда к нему вызывающе обращались.
– Чего, грю, высматриваешь? – все также грубо вопросил мужик.
– Какого рожна надо? За погляд денег не берут. Шел бы ты.
– Монастырскому служителю дерзишь?
Свинцовые, въедливые глаза, казалось, насквозь пробуравили Первушку.
– Да какой же ты служитель, коль на тебе подрясника нет?
Насмешка дерзкого парня еще больше озлила мужика.
– В узилище захотел?! А ну поворачивай оглобли!
Подступил к Первушке и изрядно двинул того локтем в грудь. Первушка не стерпел и в свою очередь толкнул служителя плечом, да так сильно, что мужик едва не грянулся оземь.
Служитель, с перекошенным от злобы лицом, сунул два пальца в рот, пронзительно свистнул. На свист прибежали четверо келейников. Гривастые, с вопрошающими глазами.
– Чего обитель булгачишь, Гришка?
Мужик мотнул на Первушку головой.
– Кажись, лиходей. Не впервой его вижу. В храм не ходит, а всё чего-то вынюхивает. Надо его к келарю свести.
– Не суетись, Гришка, – спокойно молвил один из чернецов и зорко глянул на незнакомца.
– Чьих будешь, сыне?
– Каменщик купца Светешникова. Помышляет он церковь возвести. Я же на храмы хожу поглядеть.
– Ведаем сего благочестивого купца. На храмы же зри, сколь душа возжаждет. То Богу зело угодно, сыне.
– Доверчив ты, Савватей. Он всю обитель, как вражий лазутчик обшарил, и рукам волю дает, – все также озлобленно произнес Гришка.
– Не возводи лжи, Гришка. Ты первый на сего парня наскочил. И запомни: монастырскому служке надлежит добрых людей за версту зреть, – строго высказал Савватей.
Келейники неторопко подались вспять, а служка кинул на Первушку враждебный взгляд и повернул к Трапезной.

Глава 8
ГРИШКА КАЛОВСКИЙ
Гришка Каловский появился в монастыре два года назад. Повалился келарю в ноги и рьяно произнес:
– Хочу Богу послужить, отче Игнатий!
– А ране кому служил? Аль безбожник?
– Чур, меня! – Гришка даже руками замахал. – Истинный прихожанин. Ни одной церковной службы не пропущал. Вот те крест!
– Буде! – келарь даже посохом пристукнул. – Буде враки глаголить, святотатец, ибо в Писании сказано: «Лжу сотворяша, Богу согрешаша». Душа твоя зело грешна. Истину глаголь, а коль вкривь будешь сказывать, ноги твоей не будет в обители.
– Как на исповеди, святый отче… Имею избенку в Семеновской слободке, что за Земляным городом. Имел чадо осьми лет и женку. Чадо на Волге утоп, с челна свалился, а женка намедни Богу душу отдала… Царство ей небесное. Славная была женка.
Гришка даже слезу проронил и продолжал:
– Слезала с сеновала, да оступилась и на вилы напоролась. Сиротинушкой остался. Маетная была жисть. Голодные лета! Помышлял от худого житья в Понизовье сойти, в нижегородские земли, куда голод не докатился, но отдумал. На святую Троицу вещий сон пригрезился. Повстречался мне Николай Чудотворец и изрек: «Ступай, раб Божий, в обитель. Там будешь спасаться».
Крупные мясистые губы Игнатия скривила язвительная усмешка:
– Сызнова кривду глаголешь, непотребник. Голод тебя в обитель погнал, а не чудотворец. Не о Боге ты грезил, раб лжелукавый, а об утробе своей. На сытую жизнь потянуло, чревоугодник!
Гришка вновь бухнулся на колени.
– Провидец ты, святый отче! Истинно речешь. Ни хлеба в суме, ни гроша в котоме. Одна дорога – на паперть. Прими в обитель, раба сирого!
– Сирого? Да твоими руками подковы гнуть. Не слепой – вижу! В судовые ярыжки тебе дорога, а не в обитель.
– Смилуйся, святый отче! Верой и правдой тебе буду служить, как преданный пес. Любое твое повеленье исполню!
Игнатий чуток призадумался.
– Любое, глаголешь?
– Любое, святый отче!
Келарь пытливо глянул в умоляющие глаза Гришки.
– Помыслю о твоей судьбе. Наведайся на седмице.
Затем Игнатий вызвал в покои своего доверенного служку и молвил:
– Сходи в Семеновскую слободку и изведай, что за человек Гришка Каловский.
На другой день служка донес:
– Женку свою сам усмерть прибил. Кулак у Гришки увесистый. Был наподгуле и двинул по Матрене, да так сильно, что та головой о печь ударилась. О том соседям Гришкин мальчонка поведал.
– Так он же утонул.
– Утонул, отче, но после кончины матери. Убежал с горя на реку и из челна выпал. То ли сам, то ли ненароком, одному Богу известно. Гришка же нравом жестокосердный, до черной работы не слишком охочий. Не переломится.
– Бражник?
– Выпить ведро может, но зело пьяным его никто не зрел, знать нутро крепкое.
– Жестокосердный, глаголешь? – раздумывая о чем-то своем, переспросил Игнатий.
– Так в слободе сказывают, отче.
– Обители не только праведники надобны.
Взял Гришку келарь. Допрежь послал его на три седмицы обихаживать конюшню, затем колоть березовые плахи для Трапезной. Гришка не ленился, сердцем чуя, что сгодится он и для более важных дел. И сии дела настали!
Спустя три месяца, келарь молвил:
– В сельце Подушкине монастырские трудники приказчика ослушались. Съезди-ка в сельцо с приказчиком, да разберись с мужиками.
«Вот оно! – возликовал Гришка. Это тебе не навоз из конюшни выгребать. В лепешку расшибусь, дабы Игнатия порадовать!».
И порадовал. Люто погулял Гришкин кнут по спинам ослушников!
Келарь же, после подробного отчета приказчика, поразмыслил:
«У Гришки душонка подлая, ему бы в опричниках ходить да крамолу выметать. Но и такой сгодится. Ныне немало смутьянов в монастырских селах развелось».

Глава 9
ОГЛУШАЮЩАЯ ВЕСТЬ
Начиная с апреля 1605 года, на Ярославль обрушились будоражащие вести. На Мартына лисогона скончался царь Борис Федорович Годунов, и скончался-де не своей смертью: бояре отравили.
Посадские люди не убивались: не любим был царь в народе, он в Угличе сына Ивана Грозного, малолетнего царевича Дмитрия извел. На его царствие пришлись и лютые Голодные годы, и отмена Юрьева дня.
Недовольны были Борисом Годуновым и торговые люди, который дал иноземным купцам большие льготы.
Но тут на Ярославль привалила ошеломляющая весть: в польской земле объявился царевич Дмитрий, кой в Угличе не сгиб от рук убийц Годунова, а спасся «чудесным образом». Ныне Дмитрий, собрав большую рать, идет на Москву, дабы сесть на престол.
Зашумел, забурлил град Ярославль! На торгах, площадях и крестцах только и пересудов:
– Уберег Господь царевича.
– Ему и сидеть на троне. Бориска-то законного наследника помышлял извести, последнего Рюриковича. Авось и будет Дмитрий Иваныч добрым царем, подати и пошлины черному люду укоротит. То-то заживем!
– Заживешь! Видел кот молоко, да рыло коротко. Яблоко от яблони недалече падает. Иван-то Грозный сколь люду кромешниками истребил. Жуть! Не приведи Господи таким и Дмитрия зреть.
– А то? Чу, ляхи Дмитрию войско дали. Придут на Русь и почнут всех зорить и грабить. Не нужон такой царь!
– Напраслину на Дмитрия плетешь. Он всему народу послабление даст! Стоять за Дмитрия!
– Дудки! Не желаем польского ставленника!
И загуляла буча! Дело доходило до кулаков. Раскололись ярославцы. А по Руси ширилась Смута.

Глава 10
СОВЕТ ГОСПОД
В хоромах Земского старосты Василия Юрьевича Лыткина собрались именитые купцы: Надей Светешников, Григорий Никитников, Нифонт и Аникей Скрипины, Малей Гурьев, Илюта Назарьев. Здесь же сидели «лутчие» посадские люди Богдан Безукладников и Петр Тарыгин. Собрались не на почестен пир, не на званый обед, не на именины, а на совет, которого давным-давно в Ярославле не было. Час, другой судачили, и все разговоры шли о неожиданно появившемся царевиче Дмитрии.
– Вместо его, чу, попова сына злодеи Годунова убили. Да так ли? – сомнительно толковал Малей Гурьев.
– Но Шуйский-то, Шуйский-то! На тычку-де сам накололся. Вот и разбери тут, – разводил длиннопалыми руками Аникей Скрипин.
Купцы судили, рядили, а Надею Светешникову вдруг вспомнился случай с аглицким купцом Джеромом Горсеем, с коим ему довелось встречаться в 1591 году. Горсей был довольно известным купцом, кой по приказу королевы Елизаветы сопровождал главу Лондонской торговой компании Джона Меррика в его поездке во Францию и в Нидерланды, а затем в 1573 году той же компанией был послан в Москву; по приезде сюда Горсей сблизился со многими боярами, в том числе и с Борисом Годуновым. В 1580 году Иван Грозный поручил Горсею стать в челе Аглицкого Двора, а затем послал его к королеве Елизавете с просьбой о присылке на Москву тяжелых пушек и пищалей. Поручение Грозного было успешно выполнено.
Благодаря своему воздействию на Годунова, Джером добился невиданных льгот для английских купцов, хотя и вел дела торговой компании далеко не бескорыстно. О его темных делишках изведал всесильный дьяк Посольского приказа Андрей Щелкалов, рьяный противник аглицких купцов, прилагавший немало усилий, дабы уничтожить все их торговые привилегии. Ссора дьяка с Горсеем приняла такие размеры, что правитель Борис Годунов, опасаясь за его жизнь, отправил купца в Ярославль. То было в 1591 году. Горсей остановился на «аглицком подворье» и вскоре подружился с Надеем Светешниковым, коему он и поведал о необычном происшествии:
– Однажды ночью я передал свою душу Богу, думая, что час мой пробил. Кто-то застучал в мои ворота в полночь. Вооружившись пистолетами и другим оружием, которого у меня было много в запасе, я и мои пятнадцать слуг подошли к воротам. «Добрый друг мой, благородный Джером, мне нужно говорить с тобой». Я увидел при свете луны Афанасия Нагого, которого я хорошо знал по Москве, брата вдовствующей царицы, матери юного царевича Дмитрия, находившегося в двадцати пяти милях от Ярославля в Угличе. «Царевич Дмитрий мертв, дьяки зарезали его около шести часов. Один из их слуг признался на пытке, что его подослал Борис Годунов. Царица отравлена, она при смерти, у нее вылезают волосы, ногти, слезает кожа. Именем Христа заклинаю тебя: «Помоги мне, дай какое-нибудь снадобье!». «Увы! У меня нет ничего действенного». Я не отважился открыть ворота, вбежав в дом, схватил небольшую скляницу с чистым прованским маслом, которую подарила мне королева и коробочку венецианского териака. «Это все, что у меня есть. Дай Бог, чтобы это помогло». Я отдал все через забор, и Афанасий Нагой ускакал прочь. Слуги Нагого пробудили Ярославль, рассказав, как был убит царевич Дмитрий».
– А вы помните, господа честные, как разбудил Ярославль князь Афанасий Нагой, когда он примчал к Джерому Горсею? – спросил Светешников.
– Афанасий Нагой? – вскинул жесткую, ершистую бровь Петр Тарыгин. – Припоминаю, и того шустрого иноземца помню, но Василий Шуйский, когда прибыл в Углич, совсем другое излагал. Каково?
– А мне, думается, что Василию Шуйскому не резон было убийство признавать. Годунов в большой силе был. Сестра его, Ирина, – супруга Федора Иоанныча, царица. Шурин же стал самым влиятельным человеком государства. Ближний боярин, конюший, наместник царств Казанского и Астраханского. Силища! Шуйский хоть и кичлив, и высок родом, но перед Годуновым он струхнул, – вновь высказал Надей Светешников.
– О том на Москве все ведают, что Шуйский трусоват, – поддакнул Надею Григорий Никитников.
– И хитроныра, – немногословно молвил Земский староста.
– И как же теперь быть, Василий Юрьич? В народе шатость великая. Кто в лес, кто по дрова. Дело доходит до того, что улица на улицу с дрекольем наскакивает. Как быть? – вопросил Богдан Безукладников.
– Хуже нет, когда посадский люд замятню затевает. Дай черни волю, справные дворы почнут крушить. Надо угомонить народ.
– Так он никого не слушает. Один надрывается: на Москву пришел истинный царь, другой – пособник ляхов. Как чернь утихомирить?
Призадумались господа-ярославцы. Народ ныне в три дубины не проймешь. По всей Руси смятение, а коль так, то и торговля замерла. Как на Москву с товаришком ехать, когда в ней ныне поляки разгуливают? Не станут ли они купцов зорить? Чужеземцы! Давно ли с ними царь Иван Грозный воевал? Вот и скреби потылицу.
– Сидя на лавке, делу не пособишь, – наконец заговорил Надей Светешников. – Надо кому-то в Москву ехать, Василий Юрьич.
– Истину сказываешь, Надей Епифаныч, – мотнул окладистой бородой Лыткин. – Надо доподлинно изведать, что за царь в Первопрестольную явился. В Ярославль же не поспешать, поелику цари не тотчас свой норов показывают. Зело приглядеться надо, зело… Кто пожелает на Москву отбыть?
Купцы замешкались с ответом. На Москву с товаришком не поедешь. Рискованно! В стольный град вкупе с Дмитрием вошли тысячи поляков. Москва же после Голодных лет едва концы с концами сводит, до сей поры черный люд впроголодь живет. Ляхи же не для того заполонили Белокаменную, чтобы в нищету впадать. Им подавай деньги и вино, сытую снедь и добрую сряду. Где царю всего этого набраться? Вот и ударятся ляхи в грабежи. Где уж тут спокойная и вольная торговля. Да и кому захочется на Москве долго торчать? Для купца каждый потерянный день – убыток.
Надей обвел всепонимающими глазами совет господ и молвил:
– Выходит, мне ехать, коль о Москве заикнулся.
– Выходит, Надей Епифаныч, ибо слово выпустишь, так и вилами не втащишь.
Купцы оживились. Гора с плеч! Надея Светешникова Бог умишком не обделил, да и на Москве он частый гость.
– Поезжай с Богом, Надей Епифаныч, – степенно произнес Лыткин и куртуазно взмахнул крепкими, ширококостными руками, видя, как купцы поднимаются с лавок.
– Погодь, господа. Надей Епифаныч, может статься, не одну седмицу на Москве проживет. Скинемся по рублю, дабы ему урону не терпеть.
Купцы каждую полушку берегут, но тут случай особый, расщедрились.
– Чего уж там, Василь Юрьич. На благое дело и трех рублей не жаль, – молвил Петр Тарыгин и расстегнул калиту, подвешенную к кожаной опояске.
Купцы едва не охнули: Тарыгин втрое «помочь» поднял, но и виду не подали. Язык не повернется супротивное слово сказать. Честь купеческая всего дороже.
– На благое дело!
…………………………………………………
Приказчик Иван Лом, рослый, широкогрудый, с лопатистой бородой и живыми наметанными глазами, собираясь в дальнюю дорогу, спросил:
– Кого еще с собой возьмешь, Надей Епифаныч?
У Надея в торговых работниках добрый десяток человек, но экую ораву на Москву не возьмешь: не в лавках сидеть.
– Вдвоем тронемся.
– Неровен час, Надей Епифаныч.
– Бог милостив, доберемся.
Слух о том, что купец отлучается в Москву, достиг и Первушки.
В Москву! Сколь о ней слышал, сколь о ней грезил. Господи, хоть бы одним глазком глянуть на мощные крепостные сооружения и дивные каменные храмы, особенно на диковинный собор Покрова, который, сказывают, красоты неслыханной.
Увидел во дворе купца и, преодолевая смущение, произнес:
– На Москву бы глянуть, Надей Епифаныч.
– Аль великая нужда есть? – прищурился Светешников.
– Там храмы, чу, лепоты невиданной.
Купец с доброй улыбкой посмотрел на парня. Стоящим работником оказался. Михеич как-то отметил: толковый, на лету все схватывает, коль не задурит, добрым мастером станет.
И вот Первушка запросился в Белокаменную. Распахнутые глаза его умоляющие.
Подле Надея стоял приказчик Иван Лом. Цепкие, схатчивые глаза его прощупали Первушку. Рукастый, сухотелый, такого детинушку не худо бы с собой взять.
– А что, Надей Епифаныч? Сей молодец лишним не будет. Храмы-то и впрямь на Москве невиданные.
– Не о храмах твоя думка, Иван, – хмыкнул Светешников. – О животе своем печешься.
– Осторожного коня и зверь не берет, Надей Епифаныч. Ныне время лихое.
– Уговорил, приказчик. Но беру сего молодца не ради спасения животов наших. Собирайся, пытливая душа.
– Благодарствую! – низко поклонился Первушка.
…………………………………………………
Первушка никогда не ездил на добрых конях, никогда не сидел в красивом седле с высеребренной лукой, никогда на нем не было такого ладного кафтана синего сукна.
– В деревеньке, поди, охлюпкой ездил, – подначил приказчик.
– Буде насмешничать, Лукич. Зачем мужику в деревеньке седло? Лошаденки пахотные, им не ездока возить, а соху тянуть.
– Так ить свалишься, когда вскачь ударимся.
– Сам не свались, – буркнул Первушка и пошел попрощаться с дружками.
Иван Лом проводил его строгим молчаливым взглядом. Занозист! Но беды в том большой нет, главное, душа у парня, кажись, чистая.
Первушку же добрый конь не страшил: с малых лет познал лошадей, с малых лет мчал на Буланке в ночное. Да, без седла, охлюпкой и попробуй, удержись! Большая сноровка надобна. В седле же, когда спину и чрево поддерживают луки, и дурак удержится. Не видать тебе, Иван Лом, Первушкиного срама.
Благополучно миновали Шепецкий ям и Ростов Великий, а вот когда позади остался Переславль и дорога пошла по дремучему лесу, на вершников выскочила небольшая ватага лихих людей. Лохматые, в сирых дерюгах, с кистенями и дубинами, дерзко заступили дорогу и угрозливо закричали:
– Слезай с коней!
Грузная, заскорузлая рука вожака ухватилась за тугую седельную суму Надея.
– Слезай, волчья сыть!
Лицо свирепое, на все решимое.
Надей освободил ногу из стремени и двинул лиходея в грудь сапогом.
– Прочь!
Вожак отлетел на сажень, а затем яро взмахнул кистенем.
– Круши, богатеев!
Первушка отчаянно замахал плеткой, а Надей и Иван Лом выхватили из-за кушаков пистоли. Бухнул выстрел. Вожак охнул, схватился за плечо и, с искаженным от боли лицом, прохрипел:
– Отходим, братцы.
Ватага (шесть человек) никак не ожидавшая, что путники окажутся оружными (ехали без сабель, а пистоли под кафтанами не видать) шустро подалась в лес.
– Надо бы допрежь в воздух пальнуть, – глянул на приказчика Светешников.
– Пожалел волк кобылу: осталась шерсть да грива. Чудишь, Надей Епифаныч. Лежать бы нам с разбитыми черепами.
Иван Лом сунул еще не остывший пистоль за кушак и добавил:
– Упреждал же. Поболе людей надо было брать.
– Не ворчи, Иван. Все обошлось.
– Это еще вилами по воде.
– Не каркай!
Надей Светешников в жизни не убивал людей, исповедуя завет Божий. Он умело торговал, рьяно бился за каждую полушку, дабы не остаться в накладе, но никогда не был сквалыгой, оставаясь глубоко набожным человеком, порой удивляя ярославских купцов изрядными вкладами в монастыри и храмы.
«А ведь еще в цветущих летах и в добром здравии. Вклады же, как недужный старец вносит. Никак загодя душу спасает, хе-хе».
Купцы и недоумевали и посмеивались, а Надей продолжал спокойно торговать и усердно посещать храмы.








