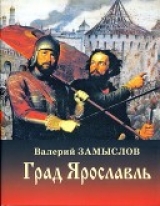
Текст книги "Град Ярославль (СИ)"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)

Глава 3
ВАСЁНКА
Несколько дней Ярославль оплакивал убитых; их немало полегло в сечах с ляхами. Анисим и Евстафий увезли на погост Нелидку. Его сразил дротик, пущенный конным шляхтичем. Тяжелую рану получил Первушка. Две недели он яростно отбивал врагов на стенах Рубленого города, и уже в последний день штурма его грудь пронзила татарская стрела. (В войске Лисовского находился отряд татарского мурзы). Анисим отделался легким ранением, которое быстро исцелил Евстафий. А вот с Первушкой дело обстояло худо. Стрела прошла насквозь левее сердца, пробив лопатку.
– Могуч же был поганый, – сумрачно высказывал Евстафий. – Добро, не в сердце, а то бы… Ныне же подамся за кореньями и травами, но тяжко будет исцелить.
Всю неделю Первушка находился между жизнью и смертью. Пелагея глянет на его исхудавшее, обескровленное лицо и со слезами молвит:
– Пресвятая Богородица смилуйся над рабом Божьим. Не дай помереть соколу нашему…
– Не помрет, коль седмицу продержался, – уверял Евстафий, хотя впервые не смог ручаться за благополучный исход своего врачевания. Трогал ладонью горячий и влажный лоб, качал головой.
– Лихоманка скрутила… Васёнкой бредит.
– Запала же ему в душу эта девица. А проку?
Анисим до сих пор мнил, что Первушку едва не загубили по наущению сотника Лагуна. Правда тот, появившись с ополченцами воеводы Вышеславцева, лихо сражался с ляхами, но это еще ни о чем не говорит. Домашний побыт ведется по издревле заведенному порядку, и никакой человек не смеет его преступать. А Первушку преступил, вот и получил отлуп. И кто ж его подстерег? Подлый изменник Гришка Каловский, кой открыл ворота врагу. Несуразица получается. Но мог ли ведать Лагун, что Гришка окажется переметчиком? Ну, да ныне не о нем речь. Племяш, можно сказать, помирает, а все о дочке сотника бредит. Без царя в голове. Да Васёнка о нем и думать забыла.
………………………………………………
И вновь Васёнка в цветущем саду. Господи, какая благодать! Она дома, дома! Ходит по любимому вишняку и дышит благоуханным, упоительным воздухом. Казалось, ничего не изменилось. Все тот же чистый, покойный пруд, все те же цветущие травы, ласкающие глаз, все то же неохватное лучезарное небо. Душа радуется…
Но вскоре безмятежное чувство подернулось глубокой необоримой грустью. В этом чудесном саду она обрела хоть и недолгое, но светозарное счастье, повстречав сероглазого Первушку с шапкой русых кудреватых волос. Сильного, не слишком многословного, но ласкового Первушку. Никогда не забыть его нежных слов и жарких поцелуев, от коих сладко кружилась голова и пела душа… Первушка, любый Первушка! Как же давно она его не видела. Сколь напастей выпало на Ярославль! Тятеньке пришлось уехать от злых недругов в Вологду. Славный у него друг оказался, с коим когда-то в ратные походы ходил. Никита Васильевич поселил беженцев в своих хоромах, ни в чем нужды у него не ведали… А тут, в Ярославле, жуть что творилось. Едва ли не половина жителей сгибла.
Дрогнуло сердце от тревожной мысли. Что с Первушкой, жив ли?..
И все померкло перед затуманившимися очами. И тут, как нарочно, с развесистой березы, что раскинулась неподалеку от пруда, закаркала ворона. Кыш, кыш, недобрая вещунья! Жив ее любый Первушка. Но как о том изведать? Маменька не знает, а тятеньку не спросишь. Даже заикнуться нельзя.
Вернулась домой с неспокойным, сумрачным лицом.
– Что с тобой, дочка? – озаботилась Серафима Осиповна. – Аль головушку солнцем напекло?
– Все хорошо со мной, маменька. В светелку пойду.
Серафима Осиповна что-то еще изладилась спросить, но махнула рукой. Какие-нибудь пустяки, да и недосуг разглагольствовать: по дому дел невпроворот, все-то надо привести в порядок после вражьего стояния. Радовалась, что дом уцелел, хотя многие избы были сожжены ляхами.
А Васёнке все чудилось карканье вороны. На душе становилось все тягостней и тягостней. Извелась Васёнка! Не выдержала, выбежала из избы и разыскала дворового.
– Слышь, Филатка… Ты ведаешь, где Первушка живет?
– Дык… ведаю. В Коровниках.
– Христом Богом тебя умоляю! Дойди до Первушки.
– По какой надобности?
– По какой?.. Тоска душу гложет. Изведай, что с ним. Дойди!
– Дык, и ходить не надо. Намедни Анисима видел, дядьку его. Помирает-де Первушка.
– Да ты что?! – побледнев, отшатнулась Васёнка. – Как это помирает?
– Дык, обычно. Вороги стрелой наскрозь уязвили… Чай, уж преставился, царство ему небесное.
Филатка вздохнул, снял войлочный колпак и перекрестился на шлемовидные купола слободской церкви.
– Не смей так сказывать, не смей! – Васёнка даже кулачками застучала по сухощавой груди дворового. – Жив, Первушка, жив!
Филатка пожал плечами.
– Уж, как Бог даст.
Васёнка горько заплакала и побежала в сад. Упала среди вишен и дала волю слезам. Неутешной была ее скорбь. Полежала, поплакала, и вдруг вспомнила знахарку Секлетею, коя жила неподалеку от их терема в Козьем переулке. За ней, когда шибко прихворнула маменька, ходила Матрена, и знахарка исцелила недуг.
Правда тятенька не очень-то уж и хотел приглашать в терем ведунью, но маменька настолько захворала, что едва Богу душу не отдала. Тятенька всполошился: без хозяйки дом сирота, вот и послал за знахаркой, но когда она явилась, то глядел на нее искоса, недоверчиво.
Старушка же, повернувшись к тятеньке своим покойным, добросердечным лицом, тихо и задушевно молвила:
– Ведаю, милок, о чем твои помыслы. Ведунья-де в дом пришла, коя с нечистой силой знается. И не ты один так полагаешь. Бог им простит. Знахарка – не чародейка, ибо колдун всегда прячется от людей и окутывает свои чары величайшей тайной. Знахари же – творят свои дела в открытую, без креста и молитвы не приступают к делу. Даже все целебные заговоры не обходятся без молитвенных просьб к Богу и святым угодникам. Правда, знахари тоже нашептывают тихо, вполголоса, но затем открыто и смело молвят: «Встанет раб Божий, благословясь и перекрестясь, умоется свежей водой, утрется рушником чистым; выйдет из избы к дверям, из ворот к воротам, пойдет к храму, подойдет поближе, да поклонится пониже». Аль не так я сказываю, милок?
Аким вначале хмурился, но затем с неподдельным интересом глянул на старушку, чей проникновенный голос растаял в его душе предвзятый холодок.
А старушка продолжала:
– Знахаря не надо сыскивать по кабакам, и видеть его во хмелю, выслушивать грубости и мат, взирать, как он ломается, вымогает деньги, угрожает и страшит своим косым медвежьим взглядом и посулом горя и напастей. У знахаря – не «черное слово», кое всегда приносит беду, а везде крест-креститель, крест – красота церковная, крест вселенный – дьяволу устрашение, человеку спасение…
Секлетея высказала еще немало слов, а затем, глянув на хозяина дома, вопросила:
– Веришь ли ты мне, милок? Токмо истинную правду сказывай, ибо без веры не могу я к исцелению недуга приступать.
Чистый, открытый взгляд был у старушки.
– Исцеляй с Богом.
– Благодарствую, милок. Однако знахаря по пустякам не приглашают. Прежде чем спросить его совета, мне надо знать: пользовалась ли недужная домашними средствами?
– Какими, Секлетея?
– Ложилась ли недужная на горячую печь, накрывали ли ее с головой всем, что находили под рукой теплого и овчинного; водили ли в баню и околачивали на полке веником до голых прутьев, натирали ли тертой редькой, дегтем, салом, и поили ли квасом с солью?
Отвечала мамка Матрена:
– И на горячей печи теплой овчиной накрывали, и в бане парили, и редькой бело тело натирали. А ей все неможется, горемычной. Ты уж помоги, ради Христа, Секлетея!
– Никак хворь приключилась не от простой притки, а от лихой порчи или злого насыла.
– Да откуда ему взяться, Секлетея?! – всплеснула руками Матрена. – Кажись, никому зла не причиняла.
– О том мне надо умом раскинуть, дабы угадать, откуда взялась эта порча и каким путем взошла она в белое тело, в ретивое сердце.
– Ведать бы, Секлетея. Саблей бы посек, – буркнул Аким.
– Ох, не говори так, милок. Зла за зло не воздавай. Так Богом заповедано.
– Ты уж порадей, Секлетея. Злата не пожалею.
Глаза у знахарки стали строгими.
– Забудь о злате, милок. Оно, что каменья, ибо тяжело на душу ложится. Истово молись за супругу свою. В молитве обретешь спасение. А теперь проводи меня к недужной…
Добрую неделю ходила старая знахарка к маменьке, излечила ее тяжкий недуг пользительными отварами и настоями, а под конец сказала:
– Твори добро – и Бог воздаст сторицею.
Глубокий смысл вложила в свои уста знахарка.
– Спасибо тебе, Секлетея… Грешна я. У Пресвятой Богородицы, чаю, свой грех замолить.
Васёнка так и не поняла, какой грех будет замаливать маменька перед святым образом. Но маменька молвила, что знахарка – провидица, а коль так, то и о судьбе Первушки скажет, непременно скажет – жив ли ее любый Первушка… Но как знахарку навестить? О ней ни маменьке, ни тятеньке и словечком не обмолвишься. Только заикнись о Первушке, как под сердитый гнев угодишь, особливо тятеньки. Нет, надо к ней таем сбегать. Изба Секлетеи совсем недалече, подле слободского храма Симеона Столпника.
Избенка, как и сама знахарка, была старенькой и пригорбленной, но удивительно духовитой, ибо по всем стенам висели пучки свежих и засушенных трав, от коих исходил бодрящий, благовонный воздух.
Знахарка сидела на лавке и срывала зеленые листья и цветы с какого-то растения, складывая их в берестяной кузовок.
– Здравствуй, бабушка, – робко молвила Васёнка.
Секлетея, маленькая, седенькая, с румяным (на диво!) лицом и выцветшими, но еще зоркими глазами, ласково откликнулась:
– Никак, Васёнка? Здравствуй, голубушка… Аль матушка опять занемогла?
– С маменькой все, слава Богу… Кручинушка меня гложет. Сердечко истомилось.
– Сердечко?.. А ну присядь ко мне, голубушка, да поведай мне о своей кручине.
– Отай мне надо сказать, бабушка, чтоб родители не изведали.
Секлетея долгим пристальным взглядом посмотрела на девушку, и все также ласково молвила:
– Чую, дело твое полюбовное, о суженом кручинишься. Сказывай, голубушка, коль ко мне пожаловала, да токмо ничего не утаивай. А я буду в твои очи глядеть, ибо сказано: не верь ушам, а верь глазам. Сказывай, милое дитятко.
Все-то, как на исповеди, поведала Васёнка, а старушка, держа девушку за трепетные ладони, все смотрела и смотрела в ее взволнованное страдальческое лицо, а затем тепло изронила:
– Любовь-то твоя глубокая, безоглядная, сердцем выстраданная. Такой любовью не всякого Бог одаривает. То – счастье великое.
– Но жив ли любый мой, бабушка? Скажи, скажи, родненькая?
Васёнка опустилась на колени. Большие глаза ее, заполненные слезами, с такой надеждой устремились на знахарку, что та прижала ее голову к себе, глубоко вздохнула и сердобольно молвила:
– Нашла на любовь светлую туча черная. Мнится мне, жив твой сокол ненаглядный, да токмо…
– Что? Что, бабушка?
Лицо Васёнки от недоброго предчувствия стало белее полотна.
– Мнится, умирает твой суженый. Худо ему, голубушка. Вот кабы птицей к нему полететь, да лица его коснуться. Любовь-то чудеса творит.
– Птицей? Спасибо, бабушка. Полечу к любому!
Васёнка стремглав выпорхнула из избушки в переулок, за тем и на улицу. В голове лишь одна отчаянная неодолимая мысль. Увидеть возлюбленного! Он жив! Жив!
Целиком захваченная необоримой мыслью, в одном легком голубом сарафане, с непокрытой головой, она полетела мимо выжженного острога к Углицкой башне, примыкавшей к стене Спасского монастыря, затем миновала останки обгоревших ворот и выбежала к Которосли, к перевозу, которым владела обитель. Бросилась к служкам.
– Перевезите, Христа ради!
Служки глаза вытаращили. Подбежала к дощанику какая-то запыхавшаяся, раскосмаченная девка и требует перевоза. Дивны дела твои, Господи! Никак, разума лишилась. Где это было видано, чтобы девицы без сопровождения мужчин по городу шастали?!
– Ошалела, отроковица. Немедля ступай домой!
– Нельзя мне домой, люди добрые. Перевезите, ради Христа!
– Аль дела, какие за рекой? Сказывай без утайки.
Оторопь служек (молодые, задорные; на перевоз квелых не поставишь) сменилась любопытством.
– Не таясь, скажу, люди добрые. В Коровниках дружок милый умирает. Перевезите!
– Дружок? – ухмыльнулся один из служек. – Да как же ты посмела сама к дружку бегать? О таком мы и слыхом не слыхивали. Чьих будешь?
Васёнка пришла в себя. Обмолвиться о чтимых в городе родителях – предать их сраму. Служки и вовсе не захотят ее перевезти, а того хуже – свяжут руки кушаком, да к тятеньке за мзду отведут. Пресвятая Богородица, что же делать? Придется наплести три короба.
– Нет у меня ныне ни тятеньки, ни маменьки, ни братца родного. Всех треклятые вороги загубили. Сиротинушка я.
– Ишь ты… А денежки найдутся?
– Денежки?.. И денежек вороги не оставили. Всё расхитили.
– Тогда ступай прочь, девка. Обитель и без того оскудела. Не пускай слезу. Ступай!
Осерчала Васёнка.
– Недобрые вы люди, а еще в обители служите, скареды гривастые!
– Ах, ты приблуда. Беги, покуда цела!
– И без вас обойдусь! – загорячилась Васёнка и кинулась в реку, норовя переплыть Которосль.
– А ну стой, дите несмышленое!
Васенка (была уже по грудь в воде) обернулась и увидела пожилого рыбаря в челне, кой торопливо сматывал удилище.
– Перевезу!
Помог Васёнке забраться в челн.
– Ну и дерзкая же ты, девонька. Плавать-то хоть умеешь?
– Умею. В пруду плавала.
– В пруду, – осуждающе покачал головой рыбарь. – Да тут такие вертуны, что и здоровому мужику переплыть мудрено… Зачем тебя на другой брег понесло?
– Надо, дяденька.
И Васенка, опираясь обеими руками о борта утлого суденышка, поведала о своей беде, на что рыбарь молвил:
– Век живу, но такой отчаянной девицы не видывал. Однако ж натура у тебя… А дружка твоего милого, Первушку, я хорошо знаю. В одной слободе обитаем. Славный парень, но ныне худо ему… Провожу тебя.
………………………………………………
– Встречай гостью, Анисим.
Анисим, увидев перед собой оробевшую девушку в голубом сарафане, развел руками.
– Что-то не распознаю.
Девушка поклонилась в пояс и, залившись румянцем, смущенно и тихо вымолвила:
– Я… Я – Васёнка.
– Бог ты мой! – подивилась Пелагея. – Та самая Васёнка, о коей Первушка рассказывал?
– Та самая, – опустив голову, пролепетала девушка. Куда только девалась ее отвага!
Изумлению обитателей дома не было предела. Даже старый Евстафий, коего нелегко было чем-то удивить, и тот протянул:
– Дела-а.
Изумление еще больше усилилось, когда рыбарь поведал о том, как Васенка перебиралась через Которосль. Это всех так поразило, что на девушку уставились, как на что-то сверхъестественное, диковинное.
Воцарившееся молчание прервал Евстафий:
– Полюби ближнего своего – и воздастся. Перед оным чувством все страхи отступают. Отважная же ты, дщерь, зело отважная.
Васёнка же, оказавшись в чужом дому, среди чужих людей, настолько заробела и застыдилась своего искрометного порыва, кинувшего ее к любимому человеку, что вконец растерялась, не ведая, как ей поступить дальше, и уже отчетливо понимая, что впереди ее ждет суровое наказание, которое несоизмеримо с первым проступком. Тут уже легкой плеточкой не отделаешься. Тятенька за такое дерзкое непослушание может и в монастырь спровадить.
И вдруг из повалуши, дверь, которой была открыта, она услышала тихий стон и тотчас поняла, что он исходит от Первушки. Ему плохо, ему тяжело, он нуждается в ее помощи! И все ее смятение, и дурные мысли разом улетучились.
– Можно мне к нему?
– Разуметься, дочка, – ласково произнесла Пелагея. – Пойдем, голубушка.
Солнечный луч, пробившись через слюдяное оконце повалуши, высветил бескровное, изможденное лицо Первушки; глаза его были закрыты, русые кольца волос прилипли к влажному лбу.
– Родной ты мой… Любый!
Нежные ладони обхватили лицо недужного, и тот, услышав мягкий, проникновенный голос, и почувствовав на своих щеках ласковое прикосновение, тотчас открыл глаза и счастливо выдохнул:
– Васёнка…

Глава 4
НЕ МИНОВАТЬ РАСПРИ
Аким Лагун задержался у воеводы допоздна. Никита Васильевич, собрав в Воеводской избе ратных военачальников, дворян, купцов и земских людей, высказал:
– Победа далась нам тяжко. Враг отступил, и дай Бог, чтобы Ярославль больше не испытал такого страшного лихолетья. Но ополчение надо попридержать, ибо Ян Сапега и Лисовский могут предпринять новую попытку завладеть Ярославлем, а посему о каком-либо покое надо забыть. Острог спален, да и сам Земляной город едва ли не целиком выжжен, а посему придется потрудиться, не покладая рук.
– Без хоромишек остался, – вздохнул один из дворян. – Надо подводы сыскивать, дабы лесу привезти.
Вышеславцев кинул на дворянина косой взгляд.
– Не о том помышлять надлежит. Ведаю: многие о дворах своих озаботились. Дело нужное, но обождет. Допрежь всего надо острог и башни восстановить, поелику граду без крепости не стоять. Поставим крепость – и за хоромы примемся.
Обернулся к купцам.
– Знаю ваши нужды. Немало пришлось денег из мошны вытряхнуть, дабы царика ублаготворить. А царик-то плевал на вашу дань. Лавки разорил и новыми поборами обложил. В кого уверовали? В пройдоху, ставленника алчущей шляхты! Плакали ваши денежки, впредь урок. Но калиту вновь расстегнуть придется. На работных людей, кои будут лес валить, бревна тесать и в землю их вкапывать. Немалые деньги, господа купцы.
– И без того оскудели, – хмуро изронил Григорий Никитников. – И рады бы раскошелиться, да калита пуста.
– Невмоготу, – поддержал Никитникова и Василий Лыткин.
Вышеславцев лицом посуровел.
– У меня с вас особый спрос. По цареву указу всех переметчиков надлежит взять под стражу и отправить в Судный приказ на Москву. Не ты ль Василий Лыткин да Григорий Никитников в Тушино к Самозванцу поторопились, как только ляхи Ярославлем овладели? Челом «царику» били вкупе с архимандритом Феофилом, дары Лжедмитрию преподнесли.
Лица купцов побагровели.
– Не мы одни в Тушино наведались, воевода, – сухо произнес Лыткин. Он, первый купец Ярославля, Земский староста, не чувствовал за собой вины, а посему повел себя с достоинством, ибо не пристало ему назидания выслушивать.
– Ведаю! Побежали те, кому отчизна не дорога и те, кои за свои сундуки трясется. Такие люди готовы любому прощелыге служить. Народ же, у коего полушки за душой нет, грудью на защиту Ярославля встал. Этот же народ, почитай, на треть в лютых побоищах голову сложил. А вот что-то купцов я в сражениях не видывал.
– В монастыре прятались, – проворчал сотник Лагун.
Лыткин полыхнул на Акима недобрыми глазами, а Вышеславцев все также сурово продолжал:
– Работным артелям – всемерную помощь. Мой дьяк даст денежный расклад, и не приведи Господи, кто пожадничает на благое дело. Буду сие расценивать, как противление возведению крепости. Царь ныне далеко. Своим судом буду нещадно карать!
– В котле сварить, как купца Иоахима.
– Воистину, Лагун. Надо будет – и котел сгодится. А тебе, Аким Поликарпыч, хочу при всех сказать особое спасибо. Еще в Вологде я поставил тебя над тысячей ополченцев, и не обманулся. В Ярославле все изведали, как ты неустрашимо сражался с ляхами. Отныне быть тебе головой над всеми стрельцами и ярославскими ратными людьми, кои станут Ярославль дозирать. Будь, как и прежде, тверд, и никому не давай поблажки.
– Все, что в моих силах, воевода, – поклонился Лагун.
Возвращался домой усталый, и с беспокойными мыслями. Новое назначение ляжет на его плечи тяжким грузом. Город только-только приходит в себя. До сих пор не выветрился запах гари. По выгоревшим улицам, переулкам и слободам, возле своих пепелищ бродят изнеможенные люди в поисках оставшейся железной утвари. Неуютно у них на душе. Остались без крова, животинки, без всего того, что наживали долгими годами. А самое жуткое – многие потеряли своих отцов, мужей и братьев. То и дело встречу попадаются скорбные люди, бредущие со скудельниц, отдав поминовение на девятинах. А попадались и такие, кто находили останки близких людей под обгоревшими бревнами, оплакивали и относили тела на захоронение. Ох, как нелегко им будет! Дабы срубить избу, нужны телега и лошадь, сильные руки и сосновые дерева. Лес же издревле не дармовой. Ныне лесными угодьями завладел Спасский монастырь. Феофил поначалу упирался воеводе, взмахивал тарханной грамотой, но Вышеславцев твердо заявил: «Когда приспевает всенародное бедствие, не до льгот и прибытка. Народу надо обустраиваться, иначе и Ярославлю не стоять. Надо поступиться, отче, да и всякую подмогу выказать. Монастырь, как я ведаю, и лошадьми богат и чернецами, кои не забыли, как топоры в руках держать. Завтра же хочу зреть подводы и братию на постройке изб и крепости. Бог сторицею воздаст».
Потемнел лицом архимандрит Феофил: мирская власть – не указ монастырю, но упорствовать больше не стал: Вышеславцев – не прежний воевода Борятинский, кой в сторону обители и пальцем не мог погрозить. Этот же за челобитную «царю» Дмитрию, может, и поруху на обитель возвести.
И возведет, продолжал размышлять Аким. Рука у Вышеславцева твердая. И пожаловаться пока Феофилу некому. «Царик» застрял под Москвой, а Василий Шуйский за «челобитье» может не только тарханной грамоты лишить, но и обитель отнять, коль патриарх Гермоген на то укажет… А Василий Лыткин и в самом деле всю осаду за крепкими стенами монастыря отсиживался. С Феофилом они дружки «собинные». Все свои товары в монастырские клети перетащил и ни разу на брань с ляхами не вышел. Отговорку нашел: чресла прострелило, ни согнуться, ни разогнуться. Даже на совет к воеводе крючком пришел. Лукавит Василь Юрьич! Намедни видели его в обители, как он в трапезную к Феофилу шествовал. И сынка его Митьку в сражениях не примечали. Зятек!
С некоторых пор охладел Аким к Лыткину, и завязалось это с той поры, когда власть имущие добровольно сдали Ярославль вражескому войску. Лыткин был в числе наиболее деятельных сторонников воеводы Борятинского, ратующих за сдачу города. Не случайно его торговые склады остались нетронутыми… Не прост, не прост Василь Юрьич. Корысти своей не упустит.
Запомнился испепеляющий взгляд Лыткина на совете у воеводы. Зело не по нутру ему оказались слова Акима о монастыре, аж в лице переменился. Теперь злобу затаит: при всем честном народе его в трусости уличили. И кто? Он, Аким Лагун, который намерен породниться с Лыткиным. Надо ли было обличительные слова бросать? Лыткин не тот человек, чтобы пропустить их промеж ушей. Но что выговорено, то выговорено. Конь вырвется – догонишь, а сказанного слова не вернешь. Не миновать распри.
И сговор под угрозой. Самая пора приспела Васёнку замуж выдавать, а душа к Лыткину уже не лежит.








