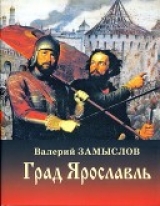
Текст книги "Град Ярославль (СИ)"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)

Глава 5
ДЕЛА РЫБАЦКИЕ
Почитай, год миновал, как Первушка появился в Коровниках. Схлынуло лихо голодное, и народ стал оживать, возвращаться к прежнему быту.
Первушку стало не узнать. Рослый, плечистый детина с длинными сильными руками. В отца выдался: тот, когда был в самой мужской поре, с рогатиной на медведя хаживал. Сила Первушке сгодилась: рыбацкое дело требует не только уменья и сноровки, но и могутных рук. Доставалось зимой и летом. Зимой, дабы добывать красную рыбу, приходилось вырубать пешней большие проруби, где толщина льда на добрый аршин. Семь потов сойдет! Но обо всем забываешь, когда выпадает хороший улов. Осетр, севрюга, белорыбица и стерлядь летят из сетей прямо на снег. Извиваются, трепыхаются, подпрыгивают. Но вскоре красная рыба замирала. Анисим и Первушка забрасывали ее снегом и слегка поливали водой, пока она не обмерзнет. Потом улов увозили на двор и укладывали под навесом крест-накрест, как поленья.
Не обходилось без таможенных ярыжек, которые объезжали дворы рыбаков. Подойдет эдакий к повети, достанет из-за пазухи бараньего полушубка замусоленную книжицу и забубнит в заснеженную бороду:
– Три стерляди, четыре осетра, осемь севрюг…
От ярыжки попахивает вином, лицо краснущее, глаза плутовские.
– Дале записывать, Анисим?
– Записывай, записывай, приказный крючок.
– Здря! А ить можно и по другому поладить.
Анисим ведал, что если ярыжке поставить доброе угощение и сунуть ему крупную рыбину, которую он унесет домой, то улов в таможенной книжице будет указан гораздо меньше. Некоторые так и делали: прямая выгода. Но Анисим терпеть не мог ярыжек и целовальников. Страсть не хотелось прогибаться перед мздоимцами!
– Пиши, Евсейка!
– И до чего ж ты вредный, Анисим. Без мошны останешься.
– Хоть мошна пуста, да душа чиста.
– Дуралей ты, Анисим. Эк нашел, чем гордиться… Когда в последний раз на улов пойдешь?
– На Василия Капельника, а там, на торги поеду.
– Ну-ну. Буду заглядывать.
Ярыжка заглядывал после каждого лова до конца февраля. И всякий раз дотошно проверял рыбью поленицу, дабы хозяин не мухлевал, и дабы порухи Таможенной избе не учинилось. Пошлину взимали после окончания зимнего лова. Ярыжка взвешивал «поленицу» на таможенном безмене, записывал вес в книжицу и называл пошлину в деньгах. В Голодные годы таможня брала рыбой, ныне же вновь перешла на деньги. Счет шел на пуды и выводился в алтынах.
Когда ярыжка означил пошлину, лицо Анисима ожесточилось.
– Ты что, Евсейка, белены объелся? Пошлина на четь возросла.
– Сходи в обитель, Анисим. Это затворники пошлину подняли. Ловы-то монастырские.
Анисим аж зубами скрипнул, а Первушка бросил крамольное слово:
– Надо посад поднимать. Рыбой, почитай, весь тяглый люд спасается.
– Подымай, паря, коль башка те не дорога, – усмехнулся ярыга и вновь глянул на Анисима. – Пошлину после торгов в таможню принесешь. Бывай!
Анисим долго не мог прийти в себя, а затем хмуро произнес:
– Завтра льду надо в погреб навозить.
Лед надобился для весенней и летней рыбы. Опять Первушке пришлось изрядно подолбить пешней. Когда ледник был готов, его накрыли соломой, чтобы он не так быстро таял.
– А теперь в деревеньки и села, пока дороги не развезло.
На торги ехали в те места, кои были удалены от больших рек, и где рыбу в конце зимы охотно брали.
В марте мужики хлеба выпекали мало: берегли жито для весенней страды. Красная рыба замещала хлеб. Для ее готовки замороженную рыбу бросали в воду, а после оттаивания, даже если рыба пролежала полгода, выглядела она так же отменно, как будто ее только что вынули из воды.
Торги длились две-три недели, и это угнетало Первушку: торговые дела его не прельщали. Душа тянулась к чему-то другому.
После Николы вешнего на двор Анисима пришел лохматый мужик в сермяге и драных ичигах.
– Не признаешь, хозяин?
– Нелидка! – ахнул Анисим. – Жив, борода?
– Жив покуда, – с хрипотцой отозвался мужик и поклонился в пояс. – Челом пришел тебе ударить, Анисим Васильич. Не возьмешь меня вдругорядь в работники?
Анисим отозвался не вдруг. Нелидка когда-то жил на его дворе, а когда навалилось голодное лихолетье, работника пришлось отпустить. Тогда жилось весьма туго, даже на свечах пришлось экономить. В темное время зажигал Анисим лучину, приладив ее под лоханью с водой. Искры падали в воду, шипели, изба наполнялась едким запахом дыма. И изба была чадная, и кормились скудно. Тут уж не до работника. А тот пришел к нему еще четыре года назад.
Был Нелидка когда-то холопом боярина Дмитрия Шуйского, доводившегося братом Василию Шуйскому. Жесток был Дмитрий Иванович! Холопов били кнутом, забивали в колодки, ковали в цепи, ссылали на барщину в дальние деревеньки, морили голодом…
– В Голодные лета боярин и вовсе перестал нас кормить, – рассказывал Нелидка, – а потом со двора выгнал. «Ступайте, куда глаза глядят, не прокормить мне такую ораву». Досыта нахлебался горюшка.
– Поди, и жена была?
– А как же, Анисим. Двух чад мне принесла Авдотья, да не повезло, ибо младенцами преставились. А потом мою Авдотью боярин Митрий выдал за другого холопа.
– От живого-то мужа? – подивился Анисим.
– Эка диковинка. Не от меня первого, не от меня последнего жен отнимают. Холопья доля самая горегорькая, боярин что хочет, то и вытворяет. Взял да и передал Авдотью холопу Ваське. Вот уж был жеребец! Ребятню, как молотом ковал. Боярин за каждого рожденного мальца братину доброго вина Ваське жаловал.
– И что потом с Авдотьей?
– Вконец изъездил ее Васька, квелой стала, преставилась года через два, а Ваське вновь чужую жену привели. Боярину приплод нужен.
– Дела-а, – протянул Анисим.
– На Москве, почитай, каждый боярин у холопей жен на приплод отнимает. Но так было до Голодных лет. Боярин Митрий даже жеребца Ваську выгнал. А ведь сам не бедствовал, все его лабазы были хлебом забиты. Сквалыга!
– Оттого и выгнал, чтоб лабазы не истощились.
Помыкался на «вольных хлебах» Нелидка! Едва Богу душу не отдал, пока не оказался на дворе Анисима.
И вот он вновь заявился, и, кажись, в самую подходящую пору. Худо-бедно, но за последние два года торговля стала приносить прибыток. Пора и к старому промыслу возвращаться – разведению скота, а будет скот на дворе, будет и торговля. Нелидка же с охотой скотину выращивал, никакой работой не гнушался. На деньгу не зарился. В первый же день заявил:
– За одни харчи стану вкалывать. В обиде не будешь.
– А чего меня облюбовал?
– Мужики толкуют: не скряга и нравом не лют. На слободе тебя уважают. Возьми, Анисим Васильич, а коль чем не угожу, прогонишь со двора.
Взял, и не промахнулся в Нелидке. Но в Голодные годы пришлось с ним расстаться: не ведал, как семью прокормить…
– А скажи, Нелидка, как Бог тебя уберег, когда от меня ушел?
– В Дикое Поле подался. Долго сказывать про всякие мытарства, но все же добрел. На Дону к казакам пристал. Чаял, там манна с небес падает, но верховые казаки жили впроголодь.
– Вот те на. Да там же земля не чета нашей. Чернозем!
– Так и есть, Анисим Васильич. Воткни оглоблю – вырастет телега. Но мужика с сохой на жирные донские земли не допускают, а того, кто зачнет пашню орать, плетьми насмерть забьют. Странные люди эти казаки: голодают, а за соху не берутся. Пришлось на Низ идти, где богатеи осели. Угодил к станичному атаману Ивану Заруцкому. Но у него и недели не прожил. Суров нравом и рука тяжелая. До полусмерти меня отдубасил.
– За что?
– Да, почитай, ни за что. Один из коней на баз выскочил, через плетень перемахнул – и в степь умчал. А я в тот миг из конюшни вышел и пошел с бадейкой к колодцу, дабы воды лошадям в кадь наносить. Нагайкой стегал меня атаман Заруцкий. Мекал, не очухаюсь, но Господь оградил. Едва оклемался, как Заруцкий меня на конюшню отослал. «Убирай навоз, быдло. И чтоб малой соринки не было!».
– Так быдлом и назвал? – удивился Анисим.
– Богатеи Дона всех беглых так именуют… Той же ночью бежал я от Заруцкого. Норовил, более доброго казака отыскать, но раздумал: Заруцкий на Дону известный человек, пронюхает – башку саблей смахнет. Уж лучше подальше от греха. На Волгу подался. В Царев-Борисове к одному купцу в судовые ярыжки подрядился. И где только не побывал – и в Казани, и в Астрахани, и в других городах.
– Купец не обижал?
– Мужик крутой, но кулаки не распускал и на харчи не скупился.
– Чем же не угодил?
– На купца грешно пенять. Я, ить, Анисим Васильич, всю жизнь в Ярославле обретался. Часто во сне мне город грезился. По родине и кости плачут. На погосте отец с матерью покоятся. Вот и вернулся вспять.
– На купца не сетуешь, Нелидка, а пришел от него в лохмотьях.
– Купец тут не причем. В Нижнем забрел я в кабак, дабы бражки хватить, и вдруг знакомца из Ярославля увидел. Когда-то в одной слободе жили. Возрадовался, сулейку водки поставил. Да так разговорились, что я и про купецкий струг запамятовал. Прибежал на брег, а судно как ветром сдуло. Огоревал, а знакомец мой успокаивает: не тужи, Нелидка, купцов на Руси, слава Богу, хватает. К себе на ночлег кликнул. А избенка его полна меж двор скитальцев. Буйная братия, все на подгуле. Каким-то вином на семи травах меня напоили. Сказывали: винцо пользительное, от всех недугов. Утром проснулся – ни денег, ни одежды, почитай, один крест на гайтане болтается. В избе ни души. От Нижнего с каликами шел, побирался Христа ради. Вот и весь сказ, Анисим Васильич.
– Да, Нелидка, помотала тебя жизнь… Винцо-то, чу, уважаешь?
– А кто винцо не уважает? Курица и вся три копейки – и та пьет. Но ты во мне не сумлевайся. Меру свою знаю, николи под забором валяться не буду.
– Ране не валялся.
Нелидка за все четыре года у Анисима зельем не злоупотреблял, чем и пришелся по нраву хозяину. Совсем же не пьющих на Руси, кажись, и не было. На такого смотрели как на прокаженного. Ведь еще издревле великий князь Владимир Красно Солнышко воскликнул: «На Руси веселье – винцо пити, и другому не быти». Вот и загорелась душа до винного ковша. Особенно почетным слыло, когда винцо тебе поднесет князь, боярин или твой хозяин. Тут уж, дабы уважить, пьешь до донышка, даже если тебе корчагу вина пожалуют.
– По рукам, Нелидка, – наконец произнес Анисим.
С двумя работниками дела у Анисима пошли в гору. И скотины на дворе прибавилось, и баньку подновили, и новым тыном двор опоясали. Анисим похвалил не только Нелидку, но и родича:
– Руки у тебя золотые. Хоть топором стучать, хоть лошадь подковать. Никак, в деревне своей поднаторел?
– А в деревне без того нельзя, дядя Анисим. Каждый мужик не только за сохой может ходить. Деревня всякому делу научит.
– Вот и я о том… Может, и амбар срубим? Без амбара нам ныне никак нельзя.
– Вестимо, дядя.
Амбар на Руси (после избы и терема) – и для мужика, и для купца, и для боярина – самая необходимая постройка. В нем будут храниться зерно и мука. Хлеб – русская святыня, ибо он всему голова и кормилец.
Первушка уже ведал: рубить надо амбар с большим умением. (Отец его, Тимофей, был искусным плотником, а любознательный Первушка многое от него перенял). Малейшая погрешность – и жито пропадет. Тогда клади зубы на полку. Без ума проколотишься, а без хлеба не проживешь.
Перед тем, как возводить амбар, Анисим все же учинил Первушке тщательную проверку.
– Житницы ране рубил?
– Доводилось.
– И какой она должна быть?
– Обижаешь, дядя, – нахмурился Первушка.
– Ты уж не серчай, племяш, но у меня в амбаре будет хлеб лежать, а не кадушка с грибами. Хлеб! А я не шибко в плотницких делах кумекаю. Уж поведай мне, Христа ради.
– Хитришь, поди, дядя. Ну да Бог с тобой… Дабы лучше хлеб сохранить, житница должна быть холодной, сухой и хорошо проветриваемой.
– Так-так. Поближе к саду будешь ставить, чтоб подальше от глаз воровских?
– Зачем же подле сада? Тогда прохлады в житнице не будет. Ставить надо на открытом месте, дверями и оконцами на север.
– Ишь ты, – крутанул головой Анисим. – А насчет сухого амбара мне горевать не надо. Лес мы еще с зимы заготовили, давно ошкурили и высушили. Осталось напилить по размеру, вырубить пазы и складывать венец к венцу.
– И всё? – хитровато прищурился на дядю Первушка.
– И всё.
– Ну и пропал твой хлеб, Анисим Васильич. В три месяца отсыреет.
– Да ну! – простодушно уставился на сыновца Анисим.
– Вот те и ну, – усмехнулся племянник. – Амбар надо приподнять на два аршина над землей, и учинить всё так, чтобы хлеб в сусеках, упаси Бог, не касался наружных стен. Вот тогда он будет лежать в сухости.
– Ишь ты. А я и не ведал.
Анисиму и в самом деле никогда не приходилось ставить амбары.
После того, как срубили амбар и обмыли его, дабы стоял века, Анисим спросил:
– Торговать вкупе станешь?
Первушка не замедлил с ответом:
– Не серчай, дядя. Не тянет меня к торговле. Уж лучше топором рубить или молотом в кузне грохать. Ну, не рожден я торговым человеком. Ты уж не серчай. Другим издельем помышляю заняться.
– Да уж нутром чую, не влечет тебя торговля. Над издельем же я покумекаю.

Глава 6
КАМЕННОЕ ИЗДЕЛЬЕ
Новое изделье пришло к Первушке неожиданно. Анисим послал его в соляную лавку, что находилась близ храма Ильи Пророка.
Первушка вышел из избы и зажмурился от яркого солнца. Над Коровниками плыл благовест.
Храм скликал прихожан к службе. Миряне снимали шапки, крестились, но в церковь валом не валили: не престольный праздник.
Тишь, покой, щедрое, июньское солнце ласкает теплом землю. Сады в белой кипени. Пряный благовонный воздух дурманит голову.
– Экая благодать, – довольно бормочет, греясь на завалинке Нелидка.
Сидит, плетет мережу и поглядывает на снующий по слободе люд. Некоторые идут с сумой. Бывало, и он за посошок брался, когда в бегах сума оскудела, и когда брел на паперть. Но на подаяние надежа была худая: вконец обнищал народ. Голод по избам разгуливал, мирян кручинил. Веселье как языком слизало. Зол, смур был черный люд, ибо голод не теща, пирожка не подсунет. Ныне, слава Богу, голодень отступил.
– Аль на торг снарядился?
– На торг, Нелидка. Соль иссякла.
– Ну-ну.
Торг гудел на Ильинской площади. Отовсюду неслись громкие зазывные выкрики. Торговали все: кузнецы, кожевники, гончары, хлебники, квасники, огородники, стрельцы, монахи, мужики, приехавшие из деревенек… Тут же сновали объезжие головы, приставы и земские ярыжки, цирюльники и походячие торговцы с лотками и коробьями.
Закупив товар, Первушка невольно залюбовался деревянным храмом, который заметно отличался от слободской церкви. Долго стоял, пока не услышал оклик.
– Чего голову задрал?
Оглянулся. Перед ним стоял незнакомец лет тридцати в добротной малиновой однорядке. Статный, широкогрудый, с пытливыми ореховыми глазами и русой кучерявой бородкой.
– На храм загляделся. Никак, знатные мастера возводили. Жаль, храм деревянный.
– Отчего жаль?
– Такую красоту огонь может пожрать. В городах, чу, нередко бывают пожары.
– И что же делать, молодец?
– Каменные храмы надо возводить, дабы века стояли и глаз услаждали.
Незнакомец заинтересованно глянул на Первушку.
– О каменных храмах грезишь?.. Сам же в городах не проживал. Никак из деревеньки. Как звать?
– Первушкой. А тебя?
– Ну, коль ты назвался, и я назовусь, – с доброй улыбкой произнес незнакомец. – Надей Епифаныч Светешников.
– Светешников?.. Дядя рассказывал, что ты из знатных купцов.
– Знатными – гостей называют. Я ж – обычный купец, – степенно молвил Надей. – Дядя чем промышляет?
– В купцы пока не выбился. Скотом и рыбой приторговывает.
– А ты, Первушка?
– Торговля мне не по нутру. Изделье по душе ищу.
– По душе? – хмыкнул купец, все больше присматриваясь к парню. – Не всякий трудник по душе изделье имеет. То редким людям дается, ибо божий дар к коже не пришьешь. Зришь храм? Вот те мастера с душой трудились, ибо дар имели. Владеют им изографы, зодчие, знатные оружейники, каменных дел мастера и другие искусные умельцы. Тебя-то к чему тянет?
– К камню, Надей Епифаныч. Камень чудеса творит. И добрые крепости из него ставят, и храмы дивные.
– Знать Бог тебя ко мне послал. Бывает же провиденье Господне. Ныне толковые камнеделы мне нужны. Пойдешь ко мне? Деньгой не обижу.
– Пойду, Надей Епифаныч!
Купец Светешников жил неподалеку от деревянной церкви Благовещения. Двор его был обнесен высоким сосновым тыном. Двор богатый: крепкая изба с повалушей и светелкой на высоком подклете, поварня, два амбара, конюшня на несколько лошадей, баня, колодезь с журавлем, ледники. А подле амбаров четверо мужиков в кожаных фартуках возводили какое-то каменное строение из белого камня.
– Угадай, Первушка, что я возвожу?
Мужики при виде купца поклонились в пояс и продолжили свою работу. Первушка же, приглядевшись к постройке, молвил:
– Не возьму в толк, Надей Епифаныч. Похож на подклет, но какой-то он необычный. Не для избы.
– Не для избы, Первушка. Но пока ответа не дам. Приглядишься к моим подмастерьям, авось и сам разгадаешь.
Разгадывать и дальше пришлось. В глубине двора, подле пруда Первушка увидел какое-то диковинное сооружение, из коего валил дым.
– Тоже невдомек?
– Невдомек, Надей Епифаныч.
– То сарай для обжига кирпича.
– Можно глянуть?
– Глянь, коль любопытство взыграло…
В избу Анисима Первушка вернулся лишь в сумерки.
– Долгонько же ты за солью ходил. Я уж хотел ворота на засов закрыть.
– Ты прости меня, дядя, но я такого дива нагляделся, что и про дом забыл.
Голос Первушки был оживленным.
– Дива?.. Поведай, сыновец.
Выслушав возбужденный рассказ, Анисим раздумчиво молвил:
– Надей Светешников – один из богатейших купцов. Не без причуд… Мыслит первую каменную церковь в Земляном городе поставить, да такую, чтоб и Москве на загляденье.
– Церковь? О том он мне не сказывал.
– Скажет. Пока же он пробный церковный подклет на своем дворе мастерит. Вдругорядь ставит. Первый повелел разрушить. Никаких денег не жалеет.
– Что же случилось?
– Люди говорят, что раствор показался Надею жидким, вот и разрушил подклет.
– Ты бы видел, дядя, какая у него печь для обжига кирпичей.
– Видеть не видел, но Светешников, дабы соорудить такую печь, под Москву в село Мячково ездил. Зело увлекся он каменными делами. Десяток работных людей нанял. Сколь деньжищ ухлопал! А проку? Всё чего-то пробует, пробует.
– Дивная церковь за раз не ставится. Сам же говоришь: дабы и Москве была на загляденье. Наравен мне Надей.
– К нему норовишь уйти? – с неприкрытой ревнивой обидой спросил Анисим.
– Дело за тобой, дядя.
Призадумался Анисим. Первушка – не холоп и не закуп, ни порядной, ни кабальной грамоты на себя не брал. Ныне он – свободный человек, ибо бывший его владелец перед своей кончиной дал ему вольную. К тому же сыновцом ему доводится, близким сродником. Покойный брат не простил бы Анисима, если бы он пошел супротив воли Первушки. А парень оказался работящим, понукать не надо. Конечно, не худо бы его у себя удержать да к торговому делу привадить, но у Первушки к торговле душа не лежит. Каменным издельем привлек его Надей. Купец влиятельный и богатый. И чем только не торгует: выделанными кожами, хлебом, солью, полотнами изо льна, белым мылом… Четырнадцать лавок на Торгу держит. Почитай, по всей Руси торговлей промышляет. И в Холмогоры ездит, и на Москву, и в Нижний… Недавно закупил в Астрахани пять тысяч белуг, осетров и белуг, и с немалой выгодой распродал в поволжских городах. Предприимчивый купец, даже соболиным промыслом занимается. Не страшится ездить в сибирские городки – откуда поставляет в государеву казну «по десяти сороков соболей» в год и более. Калита у него одна из самых весомых среди ярославских купцов. С такой мошной можно и о храмах помыслить. Вот и появились у него всякие диковины во дворе. Первушку прельстил.
– А скажи мне, сыновец, не кривя душой. Надолго ли тебя каменное изделье потянуло? Не повернешь оглобли?
– Не поверну, дядя, – твердо произнес Первушка. – Мнится мне, на всю жизнь буду привязан к камню.
– Ишь ты, – протянул Анисим. – Ну, да Бог с тобой. Может, когда-нибудь и впрямь храм из камня поставишь.
– А прорубь я тебе помогу вырубить, дядя. В любых делах подсоблю.
– Да чего уж там. Нелидка у меня семижильный, справимся.
…………………………………………………
Первушка даже не заметил, как пролетели три месяца. Все-то было ему занятно, хотя в первый же день Надей Светешников заявил:
– Дабы стать каменных дел мастером, надо пройти нелегкий и долгий путь. Допрежь всего в ярыжках надо походить и ко всему дотошно приглядываться.
Поманил пальцем долговязого парня в посконной рубахе ниже колен.
– Вот тебе напарник. Неделю назад ко мне заявился.
Купец тотчас поспешил к сараю, из которого валил дым, а напарник пытливо глянул на Первушку, да так пытливо, будто цыган лошадь покупал.
– Ради деньги пришел?
В серых, настороженных глазах усмешка, и этот насмешливый взгляд задел Первушку.
– После Бога – деньги первые. И барину деньга господин. А как же? Ты, небось, тоже на купецкие денежки польстился? Купец-то, сказывают, не прижимистый. Полушка за полушкой в мошну потечет. В богатеи выбьемся.
Напарник сердито сверкнул глазами.
– Не хочу с таким работать!
Молвил – и пошел к каменному подклету.
«Ершистый, но, кажись, не только ради деньги к Надею притопал».
Первушка подошел к парню и хлопнул его по плечу.
– Не серчай, друже. Пошутил я.
– Бери заступ, бадью – и за песком, – хмуро проронил напарник.
Песок и воду молодые ярыжки подтаскивали к подклету, где работные люди готовили раствор в известковых «творилах». Тут же стояли кади, ушаты и шайки для воды. Подходил подмастерье, брал гребок и проверял известь. Иной раз смолчит, другой – прикажет:
– Четь бадьи с водой и два заступа песку.
Работные вновь принимались за раствор, пока мастер Михеич, пожилой сухопарый мужик с гривой льняных волос, перехваченных узким кожаным ремешком на загорелом, продолговатом лбу, не кивнет:
– Буде.
Кладку вели из белого тесаного камня в один ряд по обеим сторонам стен. Середину заполняли бутом, булыжником, небольшими камнями и поливали их сверху известью.
Иногда к подклету приходил Светешников, залезал по лестнице наверх, придирчиво смотрел за выкладкой стен, озабоченно спрашивал:
– Ладно ли будет, Михеич?
– Авось, стены выдержат, Надей Епифаныч.
– Авось… У русского всегда так: авось, небось, да как-нибудь. На трех крепких сваях стоит. Ты мне это забудь, Михеич!
– Так ить не лапоть плетем, Надей Епифаныч, а новину церковную. Такой невиданный подклет зараз до ума не доведешь. Храм-то высоченный ты задумал, в несколько ярусов, да о пяти главах. Толику промахнешься – и поползет подклет.
– Иноземного зодчего возьму, коль уверенности нет!
– Ради Бога, – разобиделся мастер, и начал спускаться с постройки.
Первушка уже ведал, что Михеич слыл первейшим печником Ярославля. Такие изразцовые печи выкладывал, что любо, дорого взглянуть. Едва уломал его Надей на свою «новину». А когда ударили по рукам, купец сказал:
– Ярославль славен обителью и каменным собором Успения. Ни единой же приходской каменной церкви во всем граде нет. Пора заиметь, Михеич. Но дело сие непростое, требует особинки. Надо под Москву сходить, в село Мячково, где мужики белый камень добывают. Сходить не одному, а с малой артелью, дабы на каменоломне поработать, а после того наведаться под Андроньевский монастырь, где кирпичный промысел зело процветает.
– Велика ли артель, и на какой харч полагаться?
– Полагаю, пятерых рабртных хватит. На корм же денег не пожалею. Главное, каменное и кирпичное дело изрядно уразуметь.
Все лето провела артель в Подмосковье. Надей Светешников чутко выслушал рассказ Михеича, многое из речи мастера записал в книжицу, а затем молвил:
– Работным людям досконально поведай. И не единожды.
Посчастливилось услышать Михеича и Первушке.
– В Мячкове белый камень обделывают каменотесы и каменосечцы. Готовят плиты разных размеров и доставляют в Москву. Но каменное строительство, как мы изведали, еще издревле повелось, почитай, с десятого века, когда Владимир Красно Солнышко возвел себе в Киеве каменный дворец и Десятинную церковь, а уж потом и Москва стала камнем принаряжаться… Едва мы прибыли в Мячково, как угодили на приказного крючка. Немедля всех переписал и молвил, что отныне мы занесены в книгу Приказа Каменных дел, и что по первому запросу Приказа все обязаны явиться на государевы постройки. На каменоломне досталось нам, ребятушки. Пыль столбом, глаза ест. Не так-то просто многопудовый камень из ямы вытащить, и лучше всего вытянуть его сырым.
– Для чего, Михеич? – спросил Первушка.
– А для того, ребятушки, что сырой камень легче ломать и тесать, пока из него вся сырость не вытянет. Тесали же особым сечивом, что на стрелецкую секиру схож. Скоблили, гладили, покуда камень нужной величины не достигнет. Величина же – в зависимости от заказа. Для одной церкви нужно камень сотворить шириной и длиной в аршин, толщиной в пол-аршина, для другой – больших или меньших размеров. Храмы-то разные ставят. Однако ошибка в аршинном камне допускалась в один вершок. Если же длина камня была меньше обычной на полтора-два вершка, то два таких камня принимались за один. Так что глаз да глаз, ребятушки.
Когда наловчились плиты готовить, пошли к Андроньеву монастырю, где кирпичным делом изрядно промышляют. Кирпич здесь плинтом именуют, а самих мастеров – печными зажителями. Вот здесь мы и увидели громадные печи для обжига кирпича, для коих возведены особые сараи. Делают же кирпич городовые записные кирпичники – по десять тысяч кирпичей на человека в лето.
– Немало! – присвистнул один из ярыжек. – А как платят за такую работу?
– По 15 алтын за тысячу штук.
– Сносно. А сколь кирпичей в печь сажают?
– По-разному. Зависит от величины самой обжигательной печи. И по 25, и по 40, и по 50 тысяч кирпичей. Сам обжиг длится от восьми до десяти дней. Идет уйма дров.
– А велики ли размеры кирпича, Михеич?
– Любопытен же ты, Первушка.
Михеич уже давно заприметил рослого парня с вдумчивыми вопрошающими глазами.
– Ранее кирпичи рознились, а затем были установлены государевы мерила. Длина – семь вершков, ширина – три, толщина – два вершка.
– А как, Михеич, сам кирпич выделывается, – спросил все тот же Первушка.
– В деревянных творилах, паря, кои сделаны из осиновых пластин. В творило набивали глину и уплотняли ее чекмарем, кой похож на молоток из цельного дерева.
– И каждый кирпич выходил по государевым мерилам? Но это же не пчелиные соты.
– Смышлен ты, Первушка. И меня сомненье грызло. Тыщи кирпичей, и чтоб тютелька в тютельку, под строгую государеву мерку! Но дело оказалось не таким уж и заковыристым. Для снятия лишней глины мастера применяли ножовые гвозди.
– Как они выглядят?
– Скоро увидишь. Мы здесь узкие скребки употребляем, но ножевыми гвоздями сподручней лишнюю глину ссаживать.
– После обжига кирпич на крепость испытывают?
– Непременно, Первушка. К оному делу особые дозорщики приставлены. Каждую сотню осматривают. Добрый кирпич даже ни один чекмарь не берет, а дыбы его расколоть, надо, допрежь всего, размочить кирпич в ушате с водой…
Много всего порассказал Михеич. Упрек же Надея Светешникова он воспринял с обидой. «Иноземного зодчего возьму». Ну и пусть берет. Он же без работы не останется. Искусный печник в каждой слободе нарасхват, с руками оторвут.
Надей, уняв в себе запальчивость, остановил мастера у ворот.
– Прости, Кузьма Михеич. Прытко за кладку переживаю. Не принимай близко к сердцу слова мои. Вгорячах ляпнул.
– Еще раз ляпнешь, Надей Епифаныч, уйду со двора. Я на себя кабалу не писал.
Ведал себе цену Кузьма Михеич!
Но Надей, и в самом деле, едва не лишился мастера. Вскоре из Земской избы явился приказный и молвил:
– Куземке с пятью подмастерьями велено в Приказ Каменных дел прибыть немешкотно. Завтра же им быть на Москве.
Надей жутко огорчился. Лишиться самых опытных мастеров в самый разгар работ! Пришел в Земскую избу, но староста был неумолим:
– Не в моей силе, Надей Епифаныч, указанье государева Каменного приказа отменить. Строго-настрого писано, что «ежели мастеровые люди учнут хорониться, то жен их и детей сыскивать и метать в тюрьму, покамест мужья их не объявятся». Нечего тебе было, Надей Епифаныч, своих мастеровых на Москву посылать, вот и угодили они в записные люди. По всем городам ведется сей учет. Никак, ныне в стольном граде умыслили большую постройку учинить. Завтра же снаряжай!
Но Светешников своих мастеров на Москву не снарядил: немешкотно сам отправился в московский приказ.
Дьяк Федор Елизаров уперся: ни из хомута, ни в хомут.
– Коль приписаны, быть у государевых дел на Москве!
Веско заявил, непреклонно, при всех подьячих. А коль при всех – мзду не сунешь. Пришлось Надею дожидаться дьяка у его хором на Мясницкой улице. Когда Федор Елизаров, возвращаясь к вечеру из приказа домой, увидел у калитки ярославского купца, губы его тронула насмешливая ухмылка.
– Зря поджидаешь, Надей. Аль калитой хочешь тряхнуть? Не старайся. Деньгой государева человека не проймешь.
– Ведаю, Федор Дормидонтыч. Вся Москва наслышана о делах твоих праведных. У меня и в голову не приходило, чтоб такому человеку мзду давать… Людишек-то моих, чу, на год норовишь забрать?
– На год, Светешников, – кивнул дьяк, не понимая, куда клонит купец.
– Оплата по два рубля на трудника?
– Деньги немалые.
– Несомненно, Федор Дормидонтыч. В государевой казне каждый рубль на золотом счету, и Каменному приказу убыток. А дабы казне убытка не было, надумал я передать твоему приказу, Федор Дормидонтыч, тридцать рублей серебром. На такие деньги можно большую артель каменщиков снарядить. Моих-то всего пять человек. Прямая выгода, Федор Дормидонтыч.
Дьяк головой крутанул:
– Хитер же ты, Надей Светешников, но как купца тебя не разумею. Тебе-то, какой резон в убытке быть? И что это за постройку ты надумал возвести, коя в мошне прореху делает?
– Каменный храм, Федор Дормидонтыч.
– Дело богоугодное… Заходи в хоромишки, Надей Епифаныч.
Возвращался Светешников в Ярославль в добром расположении духа.
…………………………………………………
За последние два месяца, что только не делал Первушка на строительстве необычного «надеинского» подклета: подносил к сараю с дымной печью кирпичи, песок и глину, наполнял водой чаны и ушаты, заготовлял тару и веревки, тесал белый камень, уплотнял глину чекмарем, ссаживал лишнюю глину «ножевыми гвоздями» (которые сотворил Михеич на лад московских скребков), поднимался с раствором на стены… Побывали в его руках гребки, и ручники, кирки и долота, ломы и железные заступы… Работа тяжелая, черновая, но Первушку она не удручала. Напротив, на душе его было легко и приподнято, и все-то он делал сноровисто и с желанием, хорошо ведая, что он все ближе и ближе подступает к своей мечте – когда-то стать умельцем каменных дел. Сей путь не будет коротким. Ох, как много всего надо изведать, дабы люди назвали тебя мастером-искусником. А пока, несмотря ни на какие тяготы, надо с большим тщанием выполнять все уроки Михеича.








