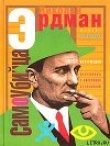Текст книги "Том 8. Почти дневник. Воспоминания"
Автор книги: Валентин Катаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Прощание с миром *
Книга «Ни дня без строчки» – большое литературное событие. Что же она из себя представляет? Лучше всего об этом говорит сам автор, Юрий Олеша:
«Пусть не думает читатель, что эта книга, поскольку зрительно она состоит из отдельных кусков на разные темы, то она только лишь протяженна; нет, она закруглена; если хотите, это книга даже с сюжетом, и очень интересным. Человек жил и дожил до старости. Вот этот сюжет. Сюжет интересный, даже фантастический. В самом деле, в том, чтобы дожить до старости, есть фантастика. Я вовсе не острю. Ведь я мог и не дожить, не правда ли? Но я дожил, и фантастика в том, что мне как будто меня показывают».
Отдельные мысли о жизни, об искусстве, оценки людей, исторических явлений, сюжеты неосуществленных произведений, портреты знаменитых и незнаменитых современников, театральные рецензии, литературные заметки, отдельные метафоры, сравнения, эпитеты… Все это, взятое вместе, – целый мир, увиденный глазами оригинального художника. Может быть, мастера? Да, конечно, и мастера. Олеша был выдающимся мастером слова. Но прежде всего он был художник. А мастер и художник не всегда одно и то же. Олеша был художник в самом широком понимании этого слова. Артистизм был в самом существе его личности.
Разумеется, эта книга никак не может заменить биографию Олеши, так как в ней пропущено много очень важных общественно-исторических, да и просто биографических данных, без которых представление об Олеше – художнике, гражданине и человеке было бы ущербно.
Биография Олеши еще впереди.
Читая книгу «Ни дня без строчки», испытываешь чувство восхищения и гордости советским народом, который уже родил и продолжает рождать так много хороших и разных художников. Олеша был в высшей степени «хороший и разный», и он был сыном своего народа, сыном Революции.
Если бы не было Революции, заставившей художников переосмысливать мир, не было бы и Олеши-писателя, вся сила которого как художника именно и заключается в постоянном переосмысливании мира.
Сказать, что искусство Олеши реалистично – недостаточно. Оно материалистично. Мир, созданный Олешей, материален. У него материален даже солнечный свет, увиденный им в костеле среди статуи.
«Мощно лежит среди них солнечный свет, падающий сверху. Он не лежит, он стоит среди них, как корабль в полной оснастке».
Обычно процесс возникновения и построения художественного образа происходит в тайне, в самых глубинах сознания. Читатель получает лишь результат этой сложнейшей, мучительнейшей работы памяти и воображения. Олеша вынес этот процесс из таинственных недр своего сознания, сделал его – на глазах у всех – предметом искусства, самым его содержанием. Кажется, до Олеши этого еще не делал никто. Это его открытие. Олеша как бы воспроизводит словесно самый ход своего художественного мышления. Читатель видит чудо рождения литературного шедевра.
В досадном несоответствии с блистательным текстом всей книги находится вялое вступление В. Шкловского, изобилующее литературными штампами и высокопарными трюизмами, вроде «высокие надежды человечества», «результат большого труда и большая удача», «писатель любил Москву» и тому подобное, и не сумевшее раскрыть всю прелесть неповторимой прозы Олеши, его места в современной литературе – не только советской, но и – смею утверждать – мировой. Не названы даже современники Олеши, люди одного с ним ряда, оставившие нам непревзойденные образцы действительно – с моей точки зрения – новаторской прозы, которой советская литература может гордиться перед всем миром, поэты Мандельштам, Пастернак, Хлебников, Цветаева и, конечно же, в первую очередь Маяковский, не только стихами которого, но так же и прозой всегда так горячо восхищался Олеша.
Книга Олеши читается с наслаждением. Но читается не легко. Над каждой строчкой задумываешься, перечитываешь. Это совсем не то, что облегченная рысь обкатанных беллетристов, еще и по сей день процветающих в толстых журналах со всеми своими: «Том второй, часть шестая, глава сорок пятая. Когда Маргарита Антоновна, выйдя на перрон Конотопского вокзала, увидела бегущего Дормидонта, который…» – и прочей бодягой.
Мы должны принести глубокую благодарность составителям книги «Ни дня без строчки», а так же издательству «Советская Россия», подарившим нам этот удивительный томик – настоящую энциклопедию стиля и хорошего вкуса, – который безусловно станет настольной книгой для каждого взыскательного литератора.
Название «Ни дня без строчки» хорошо, но, по-моему, мельче замысла книги. В нем есть нечто дидактическое. У Олеши, если поискать, найдутся названия более интересные. Например, «Театр метафор» или, как он мне сам говорил много раз, – «Лавка метафор», даже «Депо метафор». Но лучше всего название, упомянутое на последней странице его книги, быть может, последней странице, написанной его милой рукой: «Надо написать книгу о прощании с миром».
«Прощание с миром»!
По-моему, это было бы прекрасно.
1965
Вознесенский *
Он вошел в сени, как всегда, в короткой курточке и меховой шапке, осыпанной снежинками, которая придавала его несколько удлиненному юному русскому лицу со странно внимательными, настороженными глазами вид еще более русский, может быть даже древнеславянский. Отдаленно он напоминал рынду, но без секиры.
Пока он снимал меховые перчатки, из-за его спины показалась Оза, тоже осыпанная снегом.
Я хотел закрыть за ней дверь, откуда тянуло по ногам холодом, но Вознесенский протянул ко мне беззащитно обнаженные, узкие ладони.
– Не закрывайте, – умоляюще прошептал он, – там есть еще… Извините, я вас не предупредил. Но там – еще…
И в дверную щель, расширив ее до размеров необходимости, скользя по старой клеенке и по войлоку, вплотную один за другим стали проникать тепло одетые подмосковные гости – мужчины и женщины, – в одну минуту переполнив крошечную прихожую и затем застенчиво распространившись дальше по всей квартире.
– Я думал, что их будет три-четыре, – шепотом извинился Вознесенский, – а их, оказывается, пять-шесть.
– Или даже семнадцать – восемнадцать, – уточнил я.
– Я не виноват. Они сами.
Понятно. Они разнюхали, что он идет ко мне читать новые стихи, и примкнули. Таким образом, он появился вместе со всей случайной аудиторией. Это чем-то напоминало едущую по городу в жаркий день бочку с квасом, за которой бодрым шагом поспевает очередь жаждущих с бидонами в руках.
Гора шуб навалена под лестницей.
И вот он стоит в углу возле двери, прямой, неподвижный, на первый взгляд совсем юный, – сама скромность, – но сквозь эту мнимую скромность настойчиво просвечивает пугающая дерзость.
Выросший мальчик с пальчик, пробирочка со светящимся реактивом адской крепости. Артюр Рембо, написанный Рублевым.
Он читает новую поэму, потом старые стихи, потом вообще все, что помнит, потом все то, что полузабыл. Иногда его хорошо слышно, иногда звук уходит и остается одно лишь изображение, и тогда нужно читать самому по его шевелящимся, побелевшим губам.
Его аудитория не шелохнется. Все замерли, устремив глаза на поэта, и читают по его губам пропавшие в эфире строки. Здесь писатели, поэты, студенты, драматурги, актриса, несколько журналистов, знакомые знакомых и незнакомые незнакомых, неизвестные молодые люди – юноши и девушки в темно-серых пуловерах, два физика, шлифовальщик с автозавода – и даже один критик-антагонист, имеющий репутацию рубахи-парня и правдивого малого, то есть брехун, какого свет не производил.
Который раз я слушаю Вознесенского и всегда испытываю чувство, так хорошо выраженное Пушкиным в стихах к Языкову:
…кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!
Эти стихи Пушкина всегда приводят на память другие, его же:
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!
По аналогии с Пушкиным, который предложил Языкову назвать книгу его стихотворений «Хмель», можно посоветовать Вознесенскому названье «Стрелы».
Настоящая поэзия начинается тогда, когда поэт перестает ощущать сдерживающие его условности формы, метрики, традиции вкусов, то есть когда, сбросив с себя все навязанное ему извне, чужое, заштампованное, – он вдруг в один счастливый миг делается самим собой: вот он – совершенно новый, неповторимый, дерзкий, и вот перед ним его свободно выбранная тема, его свободная мысль – и между ними нет никаких преград, их ничто не разделяет, не тормозит их взаимовлияния и не препятствует полному, самобытному воплощению идеи в слове.
Я вижу основное качество Вознесенского – раскованность, самое ценное, что может быть в поэте.
Вознесенский прошел замечательную школу современной русской, советской поэзии – смею сказать, лучшей в мире, – и воспринял ее не только как талантливый ученик, но и как прямой продолжатель поэзии таких поэтов, как Блок, Хлебников, Маяковский, Пастернак, Асеев, Заболоцкий, Цветаева. Например, если так можно выразиться, он открыл для поэзии ремарки блоковского театра, исходя пз которых построил прозаические куски своей поэмы «Оза». Вспомним блоковское:
«Тишина. Ацетилен шипит. Потрескивают бублики».
Или:
«Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоях, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть…»
Из Маяковского на него влияли наименее часто цитируемая поэма «Про это» и ранние, дореволюционные стихи, ценимые, в общем, далеко не всеми из многомиллионной массы читателей Маяковского.
У Вознесенского оказалась завидная способность: начав свой творческий путь учеником великой плеяды современных русских поэтов, полностью сохранить свою самобытность, свое неповторимое творческое лицо. Русский язык его стихия, и, свободно плавая в его необозримом океане, он сделался поэтом, известным всему миру и в то же время оставаясь прежде всего русским, ярко национальным. Это не для красного словца. Он выступал перед аудиториями Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Варшавы, Флоренции. Его стихи переведены и изданы в Англии, США, Польше, ГДР, Чехословакии, Японии, Италии, ФРГ, Югославии и многих других демократических и недемократических странах. Темы его стихов интернациональны. Их география весьма внушительна: от Красной площади и Рублевского шоссе в Москве до Калифорнийского парка, где растет легендарная «секвойя Ленина». Диапазон поэтического материала разнообразен. «Живет у нас сосед Букашкин…», «Ночной аэропорт в Нью-Йорке», «Флорентийские факелы», «Прощание с Политехническим», «Баллада об Эрнсте Неизвестном» – и «Я в Шушенском…» «Лонжюмо». Так же разнообразны жанры: любовная лирика, острополитическая сатира, элегия, пейзаж, жанровая баллада. И все это пронизано большой общественно-социальной идеей, революционной мыслью…
Вознесенский прежде всего поэт-мыслитель. Но в не меньшей, если не в большей, степени он живописец и архитектор. «Окончил Московский архитектурный институт, много занимался живописью», – пишет он в своей автобиографической заметке. Отсюда его остроживописное восприятие мира, его снайперский глаз архитектора, привыкшего свободно распоряжаться пространством, располагая в нем строительный материал по принципу высшей целесообразности, а следовательно, и красоты. Я думаю, что никто другой в русской поэзии с такой ясностью, всем своим творчеством не подтвердил предположения Осипа Мандельштама о том, что
Красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра… —
хотя Вознесенский далеко не простой столяр.
Его строительный материал – метафоры, смонтированные на конструкциях свободного ритма, не связанного никакими правилами канонического стихосложения и подчиненного одной-единственной повелительнице: мысли.
Поразительны метафоры поэта! Он никогда не унижается до упрощенных сравнений, не требующих от читателя творческого усилия. Читать Вознесенского – искусство. Но, по всем признакам, этим искусством вполне овладели массовые читатели. Вечера Вознесенского собирают большие аудитории, а его книг никогда не бывает на прилавках. Распроданы.
Вот он читает, и белый лес прильнул к черным ночным окнам, изредка роняя бесшумные пласты инея. Ледяной колокольчик вздрагивает в голубом нарзане.
Юрий Олеша говорил, что хочет написать книгу под названием «Депо метафор». Книги Вознесенского всегда депо метафор.
Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синевы —
без стакана.
Этот стакан синевы без стакана вызывает целую картину современного аэропорта, написанную буквально несколькими словами, причем здесь художник-архитектор-поэт не только изобразитель, но также и полемист, весьма ядовито противопоставляющий старый архитектурный стиль каменных истуканов новому архитектурному стилю организованной синевы стекла и дюраля.
Метафора Вознесенского не украшение. Она всегда несет громадную идейную нагрузку.
Однажды, став зрелей, из спешной повседневности
Мы входим в Мавзолей, как
в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапки, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.
Могучая мысль заложена в этой метафоре, которая, подобно спектру солнечного света, содержит, кроме видимых цветов, еще два невидимых – ультрафиолетовый и инфракрасный, как бы незримо проникающих в обнаженную душу современника, входящего в темный Мавзолей Ленина.
Что еще надо сказать о Вознесенском? Он в возрасте зрелости и расцвета. Это большой русский поэт в пору приближения к зениту.
Вот он кончил читать и неподвижно стоит в углу, там, где у нас обычно стоит елка, как бы ошеломленный самим собой, тем, что он создал и подарил людям.
Аудитория рассеивается, как дым. В опустевшей комнате холодок сквозняка, запах хвои, две или три снежинки, залетевших сюда из лесу.
Он продолжает стоять неподвижно, напоминая чем-то новогоднюю елку, стройную, смолисто-сухую, такую русскую, всю разубранную инфракрасными шарами и ультрафиолетовыми свечками, недоступными для зрения и все же существующими.
1965
Магнитка *
У подножья горы Атач, в петрографическом музее, среди коллекций минералов и образцов магнитогорских руд, я увидел на подставке большую голову, как бы вытесанную из темной глыбы каким-то первобытным ваятелем. Ее темя было покрыто странной железной растительностью. Это был образец местной магнитной руды с прилипшими к ней шурупчиками, булавками, канцелярскими скрепками, набросанными любознательными посетителями, желавшими убедиться в магнитных свойствах глыбы.
И вот я стою перед ней, как перед волшебным явлением природы, ощущая себя маленьким кусочком железа, притянутым сюда, за Урал, за полторы тысячи километров, магической силой притяжения.
Я не был здесь с тридцать первого года, но никогда не забывал Магнитку. Для людей моего поколения она незабываема, как первая любовь.
Навсегда запомнилось мне ощущение неповторимости, которое я испытал в первый день моего приезда сюда вместе с Демьяном Бедным, после того как мы уже побывали с ним на лесах Днепрогэса, напоминавших мне осаду Трои, на Ростсельмаше, на Сталинградском тракторном, посетили колхозы Волги и Дона. Я уже был подготовлен к восприятию Магнитки, но она буквально потрясла меня. И не потому, что я увидел нечто более величественное, чем видел до сих пор. Ничего величественного еще не было, кроме до дерзости смелого замысла построить здесь, в глуши пугачевских степей, величайший в мире металлургический комбинат.
Незадолго до этого Маяковский прочел мне только что им написанный марш времени:
Вперед,
время,
Время,
вперед!
Я сказал, что это отличное название для индустриального романа на материале первой пятилетки. Он остановился посреди Большой Дмитровки и некоторое время, жуя крупным ртом дымящуюся папиросу, смотрел на меня оценивающим взглядом. Потом сказал:
– Вот вы и напишите этот роман.
Это было завещание Маяковского.
Таким образом, когда я приехал на Магнитку, у меня уже было название будущего романа – «Время, вперед!», его главная тема: темпы, опережающие время.
Матерпала я не искал. Он сам на меня навалился. Это была пора строительных рекордов. На весь мир гремели имена магнитогорских бетонщиков, показывающих чудеса скоростной кладки бетона. Я наяву увидел людей, опережающих время.
Вокруг была голая степь, глухая, дикая. Две домны только намечались, как рисунки углем. У подошвы горы Магнитной был как бы черновой набросок города. Но уже и тогда, в этом черновом наброске, ощущалось некое, довольно, впрочем, условное, деление на будущие районы. Запомнился питомник, где на чахлых грядках выращивались саженцы черного и красного леса, жалкие прутики, редко покрытые вялыми листочками, отягченными толстым слоем азиатской пыли: заготовки тех самых садов, бульваров и парков, которые я увидел через тридцать пять лет.
Тогда, помню, я буквально упивался небывалой, неповторимой, быть может, единственной в истории человечества картиной вдохновенного труда целого народа, превращавшего свою отсталую страну из аграрной в индустриальную.
Я видел, как в ходе строительства рождались тысячи героев-ударников – цвет рабочего класса, – как переворачивался старый и возникал новый, небывалый, еще никем никогда не виданный и не описанный мир социалистического будущего. Хотелось, чтобы ни одна мелочь не была забыта для Истории.
Я видел воинствующую комсомолию на баррикадах первых пятилеток.
Ни города, ни завода еще и в помине не было, – была лишь мечта, – но мы все, тогдашние магнитогорцы, с поистине пророческой ясностью представляли себе уже задутые домны, – восемь колоссальных домен, – коксовые печи, мартены, блюминги, слябинги и на правой стороне вместо сравнительно небольшого заводского пруда того времени – громадное магнитогорское море, а на его берегу новый многоэтажный город недалекого будущего, его арки, проспекты, сады, бульвары.
И вот теперь, через тридцать пять лет, – уже не молодой человек, а, в общем, старик, но с тем же командировочным удостоверением «Правды» в кармане, – я ехал с аэродрома к центру Магнитогорска в машине, которая как бы с усилием пробивалась сквозь плотные облака сорокаградусного мороза, среди гипсовых уральских снегов, леденцово освещенных медно-розовым кружочком крещенского солнца, лишенного лучей. Впереди до половины небосвода возвышалась как бы некая гора, состоящая из разноцветных – угольно-черных, ярко-белых, рыже-коричневых, лимонных, аметистовых – дымов, медленно вылезавших, как бараны, из двухсот труб металлургического комбината, который длинно лежал в сумраке у подножья этой дымовой горы скоплением покрытых инеем доменных печей, мартенов, висящих в воздухе газопроводов, извивающихся, как гигантские удавы, эстакад, высоковольтных передач. Машина как бы въезжала в темную пещеру, но по мере продвижения вперед дымные стены ее раздавались на стороны, солнечные лучи проникали сквозь топазовые слои пара и дыма, сверкающий январский день горел вокруг; и на фоне густой ляпис-лазури неба отчетливо выступали над низкими чугунными оградами сады и аллеи, обросшие толстым инеем. Каждое дерево и каждый куст – карагач, сирень, тополь, липа, – которые я помню еще саженцами, теперь представляли чудо зимней красоты: иные из них напоминали волшебное изделие русских кружевниц, иные стояли вдоль палевых и розовых многоэтажных домов, как некие белокаменные скульптуры, иные были разительно схожи с хрупкими кустами известковых кораллов синеватого подводного царства, иные – с ветвистыми оленьими рогами, осыпанными мельчайшими кристалликами уральских самоцветов, и город Магнитогорск, потонувший в облаках морозного, солнечного тумана, был сказочно хорош в своем царственно-русском горностаевом убранстве – город осуществленной мечты.
Кое-что здесь сохранилось «еще с тех времен». Например, гостиница была та же самая, описанная во «Время, вперед!», даже сквозняки те же, и когда я отворил дверь в свой номер, – портьеры вылетели в коридор и стоило больших трудов втолкнуть их обратно.
Я исколесил вдоль и поперек весь этот почти полумиллионный город, побывал на комбинате, ощущая вокруг себя чудовищное скопление железа во всех видах: в виде стальных лестниц, эстакад, колоссальных труб, по которым сюда подавался бухарский газ, кауперов, рельсов, паровозов с дымящимися ковшами металла, колошниковых площадок с газовыми факелами, облазил сверху донизу знаменитые домны, которых уже было не восемь, а девять и строительство последней, десятой, заканчивалось. Со стальных мостиков и площадок я любовался солнечным заревом расплавленного чугуна, извилисто текущего по канавкам доменного двора и льющегося в ковши.
Ночью волшебно сияли зеленым светом сплошные окна кислородного завода. Облака пара клубились над теплым магнитогорским морем, куда, как таинственный град Китеж, ушла навсегда старинная казачья церковь бывшей станицы Магнитной, упомянутой Пушкиным в «Истории пугачевского бунта».
Чернея на белом снегу берега, стояли, как очарованные, со своими спиннингами местные рыболовы. Я проезжал мимо ярких витрин магазинов, мимо тысячеоконных жилых массивов, мимо катков и спортплощадок со стремительно скользящими силуэтами хоккеистов, мимо скверов, где еще светились всеми своими багровыми лампочками новогодние елки, доживающие последние дни. В мелькании ночных трамваев, визжащих на поворотах, и засахаренных троллейбусов, в лунных плошках автомобильных фар, задушенных морозом, я видел фигуры добротно одетых магнитогорцев: красавиц в высоких разноцветных шапках на модных, вавилонски-высоких прическах, широкоплечих молодых людей в коротких цигейковых куртках и ушанках, бодрых стариков в старомодных зимних пальто с каракулевыми воротниками, хозяек в оренбургских платках, школьников и школьниц, весело кидающихся снежками, целые рабочие семьи, степенно шествующие в гости.
Я побывал в отличных мастерских-мансардах местных художников, в квартирах актеров, в гостях у доменщиков, прокатчиков, сварщиков, журналистов, у старейшего магнитогорского поэта Бориса Ручьева. Это цвет рабочего класса, истинные хозяева жизни, строители будущего коммунистического общества, новаторы производства, люди начитанные и образованные, подлинная рабочая интеллигенция, люди, не привыкшие почивать на лаврах и останавливаться на достигнутом.
Подобно своим отцам и дедам, строителям Магнитогорска 30-х годов, они без устали ежедневно опережают время, и строчка Маяковского «Время, вперед!» для них есть программа жизни. Они без устали совершенствуют доменный процесс, увеличивают производительность печей, внедряют автоматизацию и механизацию, все время что-нибудь изобретают, продолжая традиции старых магнитогорцев, совершивших множество трудовых подвигов, в том числе незабываемый подвиг, акт смелого новаторства, когда в начале войны, не побоявшись риска, стали катать танковую броню на блюминге и тем самым сделали неоценимый вклад в дело обороны. Каждый второй советский снаряд, выпущенный во время войны, был сделан из магнитогорского металла.
Творческая мысль магнитогорских металлургов не дремлет. Я познакомился с группой молодых энтузиастов, работающих под руководством молодого инженера-новатора Игоря Ивановича Морева. Они заняты проблемой выплавки стали совершенно новым способом, с применением самых последних достижений современной научной мысли: квантовой механики и физики, кибернетики, магнитогидродинамики, электроники. Еще рано говорить в печати об их опытах, но опыты эти уже перешли на полузаводскую стадию, и есть все основания ожидать большой творческой победы, которая, возможно, будет иметь мировое значение.
Так Магнитогорск хранит в своей среде традиции комсомольцев-энтузиастов 30-х годов.
Много сил приходится отдавать магнитогорцам проблеме загазированности воздуха. Двести заводских труб посылают в воздух колоссальное количество не только пыли, но и самых вредных выбросов: сернистого ангидрида и окиси азота. Шестьсот тонн одной только чистой серы ежедневно висит в магнитогорском небе, отравляя людей, губя фруктовые сады, ягодники, городские парки, которыми так гордятся магнитогорцы. Установленные сероулавливатели и прочие приборы почти не дают никакого эффекта. Техническая мысль бьется над решением проклятого вопроса, но надо сказать со всей прямотой: результатов пока не видно. Да и вряд ли своими местными средствами – как бы велики они ни были – комбинат может успешно бороться с этим страшным бедствием. Сейчас проектируется город-спутник, удаленный от Магнитогорска на двадцать – тридцать километров и расположенный в здоровой живописной местности на берегу озера Банного. Но даже осуществление этого проекта не решит проблемы. Оставшиеся в Магнитогорске люди, прикованные к своим квартирам и хозяйствам, все равно принуждены будут жить, вдыхая зараженный воздух.
Дальше так продолжаться не может. Необходимо срочное вмешательство в общегосударственном масштабе, с тем чтобы разрешить проблему с таким же размахом и широтой, с каким у нас так успешно решается проблема жилищного строительства.
Считаю своим партийным долгом обратиться с этими словами через «Правду» к Советскому правительству и партии. Быть может, этот важнейший и актуальнейший вопрос явится предметом обсуждения на предстоящем XXIII съезде наряду с другими важнейшими вопросами. Ведь дело идет о здоровье и жизни советских людей, наших славных металлургов, лучшей славе рабочего класса. И это не только в Магнитогорске, но и во многих других городах и поселениях, связанных с металлургическим и химическим производством.
Надеюсь, что мои слова будут услышаны.
Перед отъездом я побывал в гостях у Владимира Михайловича Зудина – потомственного пролетария, который начал свою трудовую жизнь верховым доменного цеха, затем горновым, и впоследствии кончил директором комбината, инженером и профессором. Теперь он пенсионер, но продолжает свою профессорскую деятельность в горно-металлургическом институте, воспитывая молодых новаторов производства, инженерно-техническую смену высокообразованных и высококвалифицированных металлургов.
За стаканом чая я спросил его:
– Как вы объясните источники того энтузиазма, который зажегся здесь более тридцати пяти лет назад и не угасает до сих пор в сердцах тружеников Магнитогорска? А главное, в чем – по вашему мнению – заключается сущность этого постоянного творческого горения советских людей?
Он задумался. Потом сказал, как бы оценивая каждое свое слово:
– Видите ли… По-моему, одна часть людей испытывает удовольствие от жизни только в том случае, если удается все время что-нибудь для себя приобретать, обогащаться, и чем больше эти люди приобретают, тем больше испытывают удовольствия. Поменьше дать, побольше взять, урвать, отхватить. Вот смысл существования таких людей-приобретателей, как мы называем: «прохиндеев», Чичиковых. Их осталось уже в нашей среде не так много, но все еще попадаются этакие севрюги с белыми вываренными глазами стяжателей. Даже втираются в довольно высокие органы власти. Другая часть людей испытывает радость жизни, удовлетворение ею только тогда, когда делает что-то для других людей, в конечном счете для всего человечества. Вот это-то чувство радости от постоянной отдачи своей энергии для общего дела построения коммунизма, то есть такого общественного строя, когда всем хорошо, – это и есть тот душевный огонь, который передается из поколения в поколение, начиная с Октябрьской революции – главная традиция рабочего класса нашей страны и его славных, ленинских комсомольцев.
Обратно в Москву я возвращался на поезде, любуясь несказанной прелестью зимнего Урала, а затем пересекая просторы Заволжья, и когда ночью, перебирая в уме магнитогорские впечатления, я смотрел в черное окно вагона, то время от времени видел проплывающие мимо оранжево-рыжие нефтяные факелы, развевающиеся на лютом ветру тридцатиградусного мороза, и они говорили моему сердцу о тех неисчерпаемых богатствах, которые заложены в душах советских людей и в недрах неизмеримых советских земель.
1966