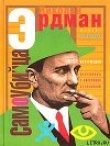Текст книги "Том 8. Почти дневник. Воспоминания"
Автор книги: Валентин Катаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Новогодний тост *
– Итак, продолжаю:
…Посредственность, серость, вялость и скука в книге очень часто происходят от бессилия писателя творчески переработать, строго отобрать и обобщить все то богатство красок, характеров, ситуаций, конфликтов, которое дает жизнь. Но увидеть, почувствовать и отобрать все эти краски – еще далеко не все. Палитра – еще не картина. Если смешать все цвета спектра, получится чистый белый цвет, то есть ничто.
Гете говорил однажды о том, что самое для него трудное – это тысячеглазая гидра эмпиризма, возникающая перед ним всякий раз, когда он садится за письменный стол. Описать очень похоже мопса, говорил Гете, не означает ничего, кроме того, что к тысячам уже существующих мопсов прибавится еще один.
Изображение предмета должно быть окрашено индивидуальностью художника, как бы освещено изнутри единой, всепроникающей мыслью. Явление должно быть раскрыто во всем богатстве своих противоречий. Раскрытие противоречий, их художественный анализ есть необходимое условие творчества.
Часто не хватает смелости и мастерства для того, чтобы справиться с «тысячеглазой гидрой эмпиризма», и тогда эта гидра беспощадно пожирает художника.
К искусству нельзя применять метод арифметический. «Дважды два четыре» – открытие только для дошкольника. А мы обязаны быть даже не десятиклассниками или студентами, а профессорами, учеными, мыслящими самостоятельно и ново. Между тем «арифметический метод» в литературе приводит к тому, что многие наши даже очень известные, талантливые писатели и поэты, стремясь «объять необъятное», впадают в многословие. Романы пишутся в 40, 60, 80, 100 и более листов. Поэмы измеряются километрами. Стихи выдаются оптом – циклами. Иные писатели начинают свою литературную деятельность прямо с эпопей и на меньшее не согласны.
Эта гигантомания – явление весьма распространенное. Происходит оно потому, что мы разучились обобщать, строго отбирать. Мы часто утрачиваем чувство архитектоники и относимся к слову слишком легко. Между тем слово, – то есть материал, из которого мы строим свои произведения, – вещь необыкновенно могучая, радиоактивная. Словами надо пользоваться крайне осмотрительно, скупо, а не наваливать их неорганизованными грудами.
Это именно и есть редкий случай, когда количество не переходит в качество, а, наоборот, ведет к падению всякого качества.
Бытие определяет сознание. Это общеизвестно. Но сознание художника не должно быть зеркальным: что отразилось, то и отразилось. Сознание художника должно не только отражать, но и творчески преображать мир. Писатель, лишенный воображения и фантазии, перестает быть подлинным художником. Он превращается в обстоятельного протоколиста. Обстоятельность – смерть искусства. Сказать про поэта, что он написал обстоятельную поэму, все равно что сказать: он не поэт.
Дотошно обстоятельный роман – это совсем не то же самое, что роман глубокий, широкий, идейно насыщенный. Слишком много у нас развелось таких обстоятельных, «добротных» литературных произведений!
И еще одно: не следует забывать о богатейших музыкальных возможностях русского языка. Слово – это мысль. Верно. Но слово – также и звук. Мы пишем не для глухонемых. Каждая синтаксическая форма есть вместе с тем и музыкальная фраза.
Мы в одно и то же время пишем, мыслим и слышим.
Литературное произведение создается на музыкальной канве. Интонация – это мелодия. Мелодия не есть привилегия только поэзии. Мелодия – основа прозы. Недаром Толстой назвал Чехова Пушкиным в прозе.
Каждому прозаику должна быть свойственна своя, особая, неповторимая музыкальная интонация. Если писатель не слышит того, что он пишет, то его не услышит и читатель. Читатель услышит лишь монотонный, беглый стук пишущей машинки.
Мопассан считал, что для писателя в первую очередь необходимо зрение. Я считаю, что для писателя в первую очередь необходим слух. Подчеркиваю – в первую очередь. Это не значит, что зрения не надо. Зрение – тело. Но слух – душа. Отсутствие музыкального чутья превращает даже самое «добротное» литературное произведение в более или менее талантливый протокол. Отсюда проистекают и скука, и серость, и посредственность.
Подымаю свой новогодний стакан за искусство.
Больше творческой фантазии, товарищи, больше смелых обобщений, больше острых характеров и столкновений, больше подлинной жизни, больше музыки.
1953
Былина на экране *
Очень хорошо, что наша кинематография, желая расширить свою тематику, обратилась к былине. Русские былины – выдающееся явление в истории мирового устного народного творчества. Это неисчерпаемый источник вечной красоты. Какое богатство могучих человеческих характеров, выражающих душу великого русского народа! Какое разнообразие красок, какая музыка слова! Среди русских былин одно из первых мест занимает былина о Садко. Недаром Римский-Корсаков взял ее темой для своей изумительной оперы.
Новый фильм «Садко», поставленный на киностудии «Мосфильм» Александром Птушко по сценарию К. Исаева, является самостоятельным кинопроизведением, отличным от оперы. Правда, фильм идет в сопровождении музыки Римского-Корсакова (редакция и дополнения композитора В. Шебалина). Но поет один лишь Садко, да и то изредка. Знаменитые арии и хоры, которые, собственно, и составляют одну из главных красот оперы, не использованы. Таким образом, музыка Римского-Корсакова в фильме оказалась почти полностью лишенной вокального элемента, утратила свой драматизм и явилась лишь иллюстрацией к тексту сценария.
Сюжет картины, построенный «по мотивам онежских былин», в коротких словах сводится к следующему. Гусляр Садко после долгих странствий возвращается в свой родной Новгород. Он видит, что народ живет худо, в бедности. «Счастья нет». Тогда он предлагает народу снарядить корабли и плыть в дальние земли искать «птицу-счастье». Для этого Садко идет на пир к богатым купцам и уговаривает их взять свои товары и повезти в дальние земли, чтобы добыть славу Новгороду. Но купцы изгоняют Садко.
Ильмень-царевна, влюбившись в Садко, помогает ему осуществить свою мечту, построить корабли и отправиться за «птицей-счастьем». Дальше начинаются приключения Садко в чужих странах – в Египте, Индии, в стране варягов, что, собственно, и является главным содержанием картины. Наконец, так и не найдя «птицы-счастья», Садко возвращается в родной Новгород и на вопрос народа, нашел ли он счастье, отвечает: «Нашел!» – «Где же оно?» – «Вот оно! Тридевять земель обошел, на дне морском побывал, а ничего нет краше земли родной».
Но в фильме не дано представление о Новгороде того времени как об одном из крупнейших международных торговых и культурных центров. Куда девались заморские гости, без которых трудно представить облик древнего Новгорода? Они только промелькнули в нескольких кадрах фильма.
Образ самого Садко модернизирован. Новгородского богатого «гостя» – купца – в фильме превратили в какого-то народного вожака.
Ни сценаристу, ни постановщику не удалось передать самый дух былинного творчества, строгий, монументальный стиль, художественную соразмерность частей и внутреннее единство былин. Несмотря на сказочность своего содержания, даже элементы фантастики, былины в основе своей всегда глубоко реалистичны, по-народному мудры и ясны, отличаются простотой. В фильме же бросается в глаза разностильность. Творческий почерк постановщика А. Птушко то и дело резко меняется. У него нет настоящего проникновения в материал: отсутствует строгий отбор изобразительных средств.
В картине незаконно уживаются взаимно исключающие друг друга стили. Монументальный стиль «Александра Невского» в соседстве с мишурной экзотикой «Индийской гробницы», фотографически достоверная березовая роща и бутафорская фантастика подводного царства. Словом, эклектическая смесь несовместимых красот и приемов. Раз уж берешься за тему былинную, то и стиль должен быть от начала до конца единый: строгий, эпический. Когда на берегу моря мечутся в рогатых шлемах небрежно загримированные «варяги», это вызывает только улыбку. Вообще надо заметить, что битва новгородцев с варягами производит, вопреки воле постановщика, комическое впечатление. Она скорее напоминает потасовку из «Трех мушкетеров», чем былинное сражение.
Артисту С. Столярову, по существу, нечего играть. Ему остается только позировать. Характер Садко, в отличие от былины и оперы, в фильме почти не развивается. Нечего также делать двум молодым актрисам, исполняющим роли возлюбленной Садко Любавы и Ильмень-царевны.
Артисты играют в разных стилях: кто в бытовой манере, кто в героической, кое-кто даже «в духе Метерлинка». Юмористическое впечатление производит птица Феникс с красивой женской головой и длинными цыплячьими ногами, когда ее несут завернутую в какую-то бумагу, словно курицу с базара. Здесь уже явный недостаток вкуса. Тот же упрек можно отнести и к сценам с участием морского царя, маскарадно костюмированного и весьма напоминающего балаганного комика. Постановщик, видимо, спутал два образа: шутника-водяного и грозного морского царя. А это не одно и то же.
Сценарист не нашел хорошего народного языка для своих героев. Правда, они разговаривают «по-былинному», но это явная стилизация. Нет-нет да и прорвется какое-нибудь комнатное словечко: «Чего ж теперь ты хочешь?» – «Воздуха вольного хочу». Так и подмывает прибавить: «Воздуха вольного хочу, кислородушка».
Но при всех недостатках картина все же смотрится. Она смотрится не как единое художественное целое, а как ряд более или менее красивых картин, а иногда и аттракционов. Из этих картин лучшее, конечно, вся первая часть. Тут действительно верно найден былинный стиль. Много сочного, яркого. Выделяется сцена, в которой Садко выбирает дружину для путешествия. Удачно показана борьба богатыря Вышаты с медведем.
Сравнительно сильная сторона фильма – хорошее качество съемок, в особенности комбинированных. Удачна работа художников. И конечно, восхищает музыка Римского-Корсакова, хоть и урезанная, но все же даже и в таком виде прекрасная. Несмотря на все очевидные недостатки картины, выпуск «Садко» на экран надо считать явлением небесполезным. Кино располагает большими средствами для того, чтобы экранизировать русские былины и сказки. Только делать это нужно не так легковесно, а с большим вкусом и тактом. Но – лиха беда начало!
1953
Заметки о Маяковском *
1) Маяковский в «Огоньке»Маяковский любил печататься в массовых многотиражных изданиях. В одном только «Огоньке» при жизни Маяковского было помещено больше двадцати стихотворений. Два стихотворения появились вскоре после его смерти: «Нота Китаю» и «Стихи о советском паспорте».
Я хорошо помню тот день – тридцать лет назад, – когда в редакции «Огонька» впервые появился Маяковский. Это было весной 1923 года, незадолго до выхода в свет первого номера журнала. Страна переживала тягостные, тревожные дни болезни Ильича. Положение Ленина было настолько серьезно, что правительство выпустило специальный бюллетень о состоянии его здоровья. Возле белых листков, расклеенных на стенах домов, толпились люди. Тень горя и тревоги упала на омраченный город. Она представляла разительный контраст с ярким весенним солнцем, блеском стекол и голубым небом над сиреневыми луковками Страстного монастыря.
Маяковский пришел в редакцию «Огонька» в легком весеннем макинтоше, в кепи, с палкой, повешенной на руку, с толстым окурком папиросы в углу своего характерно очерченного, энергичного рта. Опершись спиной о косяк двери, поэт прочел нам новое, только что написанное стихотворение:
Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный
бюллетень…
Как сейчас, слышу раскаты низкого голоса Владимира Владимировича, как сейчас, вижу над его переносицей глубокую короткую вертикальную черту, разделявшую его густые, крылатые брови.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
Не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.
Это было гениально просто, с небывалой силой выраженное общее чувство всего советского народа. Это были те единственные слова, которые так отвечали нашему душевному состоянию.
Стихотворение «Мы не верим!» было напечатано в первом номере журнала. Так Маяковский начал сотрудничать в «Огоньке», так появились в печати строки, ставшие классикой: «Не ослабеет ленинская воля в миллионносильной воле РКП», «Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди…»
Маяковский не забывал «Огонек». Обычно он приходил днем, вынимал из бокового кармана сложенный вчетверо лист линованной бумаги, на котором помещалось ровно тридцать пять стихотворных строк знаменитой маяковской «лестнички», и читал свою новую вещь сотрудникам журнала. Так мы впервые услышали многие его лучшие стихотворения: «Киев», «Мексика», «Мы – Эдисоны невиданных взлетов…», «Марш ударных бригад» и многие другие. Поэт помещал в «Огоньке» и свои знаменитые стихотворные рекламы. Своей работе в этой области Маяковский придавал большое принципиальное значение и очень сердился, когда с ним не соглашались. Была у Маяковского, между прочим, реклама, посвященная «Огоньку».
Беги со всех ног
покупать
«Огонек», —
призывали светящиеся буквы.
В 1923 году Маяковский принес шуточное стихотворение «Схема смеха», с собственными иллюстрациями: шесть картинок, сделанных пером, тушью, в острой манере «Окон сатиры» РОСТА. Комизм стихотворения заключался в неожиданных рифмах и в еще более неожиданных логических выводах. Речь шла о том, как по железнодорожному полотну шла баба с молоком и чуть не попала под курьерский поезд.
Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревмя —
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вовремя.
И вдруг совершенно неожиданный и смешной именно этой своей неожиданностью вывод:
Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня.
Да здравствует торгующий
бараниной средняк!
Эта стихотворная шутка была напечатана в пятом номере новорожденного журнала.
В конце жизни Маяковский обратился к драматургии. Он написал «Клопа», потом «Баню». Постановка этих пьес была связана со множеством затруднений, которые очень раздражали поэта. Приходилось бороться с косностью, непониманием, прямыми «зажимами». Многие театральные деятели не хотели признавать Маяковского как драматурга, не видели в его пьесах искусства. Маяковский неустанно, где только мог, разъяснял смысл «Клопа» и «Бани», ездил на заводы и читал свои пьесы рабочим.
В это время Маяковский опубликовал в «Огоньке» две заметки об этих пьесах. Заметки содержат очень важные мысли Маяковского о драматургии, в частности, о комедии.
Вот что, между прочим, написал Маяковский в № 2 «Огонька» за 1929 год о своей пьесе «Клоп»:
«Мне самому трудно одного себя считать автором комедии. Обработанный и вошедший в комедию материал – это громада обывательских фактов, шедших в мои руки и голову со всех сторон во все время газетной и публицистической работы, особенно по „Комсомольской правде“.
Газетная работа отстоялась в то, что моя комедия – публицистическая, проблемная, тенденциозная.
Проблема – разоблачение сегодняшнего мещанства.
Я старался всячески отличить комедию от обычного типа отображающих задним числом писанных вещей.
Пьеса – это оружие нашей борьбы. Его нужно часто навастривать и прочищать большими коллективами».
А вот что писал Маяковский в заметке «Что такое „Баня“? Кого она моет?»
«„Баня“ моет (просто стирает) бюрократов… Сделать агитацию, пропаганду, тенденцию – живой, – в этом трудность и смысл сегодняшнего театра».
Очень важные мысли великого поэта о театре!
Знаменитейшее стихотворение Маяковского «Стихи о советском паспорте» было впервые напечатано тоже в «Огоньке» уже после смерти поэта. Но я хорошо помню, как он, живой Маяковский, их читал; помню, с какой особенной силой и гордостью он произносил «серпастый» и «молоткастый», как он затем вытянулся во весь рост, поднял высоко над головой записную книжку и рявкнул:
Читайте,
завидуйте,
я – гражданин
Советского Союза!
Таким он мне и запомнился на всю жизнь.
1953
2) Воображаемый разговор с МаяковскимВы любили, Владимир Владимирович, путешествовать. «Мне необходимо ездить, – писали Вы в своей книге „Мое открытие Америки“. – Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг». Немало Вы ездили по земному шару. Но больше всего Вы путешествовали по родной стране. Вы страстно любили свою социалистическую родину. Вы восхищались сказочно быстрым ростом ее городов, зорко всматривались в черты нового. Вашей поэзии было в высшей степени присуще чувство нового. Вы, как никто другой, понимали всю неповторимую красоту нашей жизни.
На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена
и разен язык
и одежи!
Из длительных путешествий по «своей земле» Вы возвращались в «свою Москву» полный новых мыслей, чувств, впечатлений. Вы приезжали веселый, помолодевший. В Вас чувствовался могучий прилив творческих сил, как в Антее, прикоснувшемся к матери-земле.
Посреди Вашей комнаты на полу лежал открытый чемодан с дорожными вещами и множеством записок, полученных Вами от слушателей во время выступлений. Такими же записками были набиты карманы. Вы извлекали их из жилета, из брюк, из пиджака. Вы разглаживали их своей большой широкой ладонью и сортировали по городам, числам и содержанию, раскладывая пачками на письменном столе. Вы очень любили собирать эти записки. Вы гордились ими. За всю Вашу жизнь их накопилось у Вас тысячи. Это было вещественное выражение общения с читателями. Каждая записка напоминала Вам какой-нибудь советский город. Вы редко делились своими впечатлениями. Но каждый раз Ваши друзья знали, что скоро Вы расскажете в стихах о том, что видели во время путешествия.
Вот что Вы, например, написали о Свердловске:
У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли,
Урала,
труда
и энергии!
Вы написали это, Владимир Владимирович, четверть века назад – в 1928 году. Тогда бывший захолустный Екатеринбург только еще начинал по-настоящему превращаться в тот Свердловск, который мы знаем сегодня, в 1953 году. Вы, Владимир Владимирович, не видели еще на улицах Свердловска даже трамвая. Вы приезжали в Свердловск на поезде. Сегодня Вы, несомненно, прилетели бы сюда: давно уже действует авиалиния Москва – Свердловск. В Свердловске за двадцать лет построены сотни тысяч квадратных метров жилой площади.
Радостно сообщить Вам, Владимир Владимирович, что Вы совершенно безошибочно угадали могучие индустриальные очертания будущего Свердловска. Здесь выстроены десятки мощных заводов: среди них такие гиганты, как Уралэлектроаппарат, Уралмаш, Уралхиммаш, автогенный завод, инструментальный…
Вы не очень любили статистику. Но я уверен, что цифры, которые я упоминаю, Вам очень понравились бы.
Только в техникумах и институтах обучается тридцать тысяч студентов. В городе находится филиал Академии наук СССР. Более ста пятидесяти библиотек располагают книжным фондом до пяти миллионов томов. Драматический театр. Музыкальная комедия. Театр юного зрителя. Филармония. Киностудия. Девять кинотеатров. Около сорока Дворцов культуры и клубов. Уральская консерватория имени Мусоргского, один из крупных центров музыкальной жизни на Урале… Таким стал этот «городище», который только рождался на Ваших глазах. Побывав в Кузнецке, Вы сказали:
Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Так и случилось!
Вы совершенно точно предсказали:
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Сегодняшняя Сибирь воспламенена сотнями и тысячами электрических солнц, а Ваша изумительная строфа о городе-саде стала классической, ее знает каждый грамотный советский человек:
Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!
Возвратившись из поездки в Баку, Вы писали:
«Я помню дореволюционный Баку. Узкая дворцовая прибрежная полоса, за ней грязь Черного и Белого города, за ней – тройная грязь промыслов, с архаической фонтанной и желоночной добычей нефти. Где жили эти добыватели – аллах ведает, а если и жили где, то не долго.
…После годовщины десятилетия я опять объехал Баку.
…Это уже не сколок с московской культуры. Разница не количественная, а качественная. Это столичная культура – экономического, политического и культурного центра Азербайджана».
Так писали Вы в 1927 году в статье «Рождение столицы». Своим зорким глазом поэта-провидца Вы разглядели очертания растущей столицы Советского Азербайджана. Вы восхищались этим сказочно быстрым ростом. Но что бы сказали Вы, Владимир Владимирович, если бы познакомились с сегодняшним Баку! Это поистине нечто изумительное! И прежде всего изумились бы Вы, что бакинцы добывают нефть со дна моря…
Двести пятьдесят пять с половиной миллионов рублей было вложено за два последних года в жилищное строительство города. Открыт республиканский стадион. Используя рельеф местности, архитекторы-строители разместили трибуны на сорок тысяч человек величественным полукругом, открывая широкую перспективу на Бакинскую бухту, на весь город.
На улицах, в парках, вдоль автомагистралей Баку и его нефтяных районов высажено около семисот тысяч деревьев и декоративных кустарников. Сооружается двенадцатиэтажный дом.
Путешествуя по родной земле, Вы зорко вглядывались в черты нового и коротко, но метко фиксировали свои поэтические наблюдения:
По-новому
улицы Новочеркасска
черны сегодня —
от вузовцев.
Ныне вузовцев в Новочеркасске несравненно больше. В городе пять институтов и девять техникумов. Можно считать, что каждый прохожий, которого Вы встретили бы на улице, – студент.
Представляя себе будущий Волго-Дон, Вы писали:
Один на Кубани сияет лампас —
лампас голубой
Волго-Дона.
Вы видели этот голубой лампас в отдаленном будущем. Для Вас это еще была лишь поэтическая метафора. Для нас же, Ваших современников, она стала уже реальной действительностью.
Вы любили, Владимир Владимирович, Крым:
И глупо звать его
«Красная Ницца»,
и скучно
звать
«Всесоюзная здравница».
Нашему
Крыму
с чем сравниться?
Не с чем
нашему
Крыму сравниваться!
Помните, Вы восхищались Ливадийским дворцом, в котором отдыхают крестьяне. Теперь таких дворцов, построенных Советской властью, десятки.
Вы писали о будущем Днепрогэса:
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Вы оказались правы: Днепр заставили течь на турбины! Но Вы не знаете, что была кровавейшая война с фашизмом. Вы не знаете, что Днепрогэс был захвачен врагами, взорван, снова возвращен родине и вторично отстроен!
О, если бы Вы видели величественный подвиг советского народа, отстоявшего дело коммунизма от всех темных сил капиталистического мира! Если бы Вы были тогда с нами! Какими изумительными стихами воспели бы Вы, Владимир Владимирович, нашу победу!
В стихах «Владикавказ – Тифлис» Вы обмолвились следующими словами:
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.
И снова Вы предвосхитили будущее. Давно уже прошло время, когда Грузия воспринималась лишь как идиллическая страна виноградников и горных пейзажей. Давно прошло время, когда можно было писать:
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.
Грузия стала индустриальной страной. Грузия льет сталь. Здесь вырос большой промышленный город Рустави. Ему недавно лишь минуло пять лет, а как он чудесно выглядит! Там, где была древняя Руставская крепость, теперь задымили заводские трубы, глухая степь озарена электрическими огнями. Бывшие крестьяне стали металлургами.
В своих путевых стихах Вы роняли меткие характеристики, маленькие жемчужины истинно светлой, веселой поэзии.
О Евпатории Вы написали:
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.
О Киеве:
Вот стою
на горке
на Владимирской,
Ширь вовсю —
не вымчать и перу!
Посмотрите же, Владимир Владимирович, как сейчас выглядят воспетые Вами места родной земли. Евпатория в летние месяцы отдается в полное владение детям. А Киев? Киев становится еще прекрасней, хотя и в нем хозяйничали враги. И если бы Вы могли сегодня подняться на Владимирскую горку, какая перед Вами открылась бы ныне ширь!
Из всех городов мира Вы больше всего любили Москву.
Не надо быть пророком-провидцем,
всевидящим оком святейшей
троицы,
чтоб видеть,
как новое в людях роится,
вторая Москва
вскипает и строится.
Вот она, Владимир Владимирович, «вторая Москва». Поедем по ее новым улицам. Не узнаете? Еще бы! Ну, скажите, например, какая это площадь? Триумфальная? Нет, не угадали. Это площадь Маяковского, Ваша площадь, Владимир Владимирович. Здесь будет стоять Ваш памятник. Его еще нет, но он будет. Вот место, где его поставят. Видите цветы? Памятника еще нет, а цветы уже носят. Вас, отдавшего «всю свою звонкую силу поэта» великому делу революции, любит советский народ. То, что Вы, поэт-провидец, предсказывали из далекого вчера, этот народ, ведомый Коммунистической партией, совершил. И он повторяет Ваши слова о том, что:
Партия —
это
миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.
Партией
стройки
в небо взмечем,
держа
и вздымая друг друга.
Партия —
спинной хребет
рабочего класса.
Партия —
бессмертие нашего дела.
1953