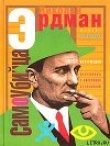Текст книги "Том 8. Почти дневник. Воспоминания"
Автор книги: Валентин Катаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
– До вас можно?
– Милости просим, милости просим!
И в переднюю входит маленькая женщина в новом манто с высоким котиковым воротником. Ее голова по-бабьи, до бровей, закутана в шелковый вязаный платок. Она порывисто снимает манто. Глядя исподлобья в зеркало, она обеими руками поправляет узел на подбородке, раскладывает по плечам длинную и нарядную бахрому платка и одергивает малиновый вискозный джемпер. Он новенький, блестящий, еще не обносился. Затем она переходит в столовую, сразу же садится глубоко в угол дивана и, упрямо сжав небольшой крестьянский рот с жесткими, обветренными губами, долго сидит, не говоря ни слова, уставясь прямо перед собой в одну точку. Нежная краска глубокого внутреннего возбуждения лежит на ее небольшом, собранном лице с широким, круглым лбом. Видно, что она прилагает страшные усилия, чтобы скрыть возбуждение. Она сердится на себя за это возбуждение. Но ничего не может поделать.
Так в комнату внезапно входит Слава.
Чудесна судьба киевской крестьянки, комсомолки Марии Демченко.
Она сделала, по существу, очень простую и вместе с тем великую в этой простоте вещь: дала и сдержала свое ленинское, комсомольское слово.
Сейчас ее история известна всем.
В качестве одной из лучших ударниц района Мария Демченко была послана на II Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Она приехала на съезд с цифрой 460.
Четыреста шестьдесят центнеров сахарной свеклы с гектара. Принимая во внимание, что в то время по Союзу в среднем с гектара собирали не свыше ста центнеров, показатель Марии Демченко был очень велик. Но до приезда на съезд она даже не подозревала, что поставила всесоюзный рекорд. Она думала, что держит лишь первенство района. Оказалось, что в ее руках первенство Союза. Ее выбрали в президиум.
– Сколько вы намерены дать свеклы в следующем году? – спросили ее.
Мария Демченко смущенно замялась.
– Пятьсот дадите?
Она ответила не сразу. Минут пять она размышляла, прикидывая в уме, выйдет или не выйдет. Наконец она решилась.
– Дам пятьсот, – сказала она сосредоточенно.
Она возвратилась со съезда в свой колхоз, принялась за дело и к следующей осени дала с гектара 523 центнера 70 килограммов отличнейшей свеклы. Вот и все.
Просто?
На первый взгляд – проще простого.
Но так ли все просто и легко было на самом деле?
Свекла взошла хорошо. Чудесные зеленые листочки блестели на ясном майском солнце. И вдруг – бац! – заморозки. Никогда их не бывает в это время года на Украине. А тут – как нарочно.
– И главное, представьте себе, еще мой участок оказался такой самый неудачный во всем колхозе, – бегло блеснув исподлобья глазами, зачастила Мария Демченко своим бойким, но мягким киевским говорком. – Он у нас так и называется «на гадючках». Такая низина. Там, наверное, колысь гадюки водились. И сейчас же, рядом, довольно высокий откос, а на откосе сосновый лес. Ну, вы знаете, по-пид лесом обыкновенно самый мороз, самое замерзает. Прямо-таки как нарочно. Ни у кого вокруг буряки не замерзают, а у меня мерзнут и мерзнут. Мы все, знаете, прямо-таки чуть с ума не сошли. Мы – это я и еще трое дивчат. Мое звено. Мерзнут буряки и мерзнут. Ну что ты скажешь!
Мария Демченко гневно покраснела при одном воспоминании об этом небывалом майском морозе, злобно сорвала с головы платок и стала им обмахиваться. Ее глаза заблестели.
– Вы знаете, я просто-таки не знала, что делать! Дала слово партии – и вдруг такой скандал! Ну, скажите мне за-ради бога, могла я, когда давала это слово, ожидать такого скаженного мороза? Вы знаете, я чуть было от сраму не утопилась в речке. Ну, все-таки в конце концов решила: будь что будет, как-нибудь надо спасать бурячки. Я даже не знаю, как мне это в голову пришло – спасать бурячки дымом! Мы с дивчатами стали вокруг плантации солому палить. День и ночь жгли. На шаг от буряков не отходили.
– Ну и что же, спасли?
– Сорок процентов пропало. Шестьдесят уцелело. Я эти сорок процентов потом досеяла. Ну, главное, у меня такое несчастье – мороз буряки побил, урожай гибнет, а уже вокруг этого дела всякие злыдни, недобитые кулаки, начинают по базарам свою агитацию разводить. У нас в колхозе есть еще одна Демченко, только не Мария, а Федора. Моя однофамилица. Тоже звеньевая. Ее плантацию мороз совершенно не тронул. Вообще ни одна плантация, кроме моей, от мороза не пострадала. Так вы можете себе представить, какие гадости стали по базарам распускать? Будто бы уже все равно, поскольку у нас одинаковые фамилии, колхоз решил меня на ее плантацию передвинуть, а ее на мою, чтобы скандал замазать. Ну, не плюнуть в глаза таким гадам? Но я, знаете, хоть в душе у меня кипело, только нервно посмеивалась и сказала той Федоре Демченко, моей однофамилице:
«Эх ты, дурочка, – сказала я, – что ты веришь этим гадам? Я все равно из своей померзшей плантации пятьсот центнеров выжму, а ты из своей, которая не померзла, ровно ничего не сделаешь, если не будешь добиваться».
Так и вышло, как я сказала.
Мария Демченко оборвала свой рассказ, вскочила и прошлась по комнате, с хрустом кусая яблоко.
Мы вышли на балкон. Отсюда открывался чудесный вид на Кремль. Мария Демченко с жадным любопытством рассматривала новые звезды, горящие золотым пламенем на старых кремлевских башнях, прозрачные флаги над ЦИК, громадное, многоэтажное здание Совнаркома, кирпичную куполообразную крышу сцены Художественного театра.
Свежий ветер трепал ее по-мальчишески стриженные волосы, вырывал из-под гребенки. Из-под джемпера выглядывал белоснежный воротничок мужской рубашки с новеньким галстуком. Среди зеленых ящиков балкона, в которых доцветали астры и качались под тяжестью матовых капель росы круглые листья настурций, она долго стояла, ярко освещенная холодным ноябрьским солнцем, и все не могла налюбоваться на Москву.
Во время оживленного разговора на посторонние темы она вдруг вспомнила опять свои бурячки:
– Ну, вы знаете, до чего ж мне не везло в этом году, трудно себе представить! Все лето пололи, мотыжили, шаровали… шаровали, пололи, мотыжили… ну, ни одной травинки посторонней не допускали на плантации. А тут, как назло, начали ко мне ездить со всего Союза люди. Каждый день по пять, по шесть человек приезжают. Корреспонденты, фотографы, писатели, художники, инструктора из района, из области, из центра… Мне работать надо, а они за мной ходят, и ходят, и ходят. А ну их всех! Совсем заморочили голову. Пристают и пристают: «Смотри же, Мария, не подкачай! Смотри же, Мария, сдержи слово!» Тот снимает меня аппаратом, тот рисует с меня портрет, тот с меня роман пишет. И ходят за мной, и ходят… Я думала, что они мне все буряки потопчут. Я даже такую надпись на плантации у себя поставила: «Строго воспрещается ходить по бурякам посторонним лицам». А одна какая-то приехала с целой экскурсией. Пришла прямо на плантацию – и сразу самый большой буряк цап – и вытащила. Ну, знаете, тут я уже не выдержала. Я на нее накричала как следует. А она мне говорит: я, говорит, такая, я, говорит, сякая, я, говорит, этот буряк вытащила с научной целью. А я ей говорю: «Гражданка, это вы бросьте! Кто бы вы ни были, хоть сам Калинин, вы не имеете права мои буряки цапать. Вы за свое дело отвечаете, а я за свои буряки буду отвечать перед партией. Извините!» Присылали мне разные глупые письма, сватались даже, руку и сердце предлагали. А какая-то одна дура Евангелие прислала с подчеркнутыми местами. Это значит – вроде как тебя бог за это все покарает! Да, одним словом, была жара порядочная. В августе опять новое дело – засуха. Как нарочно. Ну ни одного дождя! А без дождя все пропадет. Ну, вы знаете, хоть бы для смеху был дождь… Вижу – опять пропадает моя плантация. Я дала слово перед всей страной, а природа, как нарочно, поперек меня становится: то мороз, то солнце! Тьфу! Пришлось поливать. А до речки километра два. Ну, тут я мобилизовала чисто все на свете – и бочки, и ведра, и макитры.
Надо правду сказать: моя подружка и соперница Мария Гнатенко дюже нам подсобила. Она со своим звеном поливала и мою плантацию. Ну, конечно, не даром. У нас с ней был полный хозрасчет: «так на так». Я, со своей стороны, сильно помогала ей бороться на ее участке с мотыльком. У меня есть свой способ – ночью палить костры. Мотылек идет на огонь, ну и, конечно, сгорает. Через этот способ сколько неприятностей было, вы себе представить не можете! Говорили: «Ты только всех мотыльков временно отпугнешь, все равно они в огонь не пойдут, а потом обратно налетят, а буряки можешь спалить». Но я была настойчивая. Развела костры и спалила всех мотыльков, а буряки совершенно не пострадали.
– Почему же вы решили жечь мотыльков на кострах?
– Та як же… Колысь я ехала ночью на райкомовском «фордике» и заметила, что мотыльки цельной тучей летят на фонари, ну, я тут сейчас же и сообразила это использовать…
По этому поводу я вспомнил, как на Магнитке в 1931 году изощрялись ребята-бетонщики в изобретении всяких новшеств, облегчавших и ускорявших процесс кладки.
Услышав слово «Магнитка», Мария Демченко вдруг светло и взволнованно улыбнулась.
– Так вы ж разве были на Магнитке?
– Был.
– В каком году?
– В тридцать первом.
– Так я ж тогда там была! Бетонщицей работала!
– На каком участке?
– На шестом.
– И я на шестом сидел.
– Что вы скажете!
Знаменитый шестой участок. Знаменитое состязание с Харьковом. Так вот оно что! Вот откуда у Марии Демченко эта изобретательность, этот наблюдательный, хозяйственный глаз, эта трудовая дисциплина!
Она прошла хорошую пролетарскую, комсомольскую школу, эта упорная, настойчивая, целеустремленная украинская девушка!
Она заканчивает свой рассказ:
– Ну, когда началась копка, никто, конечно, почти не спал. Семнадцать дней безвыходно жили в таборе. Копали ночью, при кострах. Ложились в три часа ночи, вставали чуть свет. Мама носила мне лепешки. Я, знаете, очень люблю наши лепешки, на сале. В пять часов вечера выкопали последний буряк. А уж вокруг, вы себе не представляете, что делается! Со всех сторон идут, едут, бегут. Прямо толпы народа! Две киноэкспедиции аппараты крутят. В восемь часов последняя пятитонка с моими буряками уехала на сахарный завод. Мы все ждем. Там, на заводе, важат мои буряки. И еще неизвестно, сколько их там наважат. Дотянут до пятисот или же не дотянут? Представьте, как я нервничаю! И вот через час вдруг звонят с завода: уже есть пятьсот, а то, что еще осталось, подсчитывают. А в это время откуда ни возьмись прямо в таборе появились столы, лампы, вино, пиво, жареные куры, сало, лепешки, свинина – все на свете и топор, прямо-таки пир горой. Оркестр, конечно, с сахарного завода. Танцы.
И Давид Бурда, мой бригадир, поднял тогда за меня первый тост.
Он сказал:
«Поднимаю этот тост за Марию Демченко, что она твердо сдержала комсомольское слово. Ура!»
Ну, что было дальше – нельзя описать!
Тут вдруг прилетает аэроплан с сотрудниками киевских «Вистей» и садится на наш аэродром. У нас уже знают: если кто-нибудь летит, то зажигай на аэродроме костры, потому что все равно к нам!.
Я танцевала всю ночь, хотя за эти семнадцать дней я устала ужасно. И всю ночь я черпала кружкой вино прямо из ведра и подносила по очереди всем своим подружкам, и друзьям, и гостям, и музыкантам, и всем, кто только ни был на том нашем пире. Жалко, вас не было, вот бы погуляли! А потом меня посадили в машину – и в Москву. Надо же человеку отдохнуть. Я думала, в вагоне отдохну. Но не получилось. Там ехал один художник. Он меня как увидел, так сейчас и стал рисовать. И рисовал, представьте себе, до самой Москвы. А в Москве – обратно…
И Мария Демченко улыбнулась своей сердитой, милой улыбкой, показав мелкие, тесные зубы, из которых один был золотой.
1936
Первый чекистХудощавый человек в ножных кандалах и арестантской бескозырке стоит, опершись на лопату, и смотрит вперед.
Таким и вылепил Дзержинского неизвестный скульптор-любитель.
Имеется много портретов и бюстов Феликса Эдмундовича. Его изображали профессионалы и любители. Есть работы, сделанные с натуры или по памяти. Но есть работы, созданные руками людей, никогда в жизни не видевших Дзержинского.
И вот что замечательно. Во всех этих изображениях, по свидетельству близких Дзержинского, он, как правило, удивительно похож. Очевидно, не только во внешности Феликса Эдмундовича, но также во всей его внутренней, моральной структуре было нечто незабываемое, неотразимое, нечто настолько типичное и обобщенное, что не требовало от мастера особой гениальности, чтобы воплотить в красках или глине образ замечательного человека.
Можно одним словом охарактеризовать кипучую жизнь Дзержинского: горение. Это горение состояло из бешеной ненависти к злу и страстной, самозабвенной любви к добру и правде.
Еще в раннем детстве, играя со сверстниками, маленький Феликс «дал клятву ненавидеть зло». И он свято исполнял свою детскую клятву. До последнего вздоха он боролся со злом с неслыханной страстью и силой, сделавшей его имя легендарным.
Не было случая, чтобы он отступил в этой борьбе.
Вплоть до 1917 года вся биография Дзержинского представляет собой нескончаемую цепь арестов, ссылок, побегов, каторг, тюрем…
Его мучили, избивали, заковывали в кандалы, гоняли по этапам, – а он не только не терял своей веры и внутренней силы, но, наоборот, с каждым годом, с каждым новым этапом, с каждой новой тюремной камерой его вера становилась все тверже, его воля к победе делалась все непреклоннее, его нравственная сила неудержимо росла.
Человек неукротимой энергии и немедленного действия, Феликс Эдмундович оставался верен себе в любой, даже в самой ужасающей, обстановке.
Слово «Дзержинский» приводило врагов в ужас. Оно стало легендой. Для недобитой русской буржуазии, для бандитов и белогвардейцев, для иностранных контрразведок Дзержинский казался существом вездесущим, всезнающим, неумолимым, как рок, почти мистическим.
А между тем в начале своей деятельности Всероссийская Чрезвычайная Комиссия насчитывала едва ли сорок сотрудников, к моменту же переезда ее из Петрограда в Москву – не более ста двадцати.
В чем же заключается секрет ее неслыханной силы, четкости, быстроты, оперативности?
Секрет этот заключается в том, что Дзержинский сделал ЧК подлинном и буквальном смысле этого слова орудием в руках пролетариата, защищающего свою власть. Каждый революционный рабочий и крестьянин, каждый честный гражданин считал своим священным долгом помогать органам ЧК. Таким образом, «щупальца Дзержинского» проникали во все щели, и не было такой силы, которая бы не способствовала борьбе революционного пролетариата, вооруженного мечом с девизом ВЧК.
Железная власть находилась в руках Дзержинского и всех чекистов. Потому-то Феликс Эдмундович и был так суров и требователен прежде всего и в первую голову к своим товарищам по ВЧК.
– Быть чекистом – есть величайший искус на добросовестность и честность, – неоднократно говорил он.
– Чекист всегда должен видеть себя и свои поступки как бы со стороны. Видеть свою спину.
Он был беспощадный враг всякого и всяческого зазнайства, комчванства, высокомерия. Он не гнушался самой черной работы и неустанно призывал к этому своих соратников.
Часто со страстью и волнением повторял он, вкладывая особенный, жгучий смысл в свои слова:
– Чекист должен быть честнее любого!
Дзержинский не чурался самой черной чекистской работы. Он лично ходил на операции, делал обыски, изъятия, аресты, зачастую подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Он лично поехал в левоэсеровский отряд Попова арестовать убийцу Мирбаха – авантюриста Блюмкина. В отряде его обезоружили, арестовали, схватили за руки. Он с бешенством вырвался и, схватив Попова за грудь, в ярости закричал:
– Негодяй! Отдайте мне сию же минуту мой револьвер, чтобы я мог… пустить вам пулю в лоб!
Он был бесстрашен.
Он первый бросался на самые трудные участки советской и партийной работы, не считаясь с «чинами».
В 1920 году страшные заносы, которые могут сорвать транспорт, – и Дзержинский первый на борьбе с заносами.
«Предчрезкомснегпуть».
Тысяча девятьсот двадцать первый год – поволжский голод, – и Дзержинский первый в Помголе.
Горячий воздух голодной осени струился над Москвой. Пыль засыпает пустой фонтан на Лубянской площади. И Дзержинский взволнованно входит в свой кабинет, держа в руках небольшой сверток.
– Пожалуйста, перешлите это от меня лично в Помгол, в пользу голодающих.
Секретарь разворачивает сверток. Там небольшая хрустальная чернильница с серебряным ободком и крышечкой. Секретарь узнает эту чернильницу. Это чернильница сына Дзержинского Ясика.
– Феликс Эдмундович, но ведь это же чернильница Ясика.
– Эта роскошь ему сейчас не нужна… – слышен резкий ответ.
Да мало ли этих, на первый взгляд незначительных, но таких замечательных фактов!
И вот наконец последнее утро. У Дзержинского под глазами мешки. Лицо узкое, бледное. Он не спал всю ночь, готовясь к своему последнему выступлению. Сколько цифр, выкладок, балансов! И каждую цифру он обязательно проверял лично. Он не доверял арифмометрам и счетным линейкам. Своим мелким почерком по два, по три раза он проверял каждую колонку цифр… Он внутренне горит. Он сгорает. Он не может успокоиться. Он смотрит на часы.
– Феликс Эдмундович, выпейте хоть стакан молока.
Дзержинский неукротимым жестом отталкивает стакан:
– Молока? Не надо.
Он ходит широкими шагами по кабинету:
– Не надо! Я им брошу карты в лицо!
И он стремительно уходит, торопясь на Пленум ЦК.
И там звучит его страстный, неукротимый голос, покрывающий жалкие реплики Каменевых, Троцких и К°, мощный голос человека, которому ненавистна ложь, который умеет бесконечно, глубоко любить, но и жгуче, неукротимо ненавидеть…
«…А вы знаете отлично, в чем заключается моя сила, – говорит он, обращаясь к оппозиции. – Я не щажу себя никогда… Я никогда не кривлю душой, если я вижу, что у вас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них…»
И, рванув на себе воротник рубахи, судорожно протягивая белую руку к пустому графину, неистовый Феликс продолжал говорить, громя противников и судорожно делая последний вдох…
1936
Незабываемый деньМы взошли на крыльцо и стряхнули веничком снег с ботинок.
В избе стоял синий свет зимних сумерек. Бревенчатые стены. Зеркало под полотенцем. Рыночная копия с шишкинского леса. Зелень комнатных растений. Икона. Под нею квадратный дубовый стол на толстых ножках. Камчатная скатерть. Над столом электрическая лампочка с прилаженным к ней зеленым стеклянным абажуром. Портрет Ленина.
М. Ф. Шульгина, высокая красивая старуха с тонким белым лицом, впустила нас в комнату.
– Милости просим. Присаживайтесь.
Мы сели.
Она пошла в соседнюю горницу и через некоторое время вернулась, держа в сухих, тонких руках «венский» стул.
Это был обыкновенный, дешевый, «венский» стул – черный, облезший от времени.
Она поставила его вверх ножками. На оборотной стороне круглого сиденья было написано карандашом:
«На настоящем стуле 9 января 1921 года сидел т. Ленин на общем собрании деревни Горки в доме В. Шульгина».
Семнадцать лет прошло с того дня. И вот в той самой избе, за тем самым столом, за которым тогда сидел Ленин, собралась группа колхозников деревни Горки, ныне колхоза Горки имени Владимира Ильича Ленина.
Их четверо: Алексей Иванович Буянов, Марья Федоровна Шульгина, Алексей Михайлович Шурыгин, Марья Кирилловна Бендерина.
Они вспоминают этот незабываемый день.
Все было очень просто.
Товарищ Ленин жил под Москвой, в двух верстах от деревни, в совхозе.
Крестьяне решили пригласить товарища Ленина к себе в деревню «поговорить о жизни». Два человека, представители общества, отправились к Ленину. Он принял их моментально, выслушал просьбу и тут же деловито назначил день и час встречи: 9 января, в шесть часов вечера.
Ровно в шесть часов вечера 9 января по новому стилю (а по старому стилю 27 декабря 1920 г.) возле избы крестьянина В. А. Шульгина, самой просторной избы в деревне, остановились сани парой, из которых вылез небольшой, коренастый человек в шубе.
– Вот здесь вот, подле окна, сел Владимир Ильич, а рядом с ним села Надежда Константиновна, – сказала хозяйка избы М. Ф. Шульгина, показывая на стулья, на стол, на окна, не торопясь, как бы вызывая в памяти своей давнюю, но дорогую картину.
– Владимир Ильич снял шубу и приладил ее на спинку стула, к окну, чтоб не дуло сзади, – прибавил А. М. Шурыгин.
А. И. Буянов ласково, задумчиво улыбнулся:
– В таком простеньком, знаете, сереньком костюмчике, в галстуке… облокотился на этот самый вот стол, оглядел всех и прищурился, словно прицелился…
– А народу набилось в комнату человек восемьдесят, да еще человек двести не взошло, и они стояли снаружи, на улице, заглядывая в окна.
– И начались разговоры?
– Разговоры?. Да как вам сказать… Собственно, это нельзя назвать «разговоры». Нам Владимир Ильич прежде всего сделал доклад о международном и внутреннем положении. Мы ведь в то время, знаете, если правду сказать, насчет политики были ни бэ ни мэ. И вот Владимир Ильич сделал нам обстоятельный доклад. Часа полтора говорил. Все затронул. Все вопросы. И знаете, так просто говорил, так ясно, понятно. Он говорил о том, что крестьяне должны объединяться в товарищества (артели), что надо всячески поддерживать родную Красную Армию, что не следует бояться трудностей, неполадок, а надо смело вмешиваться в управление государством, искоренять пережитки старого режима – взяточничество, бюрократизм, косность, лень, безграмотность… Мы все слушали его затаив дыхание…
– А как раз был третий день рождества. В некоторых избах готовились вечеринки. И представьте себе, ни одни человек не ушел домой, пока не кончилось собрание…
– Потом завязалась общая беседа. Но опять-таки то не была беспорядочная болтовня, а вопросы и ответы в строгом порядке, коротко, деловито, серьезно. И записывалось все в протокол. Честь по чести.
– Ну конечно, не обошлось без смеха. Вдруг посреди этого серьезного государственного разговора берет слово Соловьев. Портной. Он уже умер. Берет слово Соловьев и спрашивает Владимира Ильича: дескать, как мне при теперешнем состоянии транспорта перевезти из Саратовской губернии свои подушки?
– Весь народ, конечно, так и повалился от хохота. Соловьев тут же понял, что сморозил глупость, покраснел как рак… А Владимир Ильич только на него бегло взглянул, еле заметно усмехнулся и сделал вид, что не расслышал. Перешел к другим вопросам. Не захотел человека окончательно сконфузить перед обществом. Очень деликатно поступил Владимир Ильич. И мы сразу поняли ту деликатность и очень оценили ее.
– И электричество нам Владимир Ильич помог провести, – сказала хозяйка. – Тогда у нас еще электричества не было. Товарищ Ленин сам внес предложение, чтобы в нашу деревню провели электричество из совхоза. И тут же вынесли постановление провести в деревне электричество. И вот с тех пор, видите, как у нас в деревне светло. Тоже нам память об Ильиче.
– Никакой мелочью не гнушался Владимир Ильич, – заметил А. И. Буянов. – Я как раз в то время служил в Красной Армии и был в отпуску. И хозяйство у меня было очень бедное, а изба совсем развалилась. Я просил в земельном управлении, чтобы мне дали избу. А они там волынили и не давали. Вот я, пользуясь случаем, и обратился к товарищу Ленину. Он выслушал меня внимательно и спросил народ: «Правильно он говорит?» – «Правильно». Тогда Ленин попросил секретаря записать в протокол, чтобы мне дали избу. И дали. А через некоторое время везу я через лес строительные материалы для своей новой избы. Встречаю Ленина. Идет Ленин с ружьем. Сразу меня узнал. «Здравствуйте, товарищ Ленин». – «Здравствуйте, товарищ Буянов. Ну как, дали вам избу?» – «Дали. Вот материал везу». – «Ну вот, видите, говорит, надо уметь на них нажать…» И усмехнулся…
Часа три-четыре продолжалось незабываемое собрание. На прощание товарищ Ленин сказал:
– До свиданья, товарищи. Подождите немного. Скоро, очень скоро у нас наступит замечательная жизнь.
Сейчас мимо избы, где семнадцать лет назад Ленин говорил с крестьянами о будущей замечательной жизни, тянется великолепное асфальтовое шоссе. Мелькают автомобили.
Над снегами четко рисуются силуэты мачт для передачи тока высокого напряжения.
В совхозе имени В. И. Ленина выстроена изумительная школа-десятилетка: громадные окна, паровое отопление, блеск паркета, чистота, уют…
И веселые ребята выбегают после уроков в «парк пионеров», где за оснеженными елями садится дымное, морозное солнце…
1938