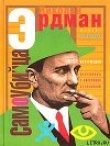Текст книги "Том 8. Почти дневник. Воспоминания"
Автор книги: Валентин Катаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Был тот смутный час летнего рассвета, когда ночь еще не уступила утру, но звезды уже одна за другой уходят с побелевшего неба и на нем остаются только самые крупные, дрожащие, как слезы.
Я выскочил из землянки, разбуженный тревожными гудками полевого телефона и звуками колокола, доносившимися со стороны пехотных окопов.
Это был сигнал газовой тревоги.
Я стал натягивать на голову противогаз.
Через минуту вся батарея уже была в противогазовых масках, и мои товарищи, солдаты, стали похожи на каких-то странных бескрылых насекомых с хоботами, как личинки под микроскопом.
Потом со стороны пехоты послышалась истерическая, бессистемная винтовочная и пулеметная трескотня, и я увидел в предрассветных сумерках волну белого тумана, которая ползла на батарею. Эта белая волна, низкая и тяжелая, была волной страшного удушливого газа – фосгена. Потом я почувствовал, что дышать трудно, почти невозможно. Противогаз отказал. Я сорвал его с головы и упал без сознания. А потом, когда взошло солнце, мимо батареи долго тянулись подводы, нагруженные мертвыми солдатами, как дровами. В это утро наша дивизия потеряла четыре тысячи отравленных газами.
Я чудом уцелел в тот раз.
Не говорю уже о Великой Отечественной войне Советского Союза против фашистских захватчиков: в битве под Орлом я тоже уцелел чудом.
Эта беспримерная в мировой истории война принесла нашему народу неисчислимые бедствия и страдания. Но великий советский народ, сильный своей правдой, под непобедимым знаменем Ленина не только стойко выдержал все невзгоды немецко-фашистского нашествия, но, со своей стороны, нанес фашистам сокрушительный удар, в результате которого рухнул навсегда ненавистный гитлеровский строй и Европа была освобождена от фашистского ига.
Советский Союз спас европейскую цивилизацию. Он совершил великий воинский подвиг, а по окончании войны другой подвиг – быть может, не менее великий: в легендарно короткий срок советский народ полностью восстановил свое хозяйство, разрушенное за годы войны.
Однако почивать на лаврах нам не приходится.
Сейчас империалисты вновь грозят нам, и уже не только химической, но и атомной войной.
Потому-то и вспомнилось мне сегодня то смутное, страшное утро 1916 года.
«Что же, – подумал я, – неужели и теперь угрозы станут смертоносными бомбами? Это чудовищно! Тогда – газы, теперь – атомки?»
…Я мысленно перечислил все, чем богато человечество.
Европа, Америка, Азия…
Величественные памятники Афин и прекрасный город Париж… Цветущая земля Украины и мудрые древности Рима… Незыблемые стены Кремля и священные камни Ленинграда… Америка, родина Линкольна и Эдисона. Великий Китай и по-особому изящная культура Японии…
Годы, столетия и тысячелетия упрямого труда и вдохновенного гения.
Города и деревни, машины и природа, народы и поколения… И творчество, творчество – высшая форма человеческой деятельности. Всё – картины и поезда, книги и театры, цехи и житницы – всё по прихоти новоявленных каннибалов должно взлететь на воздух, раствориться в нескончаемом пространстве вселенной.
Но прежде всего империалисты хотят уничтожить юность.
Юность – это первые всходы на весенних полях и молодой поэт, с волнением ожидающий суда над первым своим стихотворением. Юность – это гордо поднятая голова Юлиуса Фучика. Юность – это молодая страна Ленина и созвездие стран, твердо решивших идти по ее пути. Юность – это Коммунистическая партия, единственная подлинно народная, подлинно демократическая, подлинно революционная и подлинно бесстрашная партия в мире.
Юность – это орденоносный комсомол, в ясных глазах которого не гаснет нежнейшая любовь к другу и суровейшая ненависть, ненависть к врагу.
И все это хотят истребить, уничтожить, смешать с грязью, с землей, с самими недрами земными.
Хотят. Грозят. Пытаются.
Безумцы!
Двадцатый век – век электричества и атома. Но прежде всего это век Человека с большой буквы, в горьковском понимании этого слова.
А Человек, и прежде других молодой человек коммунистического склада, встает сегодня во весь рост, и голос его звучит, как гром:
– Нас не опутать обманом! Долой поджигателей, провокаторов и клеветников! Да здравствует маяк мира – великий Советский Союз!
1957
Литературные портреты, заметки, воспоминания
Короленко *
1
Я встретился с Короленко в июне 1919 года в Полтаве. Это было как раз в самый разгар гражданской войны. Деникинская армия только что перешла в серьезное наступление и на всем фронте теснила наши части от станции Лозовой по трем направлениям: на Харьков, на Екатеринослав и на Полтаву. В силу создавшейся военной обстановки, Полтаве суждено было стать важнейшей тыловой базой, сосредоточившей в себе все продовольственное, административное и военное управление Левобережной Украины. Несмотря на героическую и самоотверженную работу ответственных товарищей, наше положение было ужасным. Ежедневно в тылу вспыхивали кулацкие восстания. Дезертиры – сотнями и тысячами, обнажая фронт, уходили в леса и глухие села. Рос бандитизм. Контрреволюционное подполье развило бешеную работу, и собрания деникинской контрразведки происходили чуть ли не в центре города (в монастыре). В эту жестокую, суровую и бурную пору судьба и забросила меня, больного и контуженого, в Полтаву.
2
Несмотря на множество событий громадной государственной важности, несмотря на голод, разруху и войну, несмотря на все тяжести жизни, имя Владимира Галактионовича Короленко было на устах у всех жителей Полтавы. О Короленко говорили всюду. На улицах и в садах, в театрах и кинематографах, на митингах и собраниях.
Короленко был полным выразителем идеологии той интеллигенции, которая хоть и отстала значительно от социалистической революции, но зато и не дошла до такого безнадежного, реакционного упадка, выразителем которого являлся другой большой писатель – Иван Бунин, застрявший в Одессе по дороге из Москвы в Париж.
3
Через несколько дней после приезда в Полтаву я пошел к Короленко. Он жил в собственном домике на тихой, тенистой, провинциальной улице, поросшей травой и кустиками. Три ступеньки. Звонок. Высокая дверь тихо отворяется. На пороге – седая, темная, прямая женщина. В руках у нее коробка табаку. Она крутит сухими, пергаментными пальцами папиросу. Жена Короленко.
– Владимира Галактионовича можно видеть?
– А вы по какому делу? Просить за кого-нибудь? Владимир Галактионович только что вернулся из трибунала. Простите. Он очень устал.
– Я не по делу. Проездом через Полтаву хотел бы повидать Владимира Галактионовича. Но если ему трудно…
Жена Короленко внимательно всматривается в меня.
– Простите, как ваша фамилия?
Я называю. Она говорит «подождите» и уходит. Через минуту она возвращается.
– Пожалуйста, войдите. Владимир Галактионович просит вас.
Я вхожу в стеклянную, провинциальную галерею. Книжные полки. Много переплетенных книг. На корешках «В. К.». Журналы, газеты. На полу – детские игрушки: повозочка, лошадка и мяч; вероятно, внучат Владимира Галактионовича.
Сейчас должен выйти Владимир Галактионович. Я стараюсь себе представить, каким он должен быть. На фотографии у него черные пышные волосы, небольшие блестящие глаза, круглая борода и опрятный пиджак. Типичный русский интеллигент-писатель.
В глубине комнат слышатся частые, старческие шаги, и на пороге террасы появляется седоватый старичок, в вышитой рубахе, похожий на Толстого. Он протягивает мне руку и смотрит прямо в глаза своими живыми, блестящими, как черная смородина, глазами.
– Простите, – говорит он. – Я думал, что опять проситель. Очень вам благодарен, что зашли. Заходите, заходите.
Я приготовил целое приветственное слово, но, конечно, спутался и смутился. Владимир Галактионович заметил это и взял меня за руку, подталкивая в комнаты.
– Ну, что пишете? – спросил он, серьезно посматривая на меня.
Этим вопросом я был совершенно озадачен. Я никак не полагал, чтобы Владимир Галактионович знал что-нибудь обо мне, а тем более читал что-нибудь из напечатанного мною. Свое изумление откровенно высказал Короленко. Тогда он, с непередаваемой неясностью и задушевностью, перечислил три-четыре моих рассказа, причем очень точно указал название изданий, где они были напечатаны, и даже год.
Через три минуты мы сидели с Владимиром Галактионовичем за чайным столом и оживленно беседовали обо всем, что в данный момент волновало его, и меня, и всю республику. Наша беседа продолжалась не более часа, но за этот небольшой промежуток времени я мог составить самое подробное представление о теперешней жизни и интересах Короленко.
Я узнал, что Владимиру Галактионовичу приходится почти каждый день выступать в Ревтрибунале, защищая самых разнообразных людей. Дело в том, что когда узнали, каким авторитетом пользуется имя Короленко в «административных сферах», его стали осаждать просьбами выступить в качестве защитника по тому или другому серьезному делу в трибунале. И Короленко не имел силы никому из просителей отказать.
– Ну, посудите сами, – говорил мне Владимир Галактионович, касаясь моего плеча морщинистой, слабой рукой. – Ну, посудите, могу ли я отказаться от защиты, если от этого, может быть, зависит жизнь человека? Не могу, не могу.
И тут я почувствовал, что независимо от политических воззрений человека, которого он спасал, независимо от того, хорош он или плох, Короленко был прежде и больше всего величайший гуманист, для которого каждая человеческая жизнь такая величайшая ценность, равной которой нет на земле. И в этом же явный перевес Короленко-беллетриста над Короленко-публицистом.
Я узнал, что Короленко помогает из своих последних средств больным и раненым красноармейцам. Во время нашего разговора два раза Владимира Галактионовича вызывала жена в соседнюю комнату, чтобы сказать, что пришел какой-то голодный, оборванный красноармеец. Короленко сейчас же заволновался, стал рыться в кошельке и послал этому красноармейцу все деньги, бывшие при нем, и еще пару своего белья.
Словом, всегда и во всем Короленко был прежде всего мягким, добрым человеком и беллетристом, а потом уже политическим деятелем.
4
Потом мне пришлось быть у Короленко несколько раз. И особенно запомнилась мне наша последняя с ним встреча. Это было накануне моего отъезда из Полтавы в Одессу. Я зашел попрощаться и взять письма. В этот день Короленко был очень слаб и плохо себя чувствовал. В разговоре мы не касались современности, и Владимир Галактионович с особенным удовольствием и жаром говорил о прошлом. Разговор зашел о Чехове. Тут Короленко разволновался совсем. Он вставал из-за стола, ходил по комнате и все говорил о том, что никак не может понять и оправдать того, что Чехов работал у Суворина.
– Удивляюсь, как мог такой человек, как Чехов, писать у Суворина? Такой деликатный, мягкий, передовой человек? Для меня это тайна.
Короленко потом вспоминал, весело поблескивая глазами, как Чехов сманивал его уехать на Волгу и написать вместе четырехактную комедию; как в молодые, счастливые годы, с юношеским задором, Чехов восклицал, вертя в руках пепельницу: «Что, нету тем? А хотите, Короленко, я вам сейчас напишу рассказ про эту пепельницу!»
И мне было странно видеть этого большого писателя, который среди суровой, жестокой и великой действительности живет весь прошлыми интересами и волнениями.
В это время в Одессе печатался очередной, не помню который, том «Записок моего современника». Я поинтересовался, работает ли Владимир Галактионович сейчас над этим трудом.
– О да, – ответил Короленко, – ведь только сейчас я понял, что, в сущности, я совсем не беллетрист. Я публицист. Самый настоящий. А раньше я все никак этого не мог понять. Оттого, – прибавил Владимир Галактионович грустно, – у меня и беллетристика и публицистика выходили как-то неладно. Но теперь-то я уже знаю почему.
5
Прощаясь со мной, Короленко сказал:
– Знаете, в чем сила писателя? Вот видите ли, я как-то был в киргизских степях на каких-то землемерных работах. Ну, вот – юрты, навоз, снег тает, солнце, всюду грязь – ужасно противно. А посмотрите на это в зеркало камеры-обскуры: красота! Тот же навоз, та же грязь, но – красота. Так и писатель. Писатель прежде всего должен отражать. Но отражать так, чтобы выходило прекрасно.
Я улыбнулся.
– Вот вы улыбаетесь. А впрочем, может быть, я говорю и не то, что надо. Вы кого любите из современных писателей?
– Белого, Бунина.
– Бунина? – спросил задумчиво Владимир Галактионович. – Да, «Господин из Сан-Франциско» – прекрасный рассказ. Учитесь у Бунина, он хороший писатель.
Это была моя последняя встреча с Короленко.
1922
Неповторимые, героические дни *
Время неудержимо движется вперед. Все отдаленнее события минувшего. Но, отдаляясь во времени, они не становятся меньше, мельче. Нет, очистившись от случайного, несущественного, искажающего пропорции, они встают перед твоим душевным взором – величественные, поражающие яркостью и чистотой своих красок, четкостью линий…
Так мне видятся теперь уже далекие, но все же необычайно близкие 30-е годы. Для меня их начало – это участие во «Всесоюзном дне ударника», подписание договора о шефстве, которое над нами, группой московских писателей, взяли рабочие станкостроительного завода «Красный пролетарий». В том же году, вместе с Демьяном Бедным, мы отправились на Днепрострой. Потом Ростсельмаш. Потом наши корреспондентские рейды на Сталинградский тракторный, в молодые колхозы, в МТС. И памятная поездка в Магнитогорск, на легендарную стройку.
Эпоха котлованов и строительных лесов, разбуженного захолустья и поднимаемой целины, эпоха чернорабочей прозы – она достойна самой высокой и светлой поэзии. О ней еще нужно писать, ее подвиги еще ждут своего великого художника. И все мы – ее современники и ее создатели, кто видел, как наша страна превращалась из аграрной в индустриальную, как стройки рождали тысячи новых героев-ударников, как громадным плодоносным пластом переворачивался на глазах целый мир, – все мы в большом долгу перед эпохой 30-х годов.
Оттого сегодня еще раз хочется повторить свои слова, без которых, как мне показалось тогда, четверть века назад, невозможно было закончить «Время, вперед!», – повторить потому, что для меня они и сейчас звучат как наказ самому себе, как строки из личного творческого устава:
«Пусть ни одна мелочь, ни одна даже самая крошечная подробность наших неповторимых, героических дней первой пятилетки не будет забыта».
Эпоха социалистического наступления, предпринятого партией на всех фронтах, открыла для меня новые горизонты, указала мне мое писательское место, мою конкретную задачу.
Вместе с тем появилось сознание ответственности перед партией и классом.
Почти полтора года с редким увлечением работал я над хроникой «Время, вперед!». Эта работа явилась для меня во многом переломной.
До сих пор я писал, так сказать, вслепую, более полагаясь на чувство разума, чем на разум. Чувство для писателя, разумеется, вещь абсолютно необходимая. Но если оно не освещено разумом, не подчинено идее, то в полном смысле слова художественного произведения не получится. Подлинная красота в искусстве есть синтез чувства и разума.
Я хотел создать вещь, которая бы не только отражала один из участков строительства, – в данном случае Магнитогорска, – но как бы погружала читателя с головой в его ритм, в его горячий воздух, во все его неповторимые, героические подробности, пронизанные насквозь одной идеей темпа, решающего все.
Я хотел, чтобы «Время, вперед!» несло в себе печать эпохи. Я хотел, чтобы моя хроника сохранила интерес и для читателя будущего, являясь для него хроникой уже как бы «исторической».
Лето, которое я провел на площадке строительства Магнитогорска, было незабываемым.
Чувствуя свою теоретическую неподкованность, я взялся за классиков марксизма: поглотил «Диалектику природы», несколько томов Ленина.
«…Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы по хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России заключалась в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны.
Били все за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били, потому что это было доходно и сходило безнаказанно…
Вот почему нельзя нам больше отставать…»
Эта темпераментная цитата, органически введенная мною в ткань хроники, и явилась тем ритмическим импульсом, который определил всю ее смысловую зарядку и синтаксическую структуру.
Летом этого года я некоторое время (в общей сложности свыше двух месяцев) жил в политотделе Раздорской МТС и собрал значительное количество материала, который послужит мне в качестве ценного сырья для будущего.
Принимал участие в работе над коллективной книгой группы писателей о Беломорском канале, что дало мне много творческой радости, обогатило писательский опыт.
Пора выйти из круга традиционных тем.
Формируется новое искусство. Устанавливаются между людьми новые отношения. Задачи писателя грандиозно вырастают. Перед писателем во весь рост встает целый ряд тем, требующих самого широкого охвата.
Любовь, семья, творчество, собственность, счастье, горе, радость, молодость, рождение, старость, смерть…
Все это надо по-новому осветить, по-новому истолковать и утвердить.
Новое общество не может существовать на старых морально-этических основах.
Свою ближайшую писательскую задачу я вижу в освоении всех этих процессов.
Задача громадная, требующая большого спокойствия, выдержки и напряжения сил. Но миновать ее невозможно.
Для романа «Время, вперед!» я использовал не только впечатления Магнитогорска, но и поездки на Днепрострой, на тракторный завод, Сельмаш, в колхозы и др.
Но все это были наблюдения «из окна вагона» – экскурсии, «литературные вылазки», а прямая оперативная работа началась уж в Магнитогорске.
Я приехал на Магнитную гору с готовой идеей скорости темпа и сразу попал на рекорды.
Я включился в группу журналистов; мы занимались перенесением опыта лучших бетономешалок на другие объекты, давали информацию в прессу – словом, вели обычную газетную, пропагандистскую работу. Материал стройки воспринимался не чисто эстетически, а практически, и это был самый правильный метод освоения новых тематических пластов.
На строительстве я пробыл два месяца. И мне кажется, этого достаточно. Нужно знать строительство и людей, но для этого вовсе не обязательно выбирать наиболее удаленный объект и сидеть на нем годами. Основная тема – переделка человека; материал для нее можно искать хотя бы в Москве – на Метрострое.
Писатели должны ездить как можно больше, но не для примитивного собирания деталей и выпуска книжечки о данном строительстве. Видеть собственными глазами, как наша страна превращается из аграрной в индустриальную, это значит перестраивать свое писательское мировоззрение.
Поездки могут сказаться на творчестве через большой промежуток времени и на совершенно другом материале – хотя бы, как это ни парадоксально, на материале коммунальной квартиры. А почему бы нет?
Поездки по стране наполняли меня чувством невероятной гордости. После работы над романом я попал в Бельгию – и мне было просто смешно смотреть на крошечные (по сравнению с нашими) домны, на провинциальные корпуса фабрик. Поездки дают правильный, бодрый взгляд на современность, дают возможность сравнивать, делать выводы.
Максимальный охват действительности, широкий кругозор необходимы для творчества писателя. Мне лично – поездки дали много ценного.
Полтора года назад я совершил две поездки в Магнитогорск. Собрал массу интереснейшего материала. Был свидетелем знаменитых магнитогорских бетонных рекордов. В результате появилась моя хроника «Время, вперед!».
Предполагаемый в качестве октябрьской постановки в театре б. Корш спектакль «Время, вперед!» является сценической обработкой вышеупомянутой хроники.
Не весь материал, конечно, удалось вместить в небольшую трехактную пьесу, но все же сохранился ряд интересных сцен, характеров, подробностей.
«Время, вперед!», строго говоря, не является «пьесой». Во всяком случае, в ней нет традиционной «театральной» завязки и развязки.
Скорее всего – это опыт почти хроникального перенесения жизни на сцену.
Почти все взято с натуры: персонажи, положения, характеры, столкновения, противоречия.
Я взял один небольшой участок гигантского строительства и проследил его жизнь в течение двадцати четырех часов.
Таким образом, у меня в пьесе соблюдены три единства – места, времени и действия.
Исполняя один из советов Станиславского: «Ищите, как идет день, как протекает время», – я попытался найти и перенести на сцену течение одних суток на шестом строительном участке Магнитостроя во всех его мельчайших подробностях.
В посвящении к своей хронике «Время, вперед!» я писал:
«…разве футболка ударника, платочек и тапочки комсомолки, переходящее знамя ударной бригады, детский плакат с черепахой или паровозом и рваные брезентовые штаны не дороже для нас в тысячи и тысячи раз коричневого фрака Дантона, опрокинутого стула Демулена, фригийского колпака, ордера на арест, подписанного голубой рукой Робеспьера, предсмертного письма королевы и полинявшей трехцветной кокарды, ветхой и легкой, как сухой цветок?»
То же чувство руководило мною, когда я брался за перо, чтобы написать эту пьесу.
В капле дождя я хотел показать сад.
1932–1957