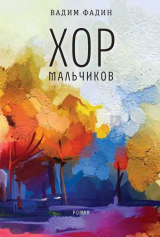
Текст книги "Хор мальчиков"
Автор книги: Вадим Фадин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Наверно, также думала и мачеха, если сказала:
– Кажется, этот вариант – немножко не то, чего хотелось.
– Будь моя воля, я бы выбрал Англию.
– Ты, наверно, там побываешь. Повидать мир – уж это-то у нас никогда не будет доступно пенсионеру – тебе. Обо мне, кстати, другая речь, я-то всегда, пока жива, – при деле, а теперь на новых русских и подавно зарабатываю всё больше… Ещё навещу тебя на твоей Неметчине… Но я подумала о другом: как же так, тебе многие годы придётся жить вместе с Раисой?
– Трудно поверить, но мы легко условились постараться избежать этого – насколько такое вообще будет от нас зависеть. Это, я понимаю, очень зыбкая договорённость, ведь у нас может попросту не найтись пространства для манёвра.
– Прости, у тебя сейчас есть кто-нибудь?
Конечно, Свешников хотел бы назвать ту женщину, с которой завязался было добрый роман, – но она исчезла, и он не сыскал следов; нет, уезжая, он не оставит никого. И потеряет друзей, весь круг.
– На что ты будешь там жить? Для тебя, в твоём возрасте, вряд ли найдётся работа.
– Здесь я её уже потерял. Институт давно кормится только сдачей помещений в аренду.
Было одно важное соображение, о котором он умолчал. Он мог похвалиться отменным здоровьем и всё-таки, считая свои годы, был настороже, зная, что так не будет тянуться вечно: близилась старость с её болезнями и – со старостью друзей, которые сейчас ещё могли бы помочь ему, одинокому. Скажи он это вслух, Людмила непременно ответила бы, что его всегда выручат её сыновья (не родня ему, однако ж). Те, нет сомнений, выручили бы, но он не хотел становиться для них обузой. Он не хотел становиться обузой ни для кого. При мысли же о российской богадельне его пробирала дрожь.
– Возьми лист бумаги, – посоветовал Константин, – раздели чертой пополам и запиши с одной стороны все доводы «за», а с другой – «против», и каждый день дополняй, чтобы ничего не упустить и потом не каяться: как же я того-сего не предусмотрел. Сейчас многие спорят, не могут столковаться, вычисляют по мелочам, как бы не прогадать, оставшись, и не потерять всё, уехав. Напрасное дело: колебания, ничего не поделаешь, кончаются отъездом. В действительности потерять всё можно только в одном случае: оставшись там, где оно, это «всё», есть. А кое-что приобрести – лишь уехав без ничего.
– Всё это правильно, и всё – негоциизм.
– Да как ни назови… – вздохнула Людмила Родионовна. – Другого нет, потому что нельзя угадать, что здесь будет твориться завтра. Единственное постоянное у нас – страх. Страх, что вернутся коммунисты, страх – перед бандитами… Теперь не пройдёшься вечером по улице, особенно тут, в центре, а случись что – и как бы не пришлось у тех же разбойников просить защиты от вызванной тобою милиции. Хотя, знаешь, для тебя важно совсем другое – то, что у нас, где всё рушится, ты уже никогда не будешь нужен, и если даже придумаешь какое-то дело для себя – а ты придумаешь, – то условий, чтобы заняться им, у тебя не будет.
Она была права в том, что всякая эмиграция затевается человеком для сохранения себя.
* * *
Ещё никогда ему не делали столь странного предложения: исчезнуть. Не заходили так далеко и его собственные фантазии, даже в снах, как будто он собирался вечно блюсти единство места; но сейчас, впервые задумавшись над новым сюжетом, Дмитрий Алексеевич увидел, что случись так – ничто не изменилось бы в мире: Людмила, мачеха, по-прежнему занималась бы изящными рукоделиями, его последняя избранница, Мария, спала с любовником, школьный товарищ Денис Вечеслов издавал скучные книги, и только самого Дмитрия Алексеевича было бы не сыскать. «На этом свете», – уточнил он, имея в виду пространство внутри русских границ, где, хватившись его, на первых порах, наверно, и взгрустнули бы и почувствовали бы себя одиноко и наконец-то легко; ему же самому следовало молчать, не обнаруживая себя. Уже не раз он провожал эмигрантов, и всегда это были проводы как в последний путь – притом что обе стороны, уезжающие и провожающие, были плохо осведомлены о потусторонней жизни. Последние прикидывали, не грозит ли та же процедура и им, а некоторые из первых выглядели не растерянными, а возбуждёнными открытием того, что страшна не смерть, а только её ожидание.
О настоящей смерти Свешников пока не думал – нет, не отгонял мысли, а просто не чувствовал себя старым, хотя и понимал, что впереди у него времени намного меньше, нежели за спиною. До выхода на пенсию оставалось три года, по нынешним меркам это был не возраст; об умерших в таких летах говорили с удивлением: «Такой ещё молодой…» Теперь только с улыбкой он мог вспоминать, как в школе мечтал, без особой надежды, дожить до двухтысячного года. Нужные для этого полстолетия, тогда казавшиеся непомерным сроком, длиной жизни, сегодня, при возвратном взгляде, предстали сжатыми, словно при съёмке телеобъективом; из каждого года лохмотьями торчали обрывки благих намерений, и можно было только поражаться числу вещей, до которых так и не дошли руки и которые вдруг стали обидно ненужными.
Когда-то у него были превратные представления о преклонном возрасте, теперь, напротив – о молодости, о которой, впрочем, долгое время их не было вообще: юноше, ему свойственно было думать не о проходящем, а том новом и славном, что ещё не наступило. Усвоив, что всякому началу соответствует свой неизбежный конец, он до сих пор, уже прожив жизнь, не знал, как думать о старости – в будущем или в настоящем времени, не знал, перешагнул ли её границу, хотя, как ни считай, выходило, что впереди остался отрезок бытия, не способный вместить ничего значительного.
Он жалел не об утраченном времени, а о нехватке ещё не обретённого, ведь то, что представлялось пропажей, могло ещё вернуться: достаточно было никуда не двигаться – и всё идущее по кругу снова прошло бы перед глазами. Это было так понятно и достижимо – и вот теперь его срывали с места. Мечты о тихой жизни на Рижском взморье так и остались мечтами: частые наезды в Прибалтику, которые он сам называл маленькими эмиграциями, вдруг были пресечены самым решительным образом, когда три любезные душе республики отгородились от России системой границ и виз. В русской же столице жить стало совсем неуютно: наверху рвались к власти коммунисты, внизу – на улицах попадались свежеиспечённые фашисты в полувоенной одежде, а остававшиеся посерёдке не бросались в глаза. Дмитрий Алексеевич не удивился бы и очередной перемене власти, и новой диктатуре – во всяком случае, на душе было неспокойно, и, едва услышав невероятное предложение Раисы и невольно метнувшись мыслью в западные столицы, он тотчас – не решил всё же, нет ещё, но захотел – согласиться (именно – стать иностранцем, то есть непривычно свободным человеком). Честно взвешивая все за и против, он уже видел себя – там: то у стен Тауэра, то в бистро, локоть о локоть с Сименоном. Серьёзные соображения пришли на ум чуть погодя, просто как оправдание принятого решения, и он с удовольствием, не боясь сглазить, но всё-таки словно уговаривая себя, твердил, что согласился бы на отъезд даже и в том случае, когда бы дорожную перспективу замыкал всего лишь рижский собор.
Привыкший часто советоваться с Вечесловым, Дмитрий Алексеевич на этот раз медлил, будучи не слишком уверен в его одобрении: зайди и в самом деле речь о Риге, тот не только посоветовал, но и настаивал бы; отношение же Дениса к Германии (разделяемое и самим Свешниковым) было совсем не тёплым. Но и не поделиться было невозможно, и Дмитрий Алексеевич уже вечером всё-таки набрал номер (обрадовался, что никто сразу не взял трубку) – и безуспешно названивал допоздна.
– Всего два слова, – пообещал он утром, позвонив Вечеслову на работу. – Вчера я тебя не поймал, а ведь мечтал поболтать кое о чём. Причём – подробно, не по телефону.
– Сегодня я дома, заходи. Только не обессудь, мне придётся сделать несколько звонков, напомнить нашим ребятам… Ты, кстати, не забыл, что в субботу – традиционный сбор?
Свешников застонал:
– Забыл, конечно. Я не приходил уже лет десять.
– С прошлого юбилея? На этот раз я от тебя не отстану: шутка ли – сорок лет выпуска!
– Сорок!
– Интересно, многих ли ты узнаешь после такого перерыва?
– Многие ли узнают меня?
Для всех других ему только предстояло исчезнуть – для одноклассников он, наверно, исчез давно; мимолётным появлением он напрасно разрушил бы эту иллюзию.
Собираясь теперь поделиться своей новостью с Денисом, он всё же беспокоился о том, как бы это неожиданное известие не распространилось дальше, и хотел попросить того не оповещать об отъезде никого из класса, не звать даже и на вокзал (или – в аэропорт?), именно попросить, именно настоять, оттого что это Вечеслов обычно первым бросался собирать одноклассников по чрезвычайным поводам (какими, увы, до сих пор оказывались только похороны – случившиеся уже четырежды). Только двое и созывали всех: Денис и ещё – Бунчиков.
Чем дальше в недостоверное прошлое уходил выпускной год, тем уверенней их класс называли самым дружным в школе – судя по числу приходивших на традиционные сборы. Однажды – на десятилетний юбилей – они явились в полном составе, тогда как из параллельного класса пришёл всего один человек; его, конечно, взяли под своё крыло, и он потом так и прижился у них. Кто-то, конечно, бывал не всякий раз, а пропускал по три-четыре года кряду, кто-то вдруг объявился лишь ровно через четверть века, но имелся некий костяк, без которого не обходилась (да и не случилась бы) ни одна встреча. Самым предприимчивым и суетливым из этого ядра оказался тот, кто если и выделялся в школе, то лишь одним – изобретением шалостей: вечный троечник Бунчиков. Самый маленький ростом среди одноклассников, он не мог предводительствовать ни в чём; снисходительное, слегка насмешливое отношение товарищей не дало ему даже права носить сколько-нибудь звучного прозвища: с самых первых дней его звали просто Бунчиком, без выдумки. Он не возражал, оттого что глупо возражать против кличек: те образуются сами по себе – и прилипают навечно; Павлик и спустя сорок лет после школы так и остался – не Бунчиком для битья, а всё же – Бунчиком на побегушках. Это была выбранная им самим роль – единственная, быть может, особенная партия в слаженном хоре мальчиков, который, несмотря на попытки многоголосия, странным образом обходился без дирижёра: ни комсомольский секретарь не приставал с глупостями, ни непременные в больших ребяческих стаях хулиганы (у них – числом два) не смели обижать хотя бы и слабейшего из хора – и слабейший смотрел на них не со страхом, а снисходительно. Живя, в сущности, коллективным разумом, мальчики вели себя так, словно были не просто равны, а одинаковы, отчего много позже выяснилось, что они не так уж хорошо знают друг друга. В то же время у них не было общего увлечения: в классе не бушевали даже футбольные страсти; конечно, одни болели за ЦДКА, а другие – за «Динамо», но болезнь протекала вяло, и на переменках обходилось без драк.
– Не знаю, приду ли я и на этот раз, – неуверенно проговорил Дмитрий Алексеевич.
– Какой ты всё-таки бука. К хорошему это не приведёт. Но приезжай, разберёмся.
Разбирались они, как и всегда, за бутылкой вина, под джаз – только всё ж не на кухне, как это вошло в обычай у других, а в большей из двух комнат (большей, но не большой). Во второй, и подавно крохотной, обитал сын; ему, уже взрослому, было там явно тесновато, не говоря уж о том, что нельзя было приглашать девушек или, наконец, привести жену, и все понимали, что надо купить квартиру, и не было денег.
Сейчас говорили не об этом, но и никогда при Свешникове эта тема не затрагивалась – не потому, что была неловкой или тайной, но потому, что когда-то, когда было ещё рано, он сам вызвался помочь с деньгами, а теперь все знали, что его верный источник иссяк.
– Если б мы хоть пол слова знали о завтрашнем дне, – всё-таки начала жена Дениса. – А то ведь только разгонишься строить хоромы, как придётся самим уносить ноги. Проснёшься однажды – и новая власть, и хрустальная ночь, и уже не хоромы для сына, а пиковый интерес, казённый дом и дальняя дорога.
– Попала в точку, – с удивлением отозвался Дмитрий Алексеевич. – Кроме гадалки, спросить не у кого, потому что переписываться с кем-нибудь за границей, спрашивать совета в нынешних делах – пустое занятие: пока дождёшься ответа, уже сам придумаешь новые доводы, а старые опровергнешь.
Вечеслов воззрился на него с изумлением:
– Что такое, Митя? Никогда не знаешь, чего от тебя ждать. Какая переписка? Какая заграница? Ещё вчера ты не смел произносить эти слова вслух.
– Тамара уже ответила за меня: проснулся – и гадалка тут как тут и нагадала дальнюю дорогу. И у меня нет выбора, потому что, она считает, альтернатива – казённый дом.
– Это продолжение сна или твои аллегории? – поинтересовался Вечеслов.
– Вдруг объявилась Раиса.
– Проснулся, а она рядом? Неужели её генерал пал смертью храбрых?
– Позвонила из автомата и через пять минут явилась во всей красе.
– Наконец-то кончились иносказания. И что Раиса? Захотела изменить гражданское состояние? – попробовал угадать Вечеслов, и Дмитрий Алексеевич подумал, что все воспринимают её одинаково: примерно такая же догадка пришла в голову и мачехе. – Или попросила лишнюю копеечку?
– Не то. То есть – изменить, да не так, как ты думаешь. У неё-то есть выбор, и Рая его сделала: решила уехать. Теперь евреев принимают в Германии – ну она и соблазнилась.
– Пришла попрощаться?
– Нет, позвала с собой.
– Тебя! – вскричал Вечеслов. – Тебя – в Германию? Фантастика, конец света!
– Жена-еврейка – не роскошь… – напомнила Тамара.
– Вот-вот, именно так она и сказала.
– Странно, что – в Германию, – задумчиво проговорил Вечеслов. – До сих пор попадались места и получше. Правда, не в Европе. О ней и не мечтали.
Ему не ответили, и после недолгого молчания он воскликнул, повторяясь:
– Фантастика! Русский, после такой войны – и к немцам? Хотя это, парень, твой единственный шанс.
– Так что же ты советуешь: бежать или нет?
Денис лишь рассмеялся: так быстро нельзя было решить. Даже и за другого – нельзя, если только не навязать ему свои собственные мечты.
– Ты ведь знаешь, чего тебе хочется, – сказала Свешникову Тамара, – да не хватает смелости признаться.
– Хочется – это слабый довод, – ответил ей Дмитрий Алексеевич. – К тому же, как правило, если хочется, то непременно и колется. Обойти бы колкие места…
– Не ходи босиком, – посоветовал Вечеслов. – И ты прав: чтобы решиться, доводы нужны – нешуточные. Отказаться – тем более. Только не забывай, что в крупных делах иной раз всё решают мелочи: настроения, сантименты… Сантименты – как раз твой случай: с кем-то нелегко будет расстаться, кому-то и самому станет тоскливо без тебя…
– Кому-то – это нам, Митенька, – пояснила Тамара. – Ты ведь участвовал во всём.
– …и это надо учесть, но потом, потом. А сначала подумай, отчего люди уезжают. Есть ведь и вполне ощутимые вещи.
Они говорили об этом между собою и раньше, не раз, и теперь не стоило повторяться, напоминая друг другу недавние слова и о том, что коммунисты жаждут реванша, и о нынешних нежданных тощих днях, и о том, как часто стали попадаться мужики в камуфляже со свастикой, и о том, что только при взгляде через границу можно разглядеть свободу и стабильность – заманчивые и неопределённые. Дмитрий Алексеевич всё же не мог взять в толк, что означает для него свобода, хотя не далее как нынешним утром вдруг представил её себе в некоем физическом воплощении, которое сейчас не мог описать: ему нарисовалось, как он выходит на привокзальную немецкую площадь, а там, куда ни глянь – свобода, свобода, одна за другой, так что рябит в глазах, и из толпы свобод мчится навстречу ему, раскинув для объятий руки, женщина в белых развевающихся одеждах. Случайно привидевшийся, этот образ беспокоил его весь день – и всё же вряд ли мог быть отнесён к разряду ощутимых. При переезде Дмитрий Алексеевич, скорее всего, почувствовал бы другое: изменение положения, разницу между тем, кем он был здесь, и кем пришлось стать там.
В Москве его институт бедствовал без неведомо куда исчезнувших заказов, и это означало, что Свешникову грозил досрочный выход на пенсию – торжественные проводы с речами учёных, банкетом и вручением неизбежного самовара на память. В дальнейшем ему, лишнему теперь человеку, предстояло бы подрабатывать каким-нибудь вахтёром, по большим праздникам получать в домоуправлении продовольственные наборы с баночкой зелёного горошка и бутылкой подсолнечного масла да мириться с хамством девчонок в муниципальных конторах. За границей же… и за границей тоже всё могло сложиться точно так же, хотя бы потому, что пожилой безвестный инженер, с которым можно объясняться лишь на английском, не мог понадобиться никому.
О быте на новом месте он беспокоился меньше, хотя и об этом не было ни сведений, ни слухов и некого было расспросить.
– Никто пока не вернулся, – напомнила Тамара.
– Пожалуй, это самый сильный аргумент, – согласился Свешников. – Сильный, но и двояковыпуклый: что же я уеду – и так там и останусь?
– В России, – напомнил Вечеслов, – никогда не произойдёт такого, что позволит тебе вернуться.
– Так ты что советуешь? – с надеждою повторил Дмитрий Алексеевич свой вопрос.
– Советую не торопиться: не завтра же надо подавать заявление.
– Нет, торопиться нельзя. И вот что ещё: ты, пожалуй, пока не говори о моих планах нашим ребятам: мало ли как повернётся, вдруг не уеду, а слух уже полетит впереди.
На Дениса можно было положиться во всём, но он пообещал помалкивать с таким выражением, словно уступал капризу, и Свешников вывел: для того чтобы на сборе о нём говорили поменьше, а то и вовсе ничего, нужно присутствовать там самому.
Учителей, помнящих этот выпуск, в школе уже не осталось, сама же она несколько лет назад переехала, уступив своё старое, дореволюционной постройки здание банку. В новых стенах и дух стоял новый, неродной, и бывшие ученики теперь собирались на традиционные встречи вовсе не там, а у кого-нибудь на дому.
– У Николеньки, – сказал Вечеслов, что в переводе означало: у Олега Трушнина.
– Что он нынче?
– О, теперь он очень главный, – ответил Денис на школьном наречии. – Членкор.
Член-корреспондент Академии наук занимал трёхкомнатную квартиру в спальном районе города, далеко за старой окраиной. Гостей – а Свешников с Вечесловым пришли вместе – провели в комнату, стены которой были густо завешаны любительскими картинами. Дмитрий Алексеевич едва не спросил, не сам ли хозяин дома увлёкся рисованием, но тот опередил, простодушно похваставшись:
– Я теперь коллекционирую. Уже много лет.
Неопределённо хмыкнув, Дмитрий Алексеевич невольно окинул его взглядом, с головы до ног, словно ища некоего соответствия антуражу. Николенька, однако, был одет почти нормально: графитного цвета костюм, белая рубашка, старомодно повязанный галстук – но коричневые башмаки. Лицо его изменилось за годы так мало, что Свешников не затруднился бы узнать его при случайной встрече; он так и хотел сказать, но не успел, оттого что из дальнего угла комнаты приблизились те, кто пришёл раньше, всего-то пока полдюжины и знакомых, и чужих лиц. С весёлым удивлением они восклицали:
– Смотрите, Шандал пришёл!
Самым чужим был дородный старик с пышными усами, и Дмитрий Алексеевич, никак не считавший себя ни старым, ни хотя бы пожилым, замер, ожидая, пока его ровесник назовёт своё имя, но и потом, когда тот представился, не разглядел ни единой черты, доставшейся нынешнему барину в наследство от худенького застенчивого мальчика, Юры Ласкина. В отличие от товарищей тот мальчик носил брюки с застёжкой под коленом, но сверстникам не было дела до того, кто во что одет: все носили случайные вещи – хорошо, если годились отцовские. У Свешникова мелькнула мысль, что неплохо было бы однокашникам ради традиционной встречи нарядиться даже не в гольфы, как у давнишнего Юры, а в шорты (мол, если уж играть, так играть); он вовремя сообразил, что идея украдена, что об этом он читал где-то, – и скоро вспомнил где. В действительности все они пришли в обычном платье – и лишь некоторые более или менее походили на самих себя юных: Ким Юнин, сохранив шевелюру, только сменил её цвет с чёрного на снежно-белый, без помарок – и выглядел дико, Павлик Бунчиков стал тщедушней прежнего и осунулся, с Лёней Каминером время не сделало вовсе ничего, Толя Распопов так и не вылечил свои красные глаза без ресниц (Свешников сейчас впервые разглядел, что у того больны не глаза, а веки), а Сеня Бачурин всего лишь чуточку обрюзг. Но многих, приходивших позже, Дмитрий Алексеевич узнавал с трудом, а некоторых не узнавал, и ему было не по себе от незнания, вспоминают ли его самого.
Все они, странно ему далёкие, держались между собою так, словно виделись ещё недавно, а потом разъехались не больше чем на летние каникулы; уже завёлся будничный мужской разговор – о своих машинах, что всегда было больной и живой темой, но Дмитрий Алексеевич уловил сегодня и новые ноты, с удивлением обнаружив, что почти каждый из сверстников, остыв к законным прежним делам, приобщился к самодеятельной торговле и продаёт или перепродаёт иноземные товары. Ким Юнин даже принёс образчики – банки с быстрорастворимыми сухими сливками, продуктом, невиданным в Москве, – и пообещал на исходе вечеринки угостить всех кофейком. Как раз рядом с ним и оказался за столом Дмитрий Алексеевич – неслучайно, быть может, после того, что они последний школьный год просидели за одной партой; по левую же от себя руку он нашёл Распопова, с которым в детстве не дружил.
– Что, ты ещё на старом месте? – задал Дмитрий Алексеевич дежурный вопрос Юнину: впрочем, он и сам знал, что – да.
– Чисто номинально. У нас, видишь ли… Словом, down business. Это и к лучшему: не мешает работать на стороне. Появились побочные заработки – и неплохие. Только погоди, давай-ка выпьем, а то мы отстали.
– А как твои успехи в литературе?
В старших классах Юнин писал недурные, на вкус сверстников, стихи (и, конечно, мечтал стать известным поэтом), а однажды, на каком-то скучном собрании, поделился со Свешниковым своими планами написать роман из школьной жизни – «прямо сейчас, пока знаешь нашу правду, потому что стоит поступить в институт – и взгляды изменятся». Дмитрий тогда читал все сочинения Кима и верил, что из того получится писатель.
– В литературе? – насмешливо переспросил Юнин. – У меня дела посерьёзнее.
– Интересно, когда ты переменился, – допытывался Дмитрий Алексеевич, – не в наше ли смутное время? Впрочем, пардон, писал ли ты после школы?
– Что ты, совсем нет.
– Смутное время помогло, да не всем, – заметил прислушавшийся к их диалогу Распопов, – таким тоном, что стало ясно: ему-то – да, помогло.
– Ну, чтобы всем – этого и никогда не бывало. А, кстати, чем ты нынче занимаешься?
– Спортом, – ответил Распопов таким тоном, словно это разумелось само собою.
– В нашем-то возрасте? – поразился Дмитрий Алексеевич.
– Нет, не в натуре же, ты не понял. Я руковожу. В комитете.
Это прозвучало абсурдно, однако буднично, потому что в той стране, в Союзе, будто бы в порядке вещей было, что кто-то один лично руководил литературным процессом, другой – футболом, третий – утренней ходьбой на месте, и Свешников подумал, что протяни старая власть ещё несколько лет – и наверняка нашёлся бы начальник и над семейной жизнью. «Комитет, нет, – главное управление секса, – произнёс он про себя. – Хлебное будет местечко». Вслух же сказал другое:
– И что теперь – комитет, вообще ваша структура – не поколебалась?
– А мы её постоянно дорабатываем, – ухмыльнулся Распопов. – Для блага трудящихся.
– Господа, – вставая, воззвал Каминер. – Я как член учкома…
За столом оживились, словно услышав нечто остроумное; но и в самом деле, в школе для них имели особенное значение кое-какие, на посторонний вкус самые заурядные, словечки; произнесение их другими веселило школяров необычайно. Например, что-то было (а что – Свешников запамятовал) в невинном выражении «ключ от китайского секрета», и стоило учителю на уроке произнести «ключ», как весь класс радостно гудел: «Клю-уч!»
«Боже, какими глупыми мы были!» – подумал Свешников.
Между тем за столом снова гудели, вслед за Камине-ром, но уже другое: «Чаша! Чаша!»
И правда внесли хрустальную чашу.
– Чаша Грааля, – зашелестело в застолье. – Кубок Грааля.
– Святой Грааль, – громко возгласил Каминер.
Это был ритуал, исполнявшийся вот уже в сороковой раз: чаша, полная шампанского, шла по кругу, а затем каждый пригубивший расписывался на этикетке неоткупорен-ной бутылки, назначенной для распития через год. Предлагалось полюбоваться и другой, только что опустошённой бутылкой с прошлогодними автографами; остальные тридцать девять, невредимые, пылились у кого-то в кладовке.
«Напоследок. Надо же оставить хотя бы какие-то следы, вроде отпечатков пальцев», – сказал сам себе, расписываясь, Дмитрий Алексеевич – так, словно уже принял решение; но и в таком случае сегодня ничему ещё не пришло время делаться напоследок: вызова из Германии пришлось бы ждать не раньше, чем через год-другой. У него была возможность посетить ещё и следующий школьный сбор, и следующий за ним, но он сильно сомневался в том, что ему этого захочется: сорок лет – достаточный срок для того, чтобы отвыкнуть от какой угодно компании. Соученики казались ему посторонними: о чём он мог бы сегодня откровенно говорить с ними? Только не о личной жизни – из-за обоюдного незнания подробностей, и только не о работе, оттого что за столом о ней – каждый о своей – не говорят. И не о политике, оттого что в школе они не вели таких разговоров, вне школы о таком лучше было помалкивать, а сейчас, когда общество раскололось и стало неизвестно, с кем о чём можно говорить, выяснение истины вполне могло закончиться крупной ссорой. И не о спорте, разговоры о котором он считал пустым делом. И не о книгах, оттого что неизвестно было, кто теперь интересуется ими, ведь даже бывший любитель Блока и сам ярый сочинитель Ким, и тот минуту назад при одном только упоминании о литературе сделал пренебрежительную гримасу. Здесь хорошо и удобно (и принято) было вспоминать только школярские проделки, но Свешников подозревал, что эти воспоминания слово в слово повторяются ежегодно.
– Чуваки! – обратился Николенька. – Пора выпить за тех, кто, как говорится, в море. То есть за тех, кому до нас не добраться: за Пашу Аронсона «Рваные ноздри» в Израиле, Лёшу Зубовича в Лос-Анджелесе и Женю Зверева тоже где-то в Штатах.
– Больше никто туда не собирается? За бугор? – поинтересовался на правах редкого гостя Дмитрий Алексеевич – и заметил укоризненный взгляд Вечеслова.
– Счастье не за горами, – изрёк Каминер, – а за бугром.
– Таких сведений нет, – дал Свешникову точный ответ Николенька. – Но ты, Шандал, прав: выпьем и за них, скрытых друзей.
За это Свешников выпил с особенным удовольствием, снова переглянувшись с Вечесловым.
– Небось, в перестройку они пожалели, что уехали, – проговорил себе под нос сосед слева. – Крен был – в их сторону.
– Как бы в другую не перекренилось: воды бы не зачерпнуть…
– Что ты, что ты, сейчас только и делать дела. Знал бы ты, какие открываются возможности. Да ведь наверняка знаешь.
– Знаю, какие закрываются.
– Помнишь, в чём разница между оптимистом и пессимистом?
– Я как раз оптимист из того анекдота: считаю, что будет, непременно будет ещё хуже, не беспокойтесь, – отчего и не заблуждаюсь насчёт бойких коммерческих начинаний. Да и не для меня это.
– Дело хозяйское, – пожал плечами Распопов, – да только надо ловить момент. Не знаю, как пойдёт дальше, а я, например, вовремя подсуетился и сейчас – в большом порядке. О твоих же делах… догадываюсь, что тебе приходится жить на старую зарплату, которую к тому же не платят по полгода. Верно? То-то. А ты, я сейчас подумал, мог бы очень пригодиться. Если хочешь и пока не поздно, я составлю протекцию.
– Спасибо. Но я не зря сказал, что это не для меня. И вообще всё не так просто.
– Э, брось. Я тоже зря не говорю, так что давай не стесняйся. Подумай, твоё право, только долго не тяни. Понадобятся деньги – звони, я сумею помочь. Если только, конечно, не вздумаешь покупать какой-нибудь линкор.
– Нет, долго я тянуть просто не смогу, – процедил сквозь зубы Свешников, вдруг обнаружив, что страшно напряжён, словно закоченел в неудобной позе.
Такое случилось с ним впервые и, не зная, как поступить, он всё же начал, как мог, потихоньку отпускать мышцы лица.
– Что с тобой? – удивился Распопов.
– Прошло. У меня это бывает, – отговорился Дмитрий Алексеевич. – Только линкор я всё равно не куплю. Предвижу трудности с парковкой.
Он только что собирался отвергнуть предложение, судя по всему, несерьёзное – и тут, вспомнив (он ещё не свыкся с новым положением, постоянно упускал из виду), что в близком будущем останется без занятий, нерешительно сказал про себя: «Если не уеду, почему бы и не попробовать?»
При этом он терялся в догадках, на чём могут богатеть бывшие спортсмены.
* * *
То ли душевное устройство наконец уступило натиску лет, то ли предложенная перемена участи показалась слишком уж резкой, только на Свешникова накатила незнакомая дотоле тоска. Беспомощно отшучиваясь про себя, он однажды нечаянно назвал её предсмертной – тотчас же поняв, что шутки шутками, но прощания с образом ли жизни или с самою жизнью иной раз в отвлечённых рассуждениях оказываются вещами соизмеримыми. При всей обычной критике упомянутый образ чем-то всё ж устраивал Дмитрия Алексеевича – иначе он давно попытался бы изменить положение самым решительным путём, – неприятные же того стороны, на которые часто случалось сетовать вслух, могли (кто знает?) в будущем оказаться даже и милее тех, которыми мог бы порадовать новый уклад. Тоска поэтому как раз и получалась – по всему старому и привычному – видимо, обречённому. Он не верил, что можно обойтись без жертвы, нужной, чтобы наконец вырваться в мир из родных пределов, в коих обстоятельства бытия всё чаще заставляли задумываться как раз о небытии.
Мало там было простейшего разбоя (не далее как вчера, завидев в поздний час на пустой улице, вдали, трёх парней, он малодушно затаился в первой попавшейся подворотне), мало было входящего в обыкновение взаимного отстрела дельцов, так к этому добавлялось ещё и ожидание страшных событий в стране – от победы на выборах коммунистов до уличных боёв, уже отрепетированных у Белого дома и у телецентра. Жить, вдобавок, становилось не на что, жалованье не выплачивалось по нескольку месяцев, и однажды Свешников почти без удивления услышал от своего заместителя, что тот вечерами подрабатывает уборкой станций метро. «Значит, и мне предстоит», – спокойно подумал он, немедленно, однако, ужаснувшись последствиям такого шага – нет, не смущению перед знакомыми, которые, конечно же, не преминули бы невзначай застать его за чёрной работой, и не чрезмерным, не по возрасту, нагрузкам, а единственно отупению, к которому его неизменно приводили упражнения, не требующие ума, – слишком знакомые по работе на даче, слывшей среди других чудесным отдыхом, но ему ненавистным. Понятия об отдыхе у Дмитрия Алексеевича имелись свои, и будь его воля, он бы в любую свободную минуту только читал да читал, было бы что. Последняя оговорка недавно, правда, стала несущественной: с переменой власти открылись неведомые шлюзы и достойные книги хлынули таким потоком, что, уже не поспевая за новинками, оставалось лишь утешать себя: «Вот ужо выйду на пенсию…» Пенсионный возраст, однако, наступал вместе с перспективой остаться вовсе без чтения в стране чужого языка, что для Свешникова значило остаться ни с чем; он не мог взять в толк, чем живы в эмиграции его земляки. О тамошней жизни следовало бы заранее расспросить сведущего человека, но таковых не нашлось: беженцы не возвращались, даже обменяться письмами не было с кем, разве что с самим собою, – ведь мог же он успеть уехать раньше (и потом приятно было бы, окончательно отправляясь в чужие края, знать, что на новом месте тебя уже дожидается весточка из оставленного дома); у него и тогда нашлось бы что спросить, и вопросы стали бы важнее ответов: просто славно было бы списаться с тем, кого знаешь, как самого себя, вообще славно было бы именно списаться – не созвониться накоротке, а покорпеть над листом бумаги, обдумывая выражения и будучи уверенным, что корреспондент во встречном послании тоже не бросит слов на ветер. Вряд ли эта переписка потекла бы столь же легко, как некогда у наших опытных в ней предков, но традиции пристало (и приятно было) уважать; он не знал, переписывались ли с кем-нибудь его собственные прадеды, то есть не он ли сам первым в роду и заводит этот обычай, но в таком отдалении в веках, к какому он обратился, даже и чужие предшественники казались почти роднёй.








