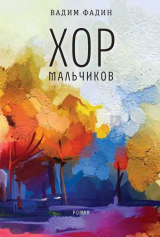
Текст книги "Хор мальчиков"
Автор книги: Вадим Фадин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Впервые они с Раисой ступили на землю иного государства, когда их отцепленный вагон остался выстаивать напрасные часы на горке в виду варшавского вокзала. Наняв за десять долларов такси, они поехали осматривать город; покладистый водитель щедро покатал их по лучшим, на свой взгляд, кварталам и даже терпеливо прождал полчаса, пока они гуляли по Старо-Мясту, с радостью узнавая там любимые черты прибалтийских столиц, навсегда в сознании обоих связанных только с отпускными и праздничными днями. Вот и нынешний день показался началом каникул.
На следующее утро Дмитрий Алексеевич с подобною же радостью увидел в сумерках нестрогие горы с огоньками у подножий и с церквами на склонах, подобные тем, что полюбились ему когда-то в Закарпатье. С рассветом местность сгладилась, и поезд остановился у непрезентабельной крытой платформы.
Никто больше не сошёл на этой станции.
Выход в город был устроен через туннель, и Дмитрий Алексеевич со своей тележкой, нагруженной дюжиной мест багажа – сумками, сумочками, коробками и двумя чемоданами, с тоской застыл перед лестницей. Снимать с неё вещи, перетаскивать вниз и потом повторять то же самое при подъёме отчаянно не хотелось, и, не будучи уверен в необходимости вообще куда-нибудь двигаться (отчего-то не верилось, что они сошли на нужной станции), он послал на разведку жену.
– Шофёр, – сказала она, вернувшись, – полюбовался издали на твою тележку, которую тебе не пришло в голову хотя бы завезти за угол, сказал, что его машина мала, и поехал за какой-то другой. Тебе велено стоять на месте – вот и жди до утра.
– Но почему бы самим не перебраться на тот берег?
– Какая разница? – махнула рукой Раиса. – А вдруг он вернётся с бригадой грузчиков и нам не придётся зря таскать тяжести самим? Стой, где сказали.
Водитель вернулся всё-таки один: проехал на микроавтобусе по не замеченным Свешниковым мосткам за дальним торцом перрона и подкатил прямо к ногам.
– А, в хайм, – едва глянув на протянутую бумажку с адресом, понял водитель.
Именно с этого слова, Heim, и начался для Свешникова немецкий язык: оно отпечаталось в уме ещё дома, ещё написанное кириллицей. Старый словарь толковал его как домашний очаг или приют, но теперь такой перевод стал недостаточен, и нам лучше подарить хайм русской речи в его первозданном звучании. Так и в дальнейшем, читая иной раз сетования на превращение эмигрантами родного языка в кощунственную мешанину, Дмитрий Алексеевич в сомнении качал головой, наконец открыв для себя, что переводу поддаются слова, но не понятия, и что «арбайтзамт» не совпадает с «биржей труда», «социал», в обоих его значениях, – с «собесом» или с «пособием» и что доктор здесь – не совсем то, что доктор там.
Московские бывалые люди, легко дававшие советы, говорили вперемешку то «хайм», то «лагерь», словно это были синонимы, и только постепенно выяснилось, что названные институты отличаются один от другого, по крайней мере, неодновременностью использования и что сначала каждый эмигрант должен пройти лагерь (трудовой, исправительный, концентрационный – советскому человеку в первую очередь приходили в голову определения именно такого сорта), а уж хайм – это потом, для тех, кто выдержал. Дмитрий Алексеевич успел до отъезда свыкнуться с мыслью о том, что их с Раисой поселят в палатке, за колючей проволокой и что это придётся терпеть до окончания какого-нибудь карантина либо испытательного, а то и иного, свойственного лагерю срока.
Шофёр, тем не менее, вёз в хайм, и Свешников решил, что – синонимы.
Одолев уже за чертой города с десяток километров – мимо каких-то редких, похожих на гигантские обувные коробки строений без окон, дверей и труб, мимо пасущихся поодиночке баранов, вдоль тротуаров попавшего под колёса игрушечного городка и наконец на его дальней окраине, мимо жёлтого, но ещё кудрявого парка, в гору, – машина остановилась на крошечной площадке между низенькими заборами, которой едва хватило бы для разворота и с которой можно было попасть в коттедж с цветущими розами за оградой, или в телефонную будку, или в примитивное, обшитое чем-то вроде шифера здание, со стороны площадки одноэтажное, но по мере продвижения посетителя по двору, под уклон, постепенно приобретавшее под этим, верхним, новые ярусы, один или три – отсюда было не видно. Подъезд, во всяком случае, находился ниже уровня ворот, и Дмитрий Алексеевич бодро подумал, что теперь, под горочку, легко донесёт вещи и без тележки и что раз жить придётся не в палатке, то и вообще всё будет легко. Тут он обнаружил, что на него смотрят: возле калитки, прислонившись к столбу, стоял высокий пожилой мужчина в джинсовой куртке. Встретив взгляд и в ответ неопределённо взмахнув рукой, тот двинулся навстречу. Поздравив с прибытием и подсобив вынуть из машины багаж, местный житель полюбопытствовал со смешком:
– И это все ваши пожитки? На оставшуюся жизнь?
Дмитрий Алексеевич развёл руками. Этот вопрос он слышал не впервые: и на московском вокзале, и в поезде ему давали понять, что на ПМЖ – постоянное место жительства – с таким скромным скарбом не уезжают; для него же многовато было и этого: вокзальные весы намерили почти полтораста килограммов.
– Поглядели бы вы, с чем приезжают другие! Впрочем, я сам вёз ещё меньше вашего – но, заметьте, на одного. Жена отправила меня вперёд: если не сгину, то она догонит. Кстати, позвольте представиться: Альберт.
– Просто Альберт – и всё? – переспросил Дмитрий Алексеевич, всё ещё находивший особый вкус в старомодном величании даже близких знакомых по имени и отчеству и так именно через минуту и представившийся.
– Просто Альберт, – подтвердил его собеседник, чуть ли не подмигивая, что было бы даже естественно при его легкомысленной внешности – длинной, как мяч для американского футбола, голове с одинаково острыми подбородком и макушкой и мясистым, повторяющим те же футбольные кривые, носом. – Мы с вами, видимо, почти ровесники. А отчества тут, говорят, не в моде.
– Даны-то они не здесь, в других краях.
– Если настаиваете… – посмеиваясь, Альберт выудил из кармана куртки помявшуюся визитку, из которой явствовало, что её владельцем является проживающий в Львове невропатолог высшей категории, биоэнерготерапевт международной категории Альберт Михайлович Бецалин.
– Совсем другое дело, – удовлетворенно проговорил Дмитрий Алексеевич, поленившись спросить, что за категории появились нынче у врачей.
– Честно говоря, не знаю, что легче: подражать во всём местным или упорствовать в старых привычках, чего-то требовать. Во всяком случае, персонал должен бы помочь оглядеться. А вас, вижу, даже не встретили: всего одна семья, да ещё в выходной день…
– Первый контакт? – наконец подойдя, нервно спросила Раиса.
Галантно раскланявшись, Бецалин подхватил тему:
– К счастью, мы представители одной цивилизации. Честно говоря, на контакт с инопланетянами я и раньше не рассчитывал, а тут вовсе стало не до них. В первое же утро мне пришлось пережить потрясение совсем иного рода: выглянул в окно, и вдруг – немцы в городе!
Вежливо улыбнувшись, Дмитрий Алексеевич подумал, что эта недорогая шутка здесь, наверно, переходит из уст в уста – и будет переходить впредь, пока не вымрут все, кому она ещё понятна.
Бецалин вызвался сходить за управляющей, жившей через дорогу, и не прошло четверти часа, как приезжими были получены ключи и деньги на первый день и можно было устраиваться в своём германском жилище – просторной комнате с окном во всю ширину стены, с двуспальной кроватью, холодильником, кое-какой посудой на полке и с раковиной в нише. Окно выходило на двор коттеджей, где цвели розы, странные об эту пору, и на поднимающийся на заднем плане лесистый холм парка; найдя в этом что-то прибалтийское (больше ему не с чем было сравнить), Дмитрий Алексеевич представил, как год назад был бы счастлив, сумев снять на месяц отпуска подобное жильё где-нибудь на Рижском взморье.
Раисе между тем не терпелось осмотреть прочие достопримечательности – расположенные в коридоре кухню с четырьмя плитами, душ и туалет. В последний они заглянули с опаской, зная, как могли бы выглядеть подобные помещения в России, – и остолбенели от белизны всех видимых поверхностей, подчёркнутой алыми крюками дверных ручек.
– Вот это чистота! – восхитилась Раиса.
– Как в морге, – брякнул он, тоже восхищённый, но видя, что шутка пришлась не по вкусу (в первую очередь ему самому), поспешил перевести разговор: – Впереди ещё много сюрпризов, надеюсь – такого же рода, и давай пойдём осмотрим окрестности.
– Может быть, сначала всё-таки перекусим? – недовольно возразила она.
– Опять всухомятку?.. А не совместить ли нам прогулку с обедом? Уже хочется чего-нибудь горячего. И горячительного. Нынешний день стоит тоста, не так ли?
Идя тою же дорогой, по которой привезла их машина, они не узнавали пейзажа, предъявленного теперь в обратном порядке (и не обратною ли стороною?), кроме парка, только слегка изменившего выражение, – он будто бы поредел, ещё более пожелтел, но и оживился: в предваряющей его низинке резвились две собаки, золотистые ретриверы. Дорожка, по которой те носились, приводила к ресторанчику у пруда, и этот домик с террасой и лежащая за ним улица показались совсем уже незнакомыми. Дмитрий Алексеевич даже усомнился вслух, туда ли, к центру ли они свернули. В такси он, турист в новых местах, проглядел глаза, стараясь не упустить никакой мелочи, но растерянный эмигрант, заброшенный в немецкую провинцию и не представляющий себе ни что будет с ним завтра, ни кто он теперь есть, этот беженец не запомнил ничего. Привыкший всегда владеть положением (а в нём – собою), он впервые безвольно подчинился внешним силам, послушно передвигаясь, выполняя какие-то навязанные посторонними людьми действия и даже не задумываясь о том, существует ли впереди точка, достигнув которой, можно будет наконец осознать себя.
День был воскресный, и городок замер в безлюдье. За всё время прогулки мимо нашей пары прожужжали по брусчатке три или четыре случайные, словно заблудившиеся, машины да попались навстречу с десяток прохожих. Окна почти везде были закрыты наглухо, как полагалось по сезону, хотя было тепло, градусов десять, и по московским меркам календарю следовало бы вернуться намного назад. Свешников с Раисой то и дело останавливались полюбоваться розами в палисадниках, и лишь ближе к центру почти всякая зелень иссякла: улицы стали так тесны, что на них оказался бы помехою не только газон или одинокий куст, но и цветочный горшок у порога, и дома прислонились друг к другу так плотно, как если бы их в своё время втискивали силой в пределы крепости – так оно, видимо, и было, только от городской стены ни сейчас, ни в последующие дни не удалось найти и следа.
Продавец зонтиков, еле удерживающий над головой целую гроздь раскрытых их, рвущихся в небо, тот самый добряк, что нередко мерещился в последние остававшиеся до сна секунды, мог бы воспарять от неожиданного порыва ветра лишь над такими, как здесь, черепичными крышами, над окошками мансард, над бесконечным шпилем кирхи (и скромным – ратуши), над засмотревшимся на чужой полёт трубочистом в цилиндре. Несмотря на серую неверную погоду, как раз парасолек и не замечалось в руках беспечных жителей: то ли городок был мал настолько, что они даже в случае внезапного ливня надеялись откуда угодно добежать до дому сухими, то ли просто тут наступила такая не-мода, подобную которой наш путешественник знал по своим молодым временам, когда советские мужчины с презрением отвергали зонтики, эти унаследованные от старого строя, присущие буржуям атрибуты, предпочитая им целые наборы из галош, душных прорезиненных плащей и кепок – с непременными струями за воротник (такая же не-мода, как обратила внимание его спутница, была среди местных женщин на юбки в том смысле, что и в этот день, и потом, за все три недели пребывания в городке, перед глазами не мелькнуло ни одной женской ножки в чулке, а только штаны, штаны), то ли местность не знала настоящих дождей – одну морось. Дмитрий Алексеевич чуть ли не готов был вызвать на свою голову ливень, лишь бы посмотреть, как поведут себя туземцы. Впрочем, те, конечно, привычно справились бы с ненастьем, так и не предъявив свежему зрителю картину, какая когда-нибудь позабавит его в иных итальянских городах, где застигнутые врасплох непогодой тысячи туристов, не успев проклясть свою беспечность, обнаруживают на каждом углу предприимчивых африканцев, разложивших на сухих местечках, под стенами и карнизами, груды разноцветных зонтиков.
Свешников и Раиса выделялись среди местных жителей уже тем, что Раиса надела пальто, купленное перед отъездом специально для заграницы. Дмитрий Алексеевич был в куртке, и все, кто попадались им навстречу, мужчины и женщины, были в куртках, словно тут вовсе не носили длинных одежд; особенно удивляла одинаковость облика пожилых дам – с голыми глазами, постриженных по-мужски и одетых в брюки, кроссовки и прямые, как у пожарных, куртки. Немедленно обсудив и одобрив практичность здешней манеры одеваться, наши иностранцы решили, каждый для себя, её не перенимать.
Пообедали они в маленьком, на четыре стола, кафе, судя по витрине – кондитерской, где их, тем не менее, угостили пивом и зразами на огромных тарелках.
– Выходит, жизнь прекрасна, – заключил Дмитрий Алексеевич, всё ж – с почти вопросительной интонацией.
Вернувшись в хайм (нельзя же было сказать «домой»), они нашли в вестибюле целую компанию, расположившуюся на диване и нескольких стульях вокруг пустого стола. Привстав навстречу, Бецалин немедленно поинтересовался:
– Как впечатление, господа отдыхающие?
– До чего же приятный городок, – с воодушевлением ответил Дмитрий Алексеевич, у которого и впрямь было ощущение, будто он приехал по профсоюзной путёвке в прибалтийский пансионат. – Но позвольте представиться уважаемому обществу…
Опуская подробности, он сказал о себе – научный работник (что было правдой) и о жене – патентовед (что могло ввести в заблуждение, зато, как он знал, избавляло от расспросов). Бецалин, на правах знакомого, назвал собравшихся: учёный из российского Черноземья, ехидно подчеркнув: из «красного пояса», прокоммунистических о ту пору мест, сразу два главных инженера – харьковский и орловский, их жёны, чьи достижения остались до времени за скобками, и киевлянка Анжела с двенадцатилетним сыном. Их фамилии, как часто случается при поспешных знакомствах, забылись Свешниковым мгновенно.
– Насколько я догадываюсь, – поведя плечом, проговорила Раиса, – этот диван – нечто вроде постоянного клуба?
– Диван – это совет мудрейших, – заметил Бецалин.
«Единственное место, куда вечером можно выйти из номера, – решил Свешников. – Не станешь же бродить в темноте по всем этим горкам».
– Место наших встреч, как известно, изменить нельзя, – ответил Раисе тот, кого поименовали учёным, и Дмитрий Алексеевич, вдруг вспомнив, что тот назвался Литвиновым, заодно вспомнил ещё одного встреченного в жизни Литвинова – бывшего сталинского наркома иностранных дел, к тому времени разжалованного.
Тогда мать сказала маленькому Мите: «Смотри, Литвинов!» – так, словно сын наверняка уже знал, кто это, как в те времена знали всех своих вождей, и он увидел очень толстого человека в сером костюме, неловко, головой вперёд влезающего в чёрный лимузин (мальчик рванулся помочь бедняге, но мать вовремя схватила его за руку). Потом в течение многих лет этот человек казался ему непревзойдённым образцом полноты.
Пожилой чернозёмный Литвинов был высок и рыхл, грузен, но не толст, носил очки в металлической оправе, обильные седые усы и даже кое-какую причёску, и выражение его лица было таково, что, присмотревшись, можно было с полною уверенностью сказать: нет, не нарком, не фигура.
– Нельзя изменить и состав клуба, – продолжил он, – в том смысле, что чужие в дом не заходят, а обитатели не минуют диван безнаказанно. Как же можно допустить, чтобы люди маялись в своих кельях, пока мы тут развлекаем друг друга беседой. Это тот самый случай, когда индивидуум пропадает без коллектива. Сию минуту здесь не хватает ещё двух семейств, но и они обязательно появятся попозже: всем хочется поговорить со своими. А говорим-то мы, собственно, всегда примерно об одном и том же: гадаем, кого, когда и с кем, а самое важное – куда повезут на курсы языка, а то и на постоянное жительство.
– Так – куда же, куда конкретно? – оживилась Раиса.
Люди уезжали отсюда в самые разные места, но только не в крупные города; хорошо ли это было – то, что не в крупные, – этого толком не знали, но каждый имел свои соображения и планы.
Жена украинского инженера заявила:
– Город можно выбрать и самим. В назначенной нам области.
– Здесь говорят: в федеральной земле, – поправил муж.
– Лучше бы звучало: в пределах Земли, – заметил Бе-цалин. – Вообще – Земли. Федеральной ли – это уже несущественно. В пределах федерального земного шара – каково?
– Можно выбрать, – продолжала она. – У нас с мужем такая концепция: маленький город вблизи большого. Знаете, эти маленькие немецкие городки… Черепичные крыши, небольшие дома, ратуша с часами – как на картинке – и тишина. А с другой стороны, сел на электричку – и через полчаса ты на проспекте. А там – театр, магазины, одетая публика.
– Ещё добавьте заведение в соседнем доме, – продолжил Свешников, – где каждый вечер за кружкой пива, а то и за картишками, собираются одни и те же господин аптекарь, господин почтмейстер, господин доктор и господин учитель. Очень старомодно и в меру уютно. Зато и роли распределены, и… и, кстати, не боитесь ли вы трудностей с работой?
– Мы ведь будем получать социал!
– Ах, ну разве что… – стушевался Дмитрий Алексеевич.
– Кстати, о социале, – поднял палец Бецалин. – Завтра надо съездить за получкой.
Продолжение он адресовал одному Свешникову:
– К вашему сведению, мы с господином учителем… ах, простите, вот я уже размечтался о вашей пивной, а хотел сказать – мы с господином учёным здесь не старожилы, а почти такие же новенькие, как вы, прибыли всего на двое суток раньше. Нам всем надобно, по-русски говоря, встать на учёт и на денежное довольствие. И получить вид на жительство. Думаю, что удобнее поехать вместе. Мало ли что…
Речь шла о поездке в тот самый город, в котором чета Свешниковых сошла с поезда.
– Мало ли – что? – захотел уточнить Дмитрий Алексеевич.
– Чужой город, чужие порядки – и разве вы знаете немецкий в совершенстве?
– Совсем нет. Дома я пытался самостоятельно освоить какие-то азы – и знаете, на чём запнулся? Не поверил, что «студент» и «спорт» надо смешно произносить как «штудент» и «шпорт», а спросить было не у кого. На том и остановился.
– Дома – бесполезное занятие, – перебила Раиса. – Я тоже начала, да бросила. То, на что там нужен год, в немецкой среде усвоишь, наверно, за месяц. А если что-то понадобится позарез – можно обойтись английским. Вот вчера ночью, когда мы делали пересадку: пустой перрон, поезд ушёл дальше, а мы стоим с гружёной тележкой, не зная, куда податься, да что там – не зная, как попасть в здание вокзала, потому что надо спускаться в туннель, а тележку по лестнице не снесёшь, – и представьте, какая-то простая железнодорожница всё нам объяснила по-английски и даже проводила – лифты, туннели – до справочного бюро.
– Простая ли, ещё неизвестно, – улыбнулся Дмитрий Алексеевич, – но объяснила толково: ведь мы хотели не просто уйти с платформы, а ещё и вообще перебраться на другой вокзал, ни больше ни меньше. И вот добрались, не пропали.
– Собственно, мы, господа, для того сюда и приехали, – заметил Бецалин, – чтобы не пропасть. Считайте, что унесли ноги.
– Ещё весной мы действительно думали, что не унесём, – согласилась Раиса. – А потом, когда коммуняки сникли, мы даже позволяли себе шутить: мол, если наша взяла, зачем же ехать?
– И зачем же вы уехали? – зычно, с напором поинтересовался Литвинов.
На похожие вопросы часто приходилось отвечать в последние дни в Москве, но там они были естественны, потому что спрашивали – остающиеся. Отвечать на то же самое, уже переехав границу, Свешникову было бы скучно: но и спрашивали не его. Здесь все, даже держа в уме разные ответы, но связавшись общей судьбою, должны были бы понимать друг друга вовсе без слов – и те, кто бежал от коммунистической болезни со всеми её метастазами, и те, кто искал сытой жизни. По его преждевременному мнению вторых могло оказаться большинство. «Похоже, что нынешняя волна эмиграции никогда не была политической», – снова подумал Свешников, тотчас, правда, поправился, заменив «никогда не была» на «так и не стала», но не повредив этим мысли: иные даже из предыдущей волны, из тех, кого он провожал или о чьём бегстве слышал двадцать лет назад, тоже уезжали не от коммунистов и советской власти, а просто – из Советского Союза; теперь он понимал разницу, а тогда искренне мнил, что все они суть одинаковые противники режима. Да и позже, дожив до седин, он всё ещё долго заблуждался насчёт единомыслия и единодушия хотя бы в своём кругу, пока ему не открыла глаза случайно грянувшая в стране обманчивая свобода – не его личное освобождение от каких-то пут, а перемены в мире, принесённые перестройкой и неожиданные и для этого мира, и даже для самого её, перестройки, сочинителя, явно добивавшегося противоположного итога. Свешникова тогда, помнится, поразила метаморфоза, происшедшая с теми, кого называли инакомыслящими, то есть буквально, по тогдашним представлениям, мыслящими иначе, нежели это предписано властью, а значит – антисоветчиками, а значит, по совсем уже грубому, зато наглядному делению, не красными, а белыми: едва тем дозволили заговорить вслух, как вдруг иные из них на глазах, прямо на экранах телевизоров начали набухать розовым, как вишенный цвет, и он изумился необъяснимому феномену существования в российской природе наряду с белыми еще и красных диссидентов.
Литвинов повторил свой вопрос.
– Зачем? – отозвалась Раиса. – Затем же, что все. Чтобы жить, а не выживать.
– Не зачем и не за чем, – поправил жену Дмитрий Алексеевич, – а от чего. После путча наступил же девяносто третий год, а после него может наступить и ещё какой-нибудь…
– Сами же сказали: наша взяла, – пожал плечами Литвинов. – Причём без усилий: расстрелял парламент – и спи спокойно.
– И вы туда же! Тут я, знаете, возражу, но только сначала, как во всяком серьёзном споре, договорившись о терминах. Расстрел, как помнится, это высшая мера наказания, приведение в исполнение смертного приговора. И начнём с того, что у нас ничего подобного не случилось: никто из депутатов не получил и царапины.
– Дерутся-то обычно солдаты – с солдатами, – неуверенно поддержал Бецалин.
– В солдат и стреляли: в тех, что сперва напали на милиционеров и на безоружных солдатиков, потом захватили мэрию, а потом засели в Белом доме, где очень к месту собрался Верховный совет в полном составе. Нынче кому-то стало удобно говорить, что это воинство будто бы охраняло депутатов, а в действительности те фактически оказались заложниками. Если вы смотрели телевизор – а вы смотрели, как и все, – то могли заметить, что у этих молодцев на куртках нашита свастика. Они и до того вполне буднично попадались на улицах. Вот в них и стреляли танки – в фашистов.
– Удар ниже пояса, – поднял руки Литвинов, – но нельзя же сказать…
– Кто бы там ни выиграл, сил на выживание не оставалось, – вернулась к своему Раиса.
– Вы правы, сил на всё не наберёшься. Я вот потерял здоровье на защите диссертации, получил инфаркт, но ладно, думал, зато поднялся же на ступень – на степень! – вверх, где и достаток, и положение отныне обеспечены. И вдруг всё это практически потеряло значение. Зарплату, представьте, перестали платить.
– А «пятый пункт»? – напомнила Раиса.
– Ну, ректорство мне не светило, это правда…
– Не светит и здесь, – усмехнулся Бецалин.
– Э, нет! Ректором не стану, конечно, но работать я тут намерен строго по специальности. Буду читать лекции коллегам: немцам наш подход интересен. Надо изучить язык, подтвердить диплом – и вперёд!
– Простите, – перебил Свешников, – а в какой области вы…
– В педагогике.
– Подход, говорите, интересен? – переспросил Бецалин. – Мне бы вашу веру в светлое будущее. У нас, вспомните, некто Макаренко со своим подходом появился только потому, что стал необходим власти. Нет потребности – нет человека. Ну откуда она возьмётся в этой благополучной стране? Возможно, у вас есть основания надеяться, а я для себя исхожу из того, что раз меня не звали, а я сам напросился, то и нужды во мне нету.
– Да как же, есть основания. У меня колоссальный опыт.
– Желаю вам удачи, – серьёзно сказал Дмитрий Алексеевич, сочтя неудобным обнаруживать свой скепсис, покуда тот вместо знания основывается лишь на здравом смысле – субстанции неощутимой и оттого не годящейся в доводы при спорах.
Впрочем, он и не собирался убеждать незнакомых людей ни в чём. О себе же он твёрдо знал, что простился не только с карьерой, но и вообще с серьёзными занятиями, из всех инструментов сохранив для них только авторучку. Начать что-либо на новом месте, сохраняя прежний уровень, он мог бы, лишь имея здесь надёжные деловые связи, но о каких связях, о каком партнёрстве могла идти речь после сопутствовавшей ему всю жизнь секретности? Его работы, даже и не содержавшие закрытых данных, хранились на полках «первых отделов», а имя было известно разве что коллегам из смежного института да высокому начальству, но там, дома, возможны были хотя бы намёки, хотя бы упоминания символов, понятных посвящённым, а в Германии он стал словно бы новичком, если не самозванцем, – простым инженером с дипломом сорокалетней давности, который ещё требовалось неведомым образом подтверждать. Нет, насчёт собственного будущего у него не оставалось сомнений: его удел – получая пособие, пописывать итоговые статейки, излагая для потомства свою философию, буде удастся выразить её словами, – и читать наконец-то, сколько влезет, романы. Из новых знакомых он в отношении одного лишь Бецалина (едва взглянув на визитку с замечательно придуманными категориями) решил, что тот преуспеет: даже если бы в беспокойном эмигрантском обществе и не был, по закону природы неминуемо высок спрос на экстрасенсов, гадалок и консультантов, даже и тогда не пропал бы столь изобретательный человек.
– Ну что ж, делитесь, делитесь советским опытом, – пожелал Бецалин. – Но вам, надеюсь, известна обычная судьба благих намерений?
– Ну, у меня слова с делом не расходятся. Как-никак, больше полувека прожил при плановом хозяйстве.
– О, редчайший опыт.
– Какие планы можно строить, – вмешалась Раиса, – если мы попали в чужие руки и не знаем, что нам дозволено, что – нет? Разве нам дома хотя бы что-нибудь рассказывали об этой эмиграции, которой всего-то отроду неделя? Мы уехали вслепую и сейчас способны разве что мечтать попусту. До Москвы, конечно, начали доходить слухи, но ещё слабые, и по одним из них получалось, что здесь хорошо только старикам, которым уже не нужно искать работу, по другим – что молодым все дороги… Мой мальчик не захотел рисковать.
– Моя дочь давно в Израиле, – сообщил Бецалин.
Все разом заговорили о детях, и лишь тут Дмитрий Алексеевич понял, какую особенность здешней компании он никак не мог уловить: да, конечно, они и впрямь были «господа отдыхающие», угодившие в пансионат в мёртвый сезон, когда на дворе ненастье и некуда податься, шахматы и домино надоели, выпить не с кем, а кино сегодня не привезли и потому приходится коротать вечера в гостиной за скучными байками… Только кто же покупает путёвки в такое время – неудачники и пенсионеры? Почти так оно и было: тут явно преобладали пожилые пары, непонятно как решившиеся пуститься в непростой путь, где-то за чертою растеряв взрослых детей – согласившись на одиночество в старости. С другой стороны, как ему было думать о них всех, если он не умел объяснить даже собственный случай, так и не выведав у Раисы, что у неё было на уме, когда, оставив в Москве единственного сына, она отправилась искать стариковского счастья незнамо куда, пусть даже только на разведку, только осмотреться, с человеком, давно ей чужим и ещё дольше нелюбимым. Не настолько ж её Алик был связан своими обязанностями или пристрастиями, чтобы не иметь возможности последовать за матерью – здесь Дмитрию Алексеевичу мерещился подвох, о котором не хотелось думать.
Не думать на посиделках – значило внимать историям остальных.
Поначалу он слушал, принимая всё за чистую монету, и вдруг, сложив вместе, едва не рассмеялся, найдя в историях замечательную общую черту: ни одна не показалась ни исповедью, упаси Бог, ни просто искренним рассказом, а только – легендой, как у нелегалов. Так рассказчики и проверяли других, и на всякий случай набивали себе цену, словно невзначай ошибаясь в собственных чинах и званиях, отчего доверчивому человеку собравшаяся в гостиной группа могла показаться весьма солидною, человек же осторожный непременно стал бы отнимать в уме по нескольку червонцев от всякой названной суммы, и Дмитрий Алексеевич, подумав, что, пожалуй, открой он, что руководил лабораторией в крупном институте, как его тотчас, вычтя поправку, навсегда определили бы в лаборанты, постарался не говорить о себе ничего, сопроводив бормотание о «кое-каких забавных исследованиях» небрежным взмахом руки.
Сами рассказы были хрониками разлучённых семей. Иные родители уехали из бывшего Союза позже детей и теперь должны были прилагать какие-то усилия, чтобы поселиться в одном городе с теми (и никто не знал, возможно ли это, все они ещё сомневались в своей свободе); у других младшие только собирались в дорогу, и вопрос о скорой встрече пока не имел ответа; у третьего – Бецалина – дочь и подавно укатила в далёкую от Европы страну, и жене, непонятно задержавшейся дома, приходилось одной выбирать, за кем последовать. С четвёртым сюжетом Дмитрий Алексеевич и Раиса познакомились, выйдя под вечер к телефону, чтобы позвонить домой (домой? – Свешников засмеялся: этому слову пора было изменить содержание).
– Там сейчас звонит Роза, – крикнул им вдогонку Бе-цалин. – Это надолго.
В освещённой будке стояла рыженькая девушка в тёплой куртке и мини-юбке; на улице её было слышно так хорошо, что пришлось отойти к дальнему краю небольшой площадки – но бесполезно, потому что и туда доносилось каждое слово, произносимое то сквозь слёзы, то с раздражением, то умоляюще. Так им легко стала известна история девушки, опрометчиво вышедшей замуж перед самым отъездом, опрометчиво – потому что свежеиспеченному супругу, да ещё и не еврею, германские власти отказали в разрешении на въезд; по закону – или по его толкованию – этой паре предстояло жить врозь до тех пор, пока жена не станет зарабатывать столько, чтобы хватало на двоих.








