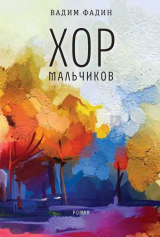
Текст книги "Хор мальчиков"
Автор книги: Вадим Фадин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Первая из его историй была о молодой женщине, в середине пятидесятых направленной в недолгую, на пару недель, командировку в Будапешт; она рыдала, не стесняясь слёз: «Не могу оставить Родину» (с прописной буквы, это слышалось отчётливо). Героиня второй истории, случившейся много лет спустя, попала в чужие пределы уже по своей воле, с экскурсией, – Свешников не помнил, в какую из социалистических, конечно, стран, для него это не имело значения, как не имело значения и для самой путешественницы: важно было лишь, что – за границу, в города, которых тогда почти никто не видел даже в кино. Она осталась недовольна поездкой: вернувшись, искренне возмущалась тем, что у туристов не было времени для общения с другими советскими группами.
– Плохо было организовано, – пожал плечами Литвинов.
– Видимо, я невнятно выразился, – поскучнев, произнёс Дмитрий Алексеевич. – Разве не смешно – нет, не чудовищно ли, что человек раз в жизни вырвался в тридевятое царство – и вовсе не проглядывает все глаза на чудеса света, а хочет попасть там на профсоюзное собрание родных трудящихся, которых и так видит четыреста дней в году?
Сам он тем более не понимал этого, что, никогда до эмиграции не пересекая границу, подозревал за этой чертою умножение и усугубление того удовольствия, за которым ежегодно ездил на балтийские берега (видимо, поэтому самым сильным впечатлением первых дней в Германии стало для него отсутствие потрясения – он всего лишь увидел то, чего ждал). Он-то не променял бы возможность осмотреть лишний дворец, храм или старинный квартал на сомнительную встречу не только с безликими соотечественниками, но и вообще с кем бы то ни было. Уже зная по опыту, что никогда не сможет ни насмотреться, ни надышаться, Дмитрий Алексеевич в прежние годы, бродя по приютившему его на время каникул городку – неважно, Пярну, Паланге или Майори, – неизменно бывал сосредоточен на своём пребывании там, упиваясь каждой минутой и постоянно напоминая себе: ты идешь не по Клязьме или Малаховке, а по латышской, литовской, эстонской земле, так не отвлекайся на пустое, ведь ни моря, ни готики, ни такой вот башенки над деревянной дачей, ни мощёного тротуара на травяной улице, ни белки на заборе тебе не увидеть в ближайшие одиннадцать месяцев, как и не услышать органа в соборе – так вкушай же. И он – вкушал.
– Миша, откупори же наконец, – распорядилась Алла.
Описывать стол здесь не имеет смысла – после всех пиров, знакомых нам по русской литературе, его можно вообще не принимать всерьёз, потому что вместо поросят с кашей, метровых осетров, расстегаев, буженины, солянки, блинов с икрой или просто малосольных огурчиков и селёдки с отварной картошкой на нём расположились всего лишь сласти и выпечка из супермаркета.
– Борде… а… – с трудом начал читать этикетку Литвинов.
– Не то, что вы подумали, – не сдержал улыбки Свешников. – Бордо.
– О! Послушайте, а не безнравственно ли получать пособие и покупать на него бордо?
– Не смущайтесь: здесь это, оказывается, вовсе не роскошь.
– По-моему, безнравственно уже само по себе получение пособия, – возразила мужу Алла. – Что же, мы так и будем ходить за этими подачками?
– А за пенсией в России вы не ходили? – фыркнула Раиса. – И на что вы рассчитывали здесь – неужели на работу? В нашем возрасте?
– Насчёт подачек вы, Алла, не совсем правы, – поддержал Бецалин. – И вы, и мы – пострадавшая сторона. А они – они проиграли войну…
– Вот уж не игра была. Нои выиграли – не вы.
Литвинов неожиданно запротестовал:
– Прошу вас, прошу: оставим международное положение в покое. Дома мы с коллегами, собираясь за столом, тоже первым делом заявляли: ни слова о работе. В конце концов, и нам с вами есть о чём поговорить после всех перипетий прошедшей недели. Оставим наши споры в той стране, а сейчас – я наливаю. Знаменательный, между прочим, момент: первая выпивка на чужой земле.
– Неужели до сих пор не причастились? – не поверил Бецалин.
– В коллективе – нет.
– Где-где? У капиталистов, видите ли, отсутствует такое понятие.
Алла хихикнула, а её муж равнодушно согласился: в компании так в компании, как угодно, это дела не меняет.
– Да, гос-по-дин Литвинов, придётся вам отвыкать от большевистского языка.
Отвыкать от него, однако, нужно было не одному только Литвинову: все соседи по хайму ещё недавно говорили на том же наречии, и сознание было под стать, в новой же обстановке многие чувствовали неловкость, пользуясь старым словарём – например, обращением «товарищ», – и на чужой земле не только старались говорить аккуратно, но и ловили друг друга на советских словечках, как на чём-то постыдном. Сейчас каждый заметил, как, не ответив, смутился Михаил Борисович – хотя и не из-за чего было, не уличили же его в бессовестном поступке; всё-таки он постарался сделать вид, что не заметил реплики, и немедленно щегольнул новейшим, но уже и сейчас понятным, немецким словом, удобно назвав общежитие хаймом.
– Кстати, – вспомнил он. – Вот информация для размышления: в городе, куда нас повезут, есть три хайма. Разного, говорят, качества, очень разного. Наша с вами актуальная задача ясна: постараться попасть в лучший. Но как узнать – в который?
– О, вы уже знаете, куда повезут, – нарочито грустно проговорил Бецалин, не спрашивая, а утверждая. – Интересно, где вы это слышали. Вот у меня совсем нет чутья.
– Бедный доктор, вы перепутали органы чувств.
– Но они жизненно необходимы – и те и другие. Я ручаюсь.
– Подождите, я сказал не всё. Доподлинно известно – не спрашивайте откуда, что распределение по общежитиям во многом зависит от нашей милой комендантши. Так что с ней есть смысл поговорить. Вручить, например, коробку конфет. Правда, сначала…
– Сначала надо увидеть все три общежития своими глазами, – решительно закончила за него Раиса. – Чутьём тут не обойтись. Хорошо бы послать кого-нибудь на разведку.
Ей немедленно и наперебой возразили: на вкус и на цвет товарищей нет, и от разведчика не будет толку, оттого что одному понравится одно, а другому – даже и не другое, а вовсе ничего не понравится, и, значит, если ехать, то всем вместе. Билеты между тем стоили недёшево, так что в конце концов решено было отправить одних мужчин, по одному представителю от семьи.
– А нельзя ли сэкономить ещё больше и узнать нужное, не выходя из комнаты? – с небрежным видом спросил Свешников. – Мы постоянно упускаем из виду, что наш уважаемый Альберт Михайлович – биоэнергетик высшей категории…
– Международной. И – биоэнерготерапевт.
– Виноват. Тем более вы наверняка способны извлечь из потока международной энергии что-нибудь общественно-полезное.
– Я же подчеркнул: терапевт. Не ясновидящий. Если, типун мне на язык, заболеете – вот тогда присылайте за мной. Чем смогу – помогу, а большее мне не по плечу, с энергией у меня отношения далеко не те, что вы думаете.
Говоря это, Бецалин уставился на валяющийся под окном ржавый железный диск размером с блюдце – то ли меньший блин штанги, то ли гирю рыночных весов.
– Это было тут всегда, – развела руками Алла, забывшая выбросить этот хлам.
– То, что нужно, – определил Бецалин. – Это – кстати, к слову об энергии. Я покажу, с вашего позволения, небольшой школьный опыт. Или – трюк, как хотите… Извиняюсь перед женщинами: мне придётся раздеться до пояса. Как на приёме у настоящего терапевта.
Раиса пожала плечами, и он, поняв это как знак согласия и быстро встав, снял рубашку. Приложив диск чуть ниже плеча, почти вертикально, он отнял руку – тяжёлая железка удержалась, переместил её к середине груди – она словно прилипла и там.
– Дайте-ка и я попробую, – попросил Свешников.
– Смотрите, ноги не отшибите. Да можете не раздеваться, это всё равно.
Дмитрий Алексеевич попытался приладить диск на себе – и тот грохнулся на пол.
– Фокус не удался, – засмеялся Бецалин. – С мировой энергией обстоит не так просто. Честно говоря, я тут ничего не могу объяснить. Умею – и всё.
– Этот аттракцион как-то связан с вашим… врачеванием? – поинтересовалась Раиса.
– Понятия не имею. И тут не помогут ни Эйнштейн, ни израильский кнессет. Для меня и лечение – загадка. Как я получаю энергию, как отдаю – все объяснения антинаучны.
– Вот-вот, антинаучно, – проворчал Литвинов. – Раз вы и сами признаёте, то это…
– Снова – безнравственно? Ну, я себя не навязываю. Люди просят – я им помогаю. Жаль, сейчас нельзя привести живой пример.
– Ваших старых клиентов, надо понимать, успешно похоронили, – перевёл на понятный язык Свешников, – а новых живых ещё поди найди.
– Именно, именно! – хохоча, согласился Бецалин. – Дмитрий, дорогой, вы будете моим первым пациентом в Германии.
Подождав, пока оживление утихнет, Дмитрий Алексеевич снова обратился к Бецалину:
– У меня, к слову, возник неприлично серьёзный вопрос, который сейчас обсуждать скучно, а задать надо, пока помню. Жаль будет, если пропадёт. За ответом же, если позволите, я могу прийти и в другой раз. Меня вот что заинтересовало: больной приходит к вам, к врачу, вы видите его состояние и представляете, как будет развиваться недуг, назначаете процедуры, уколы, сопровождая это магическими пассами – так вот, делаете ли вы это даже и в тяжёлых случаях спокойно, равнодушно, как, например, маляр красит сарай, не представляя себе будущую замечательную усадьбу, в строительство которой вносит свою лепту, а только видя квадратные метры досок, по которым надо поводить кистью, или же вы, решая, что внушить жертве, какое лечение назначить да и назначать ли, не упиваетесь ли при этом своею властью над беззащитным существом?
– Это не всем интересно, – одёрнула мужа Раиса.
– Вообще, часты ли у врачей переживания по этому поводу? – продолжил он.
– Вы, по-моему, чересчур увлеклись: это же тема для серьёзного исследования – и диссертацию можно написать, и, если угодно, эпопею. Я могу ответить только за одного себя: бывает и так и этак, и если пациент капризничает да не очень-то и болен, вот тогда, в самом деле, если и не вспоминаешь о своей полной власти над ним, то всё же чувствуешь внутри что-то вроде щекотки.
– Мол, не поднатужиться ли посильней обычного – и конец капризам?
– Наверно, так, но об этом не думаешь словами, а только, я сказал, ёжишься.
– От щекотки – смеются, – поправил Свешников. – В том числе пациенты.
– Вы и в Германии собираетесь… смешить? – невнятной скороговоркой, делавшей речь пренебрежительной, спросила, глядя в сторону, Раиса и узнала из осторожного ответа Альберта, что, конечно, и в Германии – старыми анекдотами, потому что новым неоткуда взяться, и что если она всё-таки имеет в виду работу, то в его возрасте и с его знанием языка не стоит питать иллюзий.
– Необязательно же… – пробасил Литвинов.
И Бецалин согласился, что да, было необязательно, но среди чересчур законопослушных немцев лучше вести себя по-другому.
– Знакомых это пусть не волнует, – продолжил он. – Я же говорил: чуть что – вызывайте. Тем более что мне и форму нельзя терять, и бездельничать неохота. Вот вы, Рая, разве сумели бы просидеть целый день сложа руки?
Та замешкалась, решая, какими словами лучше сказать, что сумеет, и её опередила Литвинова:
– Да у какой хозяйки есть такая возможность? Дом, муж… Помните – немецкие три «к»: Kiiche, Kinder, Kirche? Для нас Kinder, правда, отпадают. Кстати, Рая, как это вы оставили сына там одного?
– Не навек же: он приедет. Окончит институт – и приедет. Как раз хватит времени, чтобы разобраться с личными делами. Конечно, лучше было бы закончить образование уже здесь, я именно так и планировала, но вмешался, что называется, человеческий фактор: я не сумела оторвать его от подружки. Я, честно говоря, не была готова, не ожидала, что это у них серьёзно.
– Она еврейка? – живо спросила Алла.
– Конечно.
Дмитрий Алексеевич подумал, что сам в такой беседе никогда не поинтересовался бы, русская ли. А на месте Раисы – не ответил бы «конечно». Для него тут ничего само собою не разумелось, но и ничто не имело значения. Ему и раньше, в незапамятные времена, когда он только раздумывал, жениться ли на Раисе, нет ли, даже тогда не приходили в голову ни такие «конечно», ни оправдания с провинциальными оговорками; обращать внимание следовало бы совсем на другое – на что он тоже не обратил. Теперь об этом «другом», придумав аллегорию, пристало бы рассказать пасынку, чтобы тот не погорячился в своём романе, буде таковой назреет, не промахнулся бы так, как он сам. Впрочем, ему трудно было понять, ответствен ли он – не по закону, а перед совестью и Богом – за Алика. Больше того, он не знал, ответствен ли за женщину, снова считающуюся его женой.
– Вышли же вы за русского, – вдруг донеслось сказанное Аллой Раисе, и он подосадовал, что, отвлёкшись на считаные секунды и пропустив несколько фраз, не может ответить на что-то, очевидно уничижительное; пришлось сделать вид, что это пролетело мимо ушей. «Впредь не расслабляйтесь, господин, – сказал он себе. – Вот, подшучивали над интеллигентскими кухоньками – извольте отведать кухонь коммунальных. Скучно, однако».
* * *
Всяк по-своему переносит пересечение часовых поясов или замену зимнего времени летним; иным, говорят, нипочём и перелёт из Москвы на Камчатку. И только новичку в эмиграции, независимо от крепости организма, неизменно бывает нелегко смириться с переводом стрелок: даже и обходясь пока старым заводом и храня в уме известную двух-, а то и восьмичасовую поправку, он всё равно больше не понимает, в каком времени живёт оставленная страна. Эта непрочувствованная разница оказывается так велика, что помыслам друзей, до сих пор зимующих на старых местах, становится теперь возможным совпасть с его собственными помыслами разве лишь в каком-нибудь абсолютном времени из учебника, текущем себе далеко за пределами самого живого воображения. Оттого-то с переходом границы бывшего Советского государства так заметно меняются речи: например, наш герой сразу заметил, что на новом месте никто не заводит политических споров, без коих невозможно себе представить беседу даже и в самом глухом уголке бывшей империи хотя бы двух россиян. Время, по старинному определению, это – пространство в бытии; отдалившись в нём на упомянутые часы, уже не отличишь одну от другой мелкие фигурки на доске (не станем называть для примера их имена – всё равно они забудутся ещё при жизни пешек, и мы, заменив их любыми другими, не нарушим игры; не сохранится, следовательно, и доли хотя бы какого-нибудь интереса к их суете).
Жизнь наша, правда, беспокойна по природе и, позволив отщепенцу отвыкнуть от мелочных, кухонных прений, скоро втянет его в новые, более строгие, принявшись предъявлять из того же далека одну войну за другой; он, однако, уже не посмеет судить о них с прежним вдохновением, более не зная чужих склонностей и общих тайн и не понимая, чем чреваты ходы, сделанные в мировой игре дилетантами.
Удивительно было, что новоиспечённые эмигранты не заводили речей ни о цензуре, ни об антисемитизме в России, ни о сильной руке, ни о страхе перед милицией, ко всему прочему ещё и распустившей бандитов, ни о власти, старой или новой, – ни о чём, за что обычно поносили и старую и новую власть. Было несказанным удовольствием забыть эту тему – они думали, что навсегда. На диване в вестибюле её вытесняли другие, более насущные и приятные женской части общества, но вот мужчины, трое, провели целый день в поездке и не удостоили политику ни словом – и слава Богу, потому что обращения к ней в нашем пёстром народе приводят только к ссорам.
Истина рождается в спорах только лишь с единомышленниками, и в нашем случае основной трудностью стало распознавать оных среди свежих лиц, угадывая, кто левый, кто правый – притом что эти понятия самым неожиданным образом смешались при перемене в России строя и бывшие левые стали называться правыми – и наоборот, а некоторые остались как были. Даже и новое окружение Дмитрия Алексеевича, составленное из людей, сбежавших от советской власти, то есть будто бы объединённых одной идеей, и то было неоднородно: судя по нынешним речам Бецалина, он не жаловал не только вчерашнюю, уничтоженную власть, но и вообще никакую, зато Литвинов во время мечтаний о ректорстве был, разумеется, верным коммунистом и, привыкнув подводить под свои педагогические изыскания марксистскую базу, вряд ли за вольные последние годы научился разговаривать с теми, кого раньше клеймил с кафедры; беспартийный Дмитрий Алексеевич предпочёл бы объясняться с ним на эсперанто. Но сегодня, в недолгой дороге, наши путешественники хорошо понимали друг друга, найдя, что обсудить и кроме чужих дел, уже потерявших для них остроту: нынешняя их затея казалась непростой, и если дома они только посмеялись бы над своей озабоченностью, то в Германии, где каждый из них чувствовал себя не в своей тарелке, им везде чудились сложности.
Поезд отходил в седьмом часу, и Свешников, кажется, ждал в такую рань полного безлюдья на улицах, однако народ по пути попадался не реже, чем днём (а днём – почти не попадался); куда можно было спешить в городке, лишённом и очевидных фабрик или мастерских, и товарной станции, и учебных заведений, кроме школы, – оставалось загадкой. В школе же свет ещё не горел, и всё-таки у входа уже притормозил какой-то автомобиль; солидный мужчина в костюме и безумном галстуке, выведя из машины мальчика, поставил того у запертых школьных дверей – и помчался на свою загадочную службу.
Дмитрий Алексеевич, которому уже дважды пришлось ездить по железной дороге в опекавшее эмигрантов ведомство, всё не мог привыкнуть к прыти немецких поездов, наотрез не желавших, отходя, ползти вдоль перрона (чтобы провожающие могли долго бежать вдогонку, заглядывая в окна и размахивая на прощанье синими платочками), а сразу набиравших скорость, словно легковые машины; в его стране техника была хороша только военная, и он даже позлорадствовал, когда здешняя резвость оказалась ни к чему и на первой же пересадке пришлось потерять почти два часа (на что Бецалин ворчливо заметил: «Уж расписание-то мы могли бы изучить и не зная языка»).
О месте, куда они ехали, Свешников ещё раньше слышал в нечаянном разговоре нечто нелестное: «город средней приятности» – и, не ожидая теперь красот, смотрел в окно почти без вдохновения; там же пока плыл скромный пейзаж – поля, деревушки, страшного вида брошенные заводики. Город возник внезапно, без окраин: разом восстали построенные в ряды жилые дома, мелькнули три-четыре неопределённых начала поперечных улиц, и через минуту состав уже остановился в дебаркадере вокзала.
Пристанционные кварталы были так себе, поспешной послевоенной застройки, но Дмитрий Алексеевич из вагона успел заметить в разрыве и кое-что другое: внушительное, тёмного камня, старинное здание, в каком пристало бы размещаться музею, университету или суду; это был оперный театр. Примерно в ту сторону им и пришлось направиться, с единственной задержкою для покупки плана города. Как раз с этим, с картой, им и не повезло: у книжного киоска совсем не по-немецки тесно столпились какие-то лишние люди, глазевшие снаружи, через витрину, на врача, склонившегося над лежащей на полу продавщицей. Наша компания остановилась в нерешительности поодаль, и когда Дмитрий Алексеевич тоже посмотрел на бликующее стекло, то увидел лишь отражения знакомых фигур; его удивило, насколько спутники выглядели крупнее него. Литвинов был мешковат, Бецалин – крепок, но громоздок, а сам он – поджар. «Упитанный, однако, пошёл беженец из нищего Союза, – подумал он и вдруг резко оборвал сам себя: – Ничего себе интеллектуальное занятие – сравнивать животы. Поистине, кидая камешки в воду, считай круги».
– Придётся действовать путём опроса местного населения, – бодро предложил Бецалин.
Дмитрий Алексеевич многозначительно хмыкнул: до отъезда из Москвы он успел усвоить из поспешных, урывками занятий новым языком одни числительные да формулы вежливости и мог бы объясниться с аборигенами, пожалуй, лишь жестами. До сих пор он считал, что любой предмет можно изучить без посторонней помощи, но тут она потребовалась на первых же шагах. Вычитав в самом начале учебника, что в немецком нужно произносить «шпорт», «штудент» и «штадион», Свешников, ухмыльнувшись, решил, будто понял что-то не так, и захотел хотя бы какой-нибудь срочной консультации; между тем многие в его окружении знали только английский или, кое-кто, французский язык, так что мгновенной помощи он не получил – ис облегчением бросил занятия, освободив время для привычной работы.
Знания Литвинова, как тот поспешно признался, находились примерно на том же уровне. Бецалин, учивший немецкий и в школе, и в институте и, видимо, способный хотя бы спросить на улице, который час, на их фоне выглядел классным переводчиком; на него и была вся надежда. Известно, однако, что советские учебные заведения никого языкам не научали, так что у нашей тройки имелись все основания усомниться в успехе предприятия. Опасения не оправдались лишь благодаря совершенно неожиданной отзывчивости прохожих: стоило назвать улицу, как те, перебивая друг друга, пускались в объяснения; иные даже рисовали схемки, а последний, оставив собственных попутчиков, проводил за угол и там – до конца квартала, где уже оставалось лишь показать рукой.
Нужный номер красовался на скромной будке, родной сестре знакомых всем троим заводских проходных – не связанной, тем не менее, ни с какими оградами: всякий мог обойти её стороной. За ней в глубине двора стояли две панельные, вполне хрущёвские пятиэтажки с одинаковыми надписями на глухих торцах: «Отель». За окном будки Дмитрий Алексеевич разглядел дремлющего портье, но будить того уже не имело смысла, потому что где-то рядом вдруг послышалась русская речь.
У ближайшего подъезда, наполовину скрытые вечнозелёным кустом, разговаривали женщины – одна, уже привычно для глаза Свешникова, одетая в брюки, тёплую куртку и кроссовки, но вторая – в туфельках на каблуке, в длинном пальто, из-за такой одежды будто бы высокая и стройная. Оглянувшись на звук шагов, она оборвала начатую фразу, всмотрелась, прищурившись, и вдруг бросилась навстречу идущим.
– Мария! – ахнул Дмитрий Алексеевич.
Они расцеловались; впрочем, ему пришлось напрячься, внушая себе, что это не розыгрыш, не сон и не помрачение, а что он обнимает ту самую Марию, которую потерял в Москве несколько лет назад. Губы, почувствовавшие незнакомый вкус, будто бы обманывали его: кожа показалась мягкой и податливой, какая бывает у немолодых ухоженных женщин – но не такая ведь была у прежней неё. Но та и не плакала на улице.
– Так вот почему он настаивал, чтобы мы поехали без жён, – в сторону, Бецалину, но так, что слышали все, сказал Литвинов.
– В самом деле, – засмеялся тот. – С одним примечанием: настаивала как раз его жена.
– Кто бы мог подумать? – не слушая их, а вглядываясь в лицо Марии – узнавая и нет, – проговорил Дмитрий Алексеевич. – Как я искал тебя там!
– Тебе просто не повезло, – ласково сказала она – так, словно тогда потерялась нечаянно. – Кто-нибудь должен был сказать тебе. Я давно здесь.
– С дочерью?
Она сжала губы.
– Мы успеем наговориться потом, – проговорил Дмитрий Алексеевич.
– Тут разминуться трудно. Ты что, живёшь прямо в этом хайме?
– Пока и не в этом городе. Пока. Но уже известно, что нас повезут именно сюда, и мы – вот целый отряд послан на разведку – приглядываемся к здешним общежитиям, чтобы знать, за что бороться и не угодить в трущобу.
– Бороться надо отвыкать, мы уже не в Союзе, а трущоб здесь нет, но, пожалуй, вы, господа, угадали: этот хайм как раз получше. На мой вкус. Я сама угодила в другой. А твои спутники…
Спутников, лишь сейчас наскоро представленных, интересовало, похоже, только дело. Что ж, Мария была в этом доме своим человеком и вызвалась проводить их внутрь.
В здании, из пяти подъездов которого два принадлежали отелю, а остальные – общежитию эмигрантов, в планировке не было ничего гостиничного – ни номеров, выходящих в коридоры, ни самих коридоров, а только обычные квартиры, по три на лестничной площадке. Мария постучалась в первую же, на первом этаже. Открывшая дверь девочка лет пятнадцати не поторопилась впустить незнакомцев.
– Это, Катенька, новые жильцы.
– К нам?
В голосе девочки прозвучало такое огорчение, что Мария рассмеялась:
– Нет, не к вам, милая, и не сейчас. Люди просто хотят иметь представление о вашем доме, – и, повернувшись к мужчинам, объяснила: – Катя с мамой пока блаженствуют одни в квартире и, понятно, не мечтают о соседях.
Девочка с матерью занимали крошечную, метров в шесть, комнатку; разместить здесь две обычные кровати было бы невозможно, и вместо них стояла основательная двухэтажная – совсем неподходящая для женской спальни; Дмитрий Алексеевич тотчас нашёл, что из таких хорошо громоздить баррикады, а кто-то из его спутников определил: «нары», хотя это сооружение не походило и на нары. Обставленная, с двумя холодильниками, но тёмная кухня тоже не вызвала восторга. Вместе с тем Свешников, как, видимо, и его партнёры, ожидал худшего.
– Можно жить, – не без удивления заключил Литвинов.
– Временно, – уточнил Бецалин. – Если уж ложиться на нары, так лишь на срок.
– Шуточки у вас, Альберт…
«Вот и она так живёт», – подумал Дмитрий Алексеевич, увидевший в показанной ему каморке всё же не камеру, а железнодорожное купе, какое может послужить приютом лишь несколько суток – беспокойных для пассажира, выучившего, что отстать можно и от всякого поезда. И думал он не о тех же материях, что спутники, а о Марии, и первые из этих мыслей вполне банально и ошибочно относились к тесноте мира, снова сведшей его с этой женщиной; ошибка здесь таилась в том, что как раз в тесном мире, в одном городе, в одной бочке, где сельди набиты так, что и головы не повернуть, именно там и не узнать, кто расположился в соседнем ряду, не повстречать, а разминуться в толкучке с кем-то родным, да и просто знакомым, и только в малолюдном мире, где видно вдаль так хорошо, что никто не проскачет на горизонте незамеченным, только там и возможны самые невероятные встречи.
Будто бы ни с того ни с сего он забеспокоился, что теперь, когда важные нити вдруг так чудесно сошлись в одной точке, случится какая-нибудь подлость – и даже доподлинно знал какая: его направят в другой город, пусть и соседствующий с этим, и он потеряет Марию снова.
– На всякий случай, – нервно сказал он, перебивая какое-то её объяснение, – мало ли что может произойти… Напиши мне свой адрес.
Всё же теперь, какие бы отношения ни установились с Марией, он мог не бояться одиночества, зная, что где-то здесь живёт близкий человек – в этом незначительном городе, вмиг похорошевшем (но ведь и погода разыгралась к случаю, и солнце светило вовсю), особенно после того, как Мария вызвалась немного прогуляться со всей компанией. Прогулка, впрочем, преследовала вполне практические цели: Марии просто пора было вернуться домой, но и её провожатые таким манером приближались к вокзалу.
Путь снова лежал через центр – совсем не лучшую часть города, на повторный взгляд москвича Свешникова походившую именно на окраину. Напротив старинной ратуши расположился откровенный пустырь, за ним – панельная пятиэтажка, какие и в Москве стеснялись строить в старых пределах, а рядом с массивным столетним зданием универмага явно не на месте разлеглась площадь. Глаз повсюду натыкался на неоправданные пустоты или, напротив, на чужеродные включения, и Свешников напрасно искал тут систему, пока не сообразил, что разрушенные в войну старинные кварталы местные власти и не собирались восстанавливать, воспроизводя прежний облик, а, без разбору снося развалины, строили на освободившихся местах что попало, то есть – социалистический светлый город из зыбких коробок, либо не строили ничего. Задумавшись и оттого приотстав, Дмитрий Алексеевич огляделся, постаравшись не замечать этих коробок, и вдруг понял, как выглядело это место в сорок пятом году: россыпь обгорелого кирпича и полдюжины торчащих из неё остовов – романской колокольни, ратуши, универмага, мрачной башни неясного назначения, вокзала и театра.
– Митя! – спохватилась Мария. – Что с тобой?
– Осваиваюсь с городскими видами, – улыбнулся он, всё же не пускаясь вдогонку.
– Ну, это успеешь. Выучишь каждый камешек наизусть, и город (ну что за город – как в старом анекдоте – двести тысяч народу?) надоест хуже горькой редьки. А потом – ничего, привыкнешь.
Надо было идти дальше, но мужчины, решив перекусить, звали в ближайшую пивную (имея в виду захваченные с собою бутерброды); Мария, в свою очередь, приглашала к себе. Последнего Дмитрий Алексеевич не хотел никак с чужими людьми, но и питейных заведений что-то не попадалось по пути.
– Летом откроются несколько, на свежем воздухе, – неуверенно сказала женщина.
– Осталось недолго, – обнадёжил Бецалин. – Только что ж это за Германия – без пива?
– А это не Германия, – ответила Мария. – Это ГДР.
В представлении москвича Свешникова пивные были одним из главных атрибутов немецких городов: без них будто бы никак не могли обойтись бюргеры, которым всякий вечер следовало бы проводить за доброй кружкой, за одним и тем же столом, в одной и той же компании, однако он так и не увидел, где бы это могло происходить. Немногие крохотные ресторанчики явно не годились для мужских сборищ, и на подозрении у Дмитрия Алексеевича осталось лишь заведение, обосновавшееся на центральной улице под скромным именем буфета. Единственное окно там было зашторено, а заглянуть внутрь, чтобы сразу же выйти, ему показалось неудобным; не удалось ему и понаблюдать за посетителями, входящими и выходящими: можно было подумать, что эта дверь не открывалась никогда. Правда, и любые другие наблюдения над местными обывателями дались бы с трудом: городок вечерами вымирал – не только на тротуарах не оставалось ни души, но и, что удивляло больше всего, огни в окнах, казалось, можно было пересчитать по пальцам. Когда однажды Свешников с Раисой вздумали пройтись в центр, то за время полуторачасовой прогулки, начавшейся, когда не пробило и девяти, им встретились только молодая пара, подкатившая на машине к своему дому, да респектабельный господин, которого вывел из дому старый английский бульдог.
О собаке вспомнилось, как видно, неспроста: не прошло и пары минут, как она попалась навстречу – не та, но точно такая же, только без поводка и с другим хозяином, знакомым Марии, – маленьким пожилым человеком в русской ушанке и с длинным шарфом, живописно повязанным поверх пальто. Пёс подбежал к Марии ласкаться.
– Мы приехали в Германию в один день, – сказала она о встреченном человеке.








