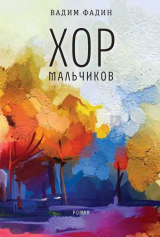
Текст книги "Хор мальчиков"
Автор книги: Вадим Фадин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«Дорогой Митя, – написал в Германию Свешников, всё-таки ощущавший неудобство от невозможности позвонить, – вот уж не думал, что мы с тобой окажемся по разные стороны – нет, не линии фронта или баррикад, упаси Боже, – но некой, ещё вчера неодолимой, черты. Самое странное здесь не то, что мы вдруг зажили порознь, а то, что упомянутый водораздел неожиданно оказался пересечён простым смертным, к тому же – посвящённым в тайны. Как недавно мы почти гордились принадлежностью к этим посвящённым! Присущая им недозволенность перемещений в пространстве выглядела едва ли не привилегией и как бы даже подразумевалась сама собою – во всяком случае, мы принимали правила игры. К счастью, ничто не вечно, и вот уже и я готов пуститься по твоим следам. К бегству располагает не один твой отчаянный пример, но даже и погода: сегодня холодно, промозгло, в башмаках хлюпает вода, и собаки, жалея хозяев, не просятся на двор, а терпят, бедные.
Да, я почти готов, почти – потому что до сих пор не улучил времени, чтобы педантично подсчитать все плюсы и минусы, на бегу же мысль скачет, не давая ни помечтать, ни без спешки, со вкусом поторговаться с самим собою – забывая, что выбора всё-таки нет.
Нет и спокойствия. Чтобы перестать попусту волноваться, мне нужно бы убедить себя, пусть и через кого-нибудь, что наконец сбывается давнишняя мечта и мне, когда сбудется, больше ничего не потребуется ни от людей, ни от властей. Я уже решил было сделать это в переписке с тобой, что вышло бы естественней прочих ходов, и с этим и приступил к письму, приступил – и, перечтя предыдущую фразу, с ужасом обнаружил, что у меня получается что-то вроде предсмертного слова. Нет уж, спасибо, я подожду. А жаль, это была редкая возможность без ложной занимательности, а именно с нужным для дела занудством изложить свои соображения, все pro и contra, затронув такие сложные материи, как предательство родины, предательство родиной, тоска по ней же и прочая и прочая. Отступив же от предсмертного (или посмертного?) слова, не остаётся другого, кроме как поинтересоваться ценами на картошку.
И в самом деле, на душе было бы легче, знай я подробности предстоящей дороги и заграничного быта, необходимые для меня, чтобы поверить, что жизнь есть и на Марсе. В этом смысле интересно всё: и чем может заняться на Неметчине наш брат, и много ли там этого брата, и как к нему относятся туземцы, и на каком боку оные спят. И ещё одно неизвестное: таможня, которой побаиваюсь и о которой подумываю с неприязнью. Не собираясь провозить контрабанду, я, тем не менее, страшусь досмотра – последнего унижения, какое сможет причинить советская власть – или что там от неё осталось. Говорили, что уезжающим приходится предъявлять все свои природные отверстия, сколько у кого найдётся. Имея в виду чрезмерность придирок, хотелось бы подвергнуться означенной процедуре где-нибудь поближе к дому, в аэропорту, зная, что в нескольких шагах, за тонкой перегородкой стоят друзья и другие провожающие, способные в случае чего помочь хотя бы звонком своим союзникам. Мой предполагаемый багаж (книги, книги!), однако, слишком велик для самолёта, и я, получается, поеду, как и ты, на поезде, чтобы далеко от Москвы в одиночку предстать перед белорусскими крестьянами в униформах. Представь только: вот они придрались к чему-то, я в растерянности стою над распотрошённым чемоданом, а поезд… а поезд ушёл!
Знание подробностей, конечно, ничего физически не изменит, зато, надеюсь, приструнив мою фантазию, улучшит самочувствие. А чтобы умерить твою – нет, не фантазию, которой несвойственно же обращаться в прошлое, а ностальгию, опишу тебе свежую сценку. Нынешним утром, когда я интересовался кое-какими товарами в киоске, юный громила с бычьей шеей, задумавший переброситься с продавцом парой слов, попросту отодвинул меня от окошка, как пустую этажерку. Моего возмущения он решил не заметить – к счастью, потому что честные люди теперь ничто и перед такими вот бритоголовыми младенцами в центнер весом, и перед милицией. Мне повезло, что рядом не оказалось милиционера, потому что, обратись я к нему за помощью, ещё неизвестно, кого из нас избили бы в участке. Нет, не так: понятно, кого из нас избили бы.
Представь себе, я послушно подвинулся!
И вот я, живущий в унижении, расспрашиваю тебя о пустяках. Казалось бы, что они мне на общем бедном фоне? Но я буду рад любому твоему рассказу. По логике вещей, он укрепит моё решение (жить частичкой толпы и дальше или почувствовать себя независимой личностью?), за что я тебе заранее благодарен. Потому и прощаюсь с тобой так, как в семидесятых прощались бегущие из Союза евреи: в будущем году – в Иерусалиме!
Обнимаю. Твой Митя»
Перечтя написанное, Дмитрий Алексеевич, озадаченный собственным многословием и где-то позаимствованным стилем, подумал, что вряд ли наговорил бы столько в устной беседе, тем более что не представлял себе, с кем можно обсудить столь важную тему – нес Раисой же. Друзья, остававшиеся жить в Москве, при всём желании не могли быстро проникнуться его тревогами и ожиданиями, и ему приходилось только ждать ответа от другого, будто бы уехавшего в Германию, Свешникова, не любителя, как известно, писать письма. Тот, однако, ответил с немецкой обязательностью.
«Здравствуй, Митя! – прочёл Дмитрий Алексеевич. – Получение твоего письма меня приятно удивило – в том смысле что опровергло упорные слухи о несостоятельности российской почты. Впрочем, в обратную, в вашу сторону письма и впрямь не доходят: говорят, будто любознательные почтальоны вскрывают их на предмет поисков заграничных ассигнаций, а потом выбрасывают на помойку. Я, на всякий случай, воспользовался оказией. Представь себе, наш брат не упускает возможности навестить покинутые было родные места. Недаром сегодняшнюю эмиграцию прозвали бархатной. Понятие границы таким образом приобрело неожиданный смысл, и можно считать, что мы с тобой очутились не по разные её стороны, а всего лишь, если говорить на более близком нам обоим языке, на разных координатных осях одной всё-таки системы. Что для меня «икс», то для тебя «игрек», и не стоит искать на графике некую общую точку, которую принято обозначать «и кратким». Наверно, поэтому мне непонятны твои колебания: собираясь переломить судьбу, ты озабочен ценой на картошку. Уезжают из страны не те, кого гонит жажда странствий, а те, кому стало в ней невмоготу, то есть люди убеждённые; прочим, с их интеллигентскими рефлексиями, лучше сидеть дома.
И последнее: я совсем не понял твоего неожиданного пожелания встречи в Израиле. Я не хочу иметь ничего общего с этой страной, пытающейся устроить у себя нечто вроде коммунизма и вдобавок постоянно воюющей. Ты меня знаешь как старого антисоветчика – и этим всё сказано.
Кланяйся всем нашим знакомым.
Дмитрий»
Глава седьмая
Детство Литвинова прошло вдали от русской столицы, и он никак не мог бы ненароком повстречать на улице своего сановного однофамильца; да он и не ведал о существовании того. Впервые фамилия бывшего наркома попалась ему на глаза в старой газете уже в студенческие годы; подивившись и призадумавшись, он вывел, что это неспроста и что нужно поискать и другие совпадения. Между тем даже узнать самое простое – откуда тот родом, было негде, так что не удалось и немедленно взять его в родственники. Единственным итогом робких литвиновских изысканий стало географическое открытие личного масштаба: он обнаружил на карте две интересные ему, он назвал бы – семейные, точки: город Литвинов, затаившийся между Сыктывкаром и Котласом, и мыс Литвинова на Северной Земле; ни тот ни другой не походили на места, откуда мог произойти хотя бы кто-нибудь (вспомнив о Ломоносове и поколебавшись, он поправился: кто-нибудь годный для советской карьеры). Выходило, что использовать имя не удастся; последний шанс был упущен, видимо, при поступлении в институт: выбери он дипломатическое поприще – и тогда не избежать было бы расспросов осведомлённых коллег (не из той ли самой он семьи, не наследствен ли его интерес к иностранным делам), на которые можно было бы отвечать с выгодною неопределённостью: нет, но… Скромная эта недоговорённость могла бы отозваться нечаянными поблажками и новыми связями, однако теперь об этом оставалось только запоздало гадать и сожалеть; он выбрал совсем другую профессию, и за всё время работы, вплоть до нынешних дней, когда уже и до пенсии осталось всего ничего, никто не спросил, что он за Литвинов. Даже и жена в своё время не поинтересовалась, по неведению, а сам он так и не узнал, что нарком пользовался псевдонимом.
Фантазируя на тему родства и смиряясь с очевидной неудачей, Литвинов пришёл к утешительному выводу, что, выиграй он теперь, этим бы всё и ограничилось, потому что обычно и выигрыш бывает единичен, и выигравший – одинок. Успев порадоваться открытому закону и себе, открывателю, он, увы, скоро вспомнил, что не так давно слышал нечто подобное по радио и что с ним это не первый такой случай: ему уже приходилось удивляться неприятному свойству своей памяти, часто опаздывавшей предъявить доказательства того, что иные его замечательные соображения суть чужие, ненароком подхваченные на ходу либо вычитанные мысли. Попав раз-другой впросак, он потом старался избегать разговоров на сложные темы – не всегда успешно. Однажды, будто бы придумав нечто категорическое – «победу повторить нельзя» – и опечалившись открытием, он в споре едва не выдал мысль за свою, но не успел: оппонент привёл фразу как цитату. Впрочем, в этот раз установление авторства его не задело, оттого что он и в самом деле затосковал от осознания упомянутой невозможности – тем более что сам никогда никого не побеждал, а если бы такое и случилось, то обидно было бы сознавать, что вот, победил – и больше уже ничего нельзя сделать, или: победил – и ничего не поправишь. Его победа сразу же ушла бы в прошлое, как и всякие победы других, так что на неё уже не осталось бы надежды, без которой разве можно жить?
Происходило это – то есть пришлось к слову – в мае, в дни празднования нашей победы, когда особенно очевидно было, что во времени остаются лишь годовщины и юбилеи.
Торжество было всенародным, а значит, и он, Литвинов, был причастен – и отмечал, конечно. В домашних стенах все праздники выглядели одинаково: собирались друзья, или родственники, или коллеги, и беседа текла легко, оттого что можно было и от души выпить, и грамотно закусить (он следил, чтобы вино и еда сочетались как родные, чтобы получался «ансамбль»), и снисходительно поглядывать в окошко на праздную толпу внизу, которой только и оставалось что метаться туда-сюда по главной улице, не обещающей удовольствий, и радоваться тому, что тебя самого не заманили на эти так называемые народные гулянья и что ты тоже победил.
Кто-то замечал, что жизнь состоит из череды поражений, и Михаилу Борисовичу тотчас хотелось доказать обратное, что – из побед; трудность заключалась в том, что он не знал, какая и над кем или чем станет следующей. Сроки её, во всяком случае, отодвигались – погоду в мире, как водится, предсказывали неверно – и, оттого что на каждом углу теперь раздавались бесполезные призывы к ускорению жизни, он, желавший оную, напротив, придержать, не поспел за событиями. Когда другие давно осознали перемены, у него только ещё зародилось смутное предчувствие – незнамо чего, только не катастрофы; ему самому было бы интересно узнать, что же такое он заподозрил – не то, что потом случилось. Он ждал вещей скверных, но не настолько – не краха устоев и устава.
Объявление гласности поначалу показалось ему всего лишь досадным недоразумением, очередною глупостью, с которой придётся какое-то время мириться – но не более того. Недоразумение, однако, прижилось, быстренько пустив корни, и кроме общих бед привело к тому, что работа Литвинова стала ненужной. Отныне он больше не мог преподавать свой предмет – основы марксизма-ленинизма, который сегодня будто бы вызывал сомнения, а партии, исповедовавшей ленинизм, впору стало уйти в подполье – той самой партии, которая в течение всей жизни Михаила Борисовича не просто существовала на свете и не просто царила в государстве, но сама была больше, чем государство: не частью чего-то, а – всем. Этому всему он и служил, не безвозмездно, и если кое-кто находил в общественном устройстве некие странности, то промысел Литвинова в том и заключался, чтобы, в чём-то даже соглашаясь с критическими голосами, доказывать, что эти очевидные огрехи не только не губительны, но определяют верный путь к благоденствию. Теперь же всё устройство переменилось, следование по старому пути открыто назвали преступлением, и Михаилу Борисовичу пришлось переквалифицироваться: даже не подготовить новый курс, а уйти из университета. В деньгах он не потерял – приспособился читать другие лекции в другом месте, – но будущее лишилось определённости.
Именно тогда его жена задумала отъезд, вернее, наконец позволила себе высказать перезревшее желание; раньше, в их тучные времена, заговаривать об этом было бесполезно – настолько-то она знала своего мужа. «Конечно, в Израиль», – ответила она на его сердитый вопрос, тоже сердито, потому что выбора, кажется, не было: все знали, как трудно подать документы в американское посольство, а о других странах известно было мало – возможно, они и не принимали эмигрантов. Ответа на второй сердитый вопрос – о том, чем там придётся заниматься её мужу, – Алла и подавно не знала: тем же, очевидно, что и всем уехавшим до них, – только, разумеется, не пересказывать дряхлые сочинения вождя.
– Я могу, я согласна, я буду делать там всё что угодно, – заявила она. – Мыть посуду.
– А я не буду, не хочу. Неужели я напрасно лез из кожи вон, пробивая диссертацию, заработал на этом инфаркт…
– К счастью, нет.
– Да, да, к счастью, обошлось, хотя ты ведь знаешь, что я был на грани. И, как ты понимаешь, мне совсем не хотелось бы всё же заработать его в твоей посудомойке или на другой чёрной работе, а так как других вариантов, разумеется, не возникнет, то что же – сидеть на твоей шее? Вдобавок там чудовищно жарко. Наконец, там неспокойно – если не война, то её постоянная угроза.
– Замечательная страна: оазис в пустыне. Там всё возможно.
– О да, там даже вывели кубические помидоры – чтобы удобно было складывать в ящики. А всё ж – не кубические яйца.
Ещё недавно Литвинов если и говорил своим слушателям об Израиле, то непременно – с презрительной едкостью, как то и требовалось от лояльного лектора; его позиция наверняка была оценена наверху – и потом ему, со всеми его заработанными баллами и галочками в отчётах, стыдно было бы сообщить на своей кафедре об отъезде – именно в страну, которую он только что так удобно клеймил. В этом он находил что-то противоестественное – точнее, говорил себе так, чтобы не пришлось признаться, что побаивается реакции коллег: безо всякого удовольствия думал, как они воспримут его заявление, потому что точно знал как. Ему и самому прежде приходилось выслушивать несмелые объяснения решившихся на отъезд, а потом стыдить их потерей родины (не испытывая неудобств от сознания того, что и сам, не двигаясь с места, фактически потерял свою), и обвинять в предательстве – зная, что никто не возразит.
Пока он колебался, вариант с обетованной страной отпал: еврейских эмигрантов начала принимать Германия, и Алла возликовала: ты хотел в Европу, так вот она, – и ему уже нельзя было привести прежние доводы, а новые не приходили в голову: растерявшись, он не мог сообразить, нужны ли они теперь. Эту новость жена принесла в праздник Победы, и он, озадаченный известием, не сумел немедленно высказаться ни за, ни против, а только невпопад пробормотал, кивнув на телевизор, показывающий нечто красное:
– Пойми, что это не повторится.
– Не понравится – вернёмся.
– Я говорю о Победе.
Она готова была разрыдаться.
И тут объявили минуту молчания.
То, что Михаил Борисович собирался объяснить жене тотчас, не имело никакого смысла произносить после такой паузы: даже веские слова, не сказанные вовремя, потом мало кто слышит. Должные означать решение, они тогда звучат как попытка оправдаться.
* * *
Разлука близких – к счастью, к несчастью ли, но это было не о нём, опасавшемся теперь как раз обратного. Несколько лет Дмитрий Алексеевич, словно изрядной неприятности, ждал от жены требования оформить развод, что, как нам известно, не могло повлиять на устройство его жизни, зато вовлекло бы во многие неприятные процедуры – от ожиданий под тусклыми дверьми, сочинения прошений и беготни за справками до объяснения с судьёй, – и просьба Раисы о свидании расстроила его; речь у них между тем пошла совсем о другом, и угроза открылась с неожиданной стороны: ему предлагали играть позабытую роль мужа – один Бог знает, как долго. Произнеся, правда, в ответ что-то вразумительное, он в действительности в первый момент растерялся, оттого что прежде всерьёз не примерял к себе подобных поворотов, а во второй – заподозрил ловушку: Раиса была не из тех, кто поступается удобствами ради помощи ближнему, а значит, и здесь предполагала корысть для себя и, для симметрии, ущерб партнёру. Худшим из ущербов виделось возобновление супружеских отношений – препятствие, обойти которое было никак нельзя, а только – надеяться, что всё устроится как бы само собою (наивно постаравшись запомнить её слова: «Жить вместе никто не заставит, приедем – разберёмся»); он и надеялся, и почти три года, пока ждал вызова из Германии, отгонял мысли об этом предмете, а потом вдруг оказалось, что и думать уже некогда: вот их комната и вот – двуспальная кровать.
– В пансионатах ставили односпальные, – преждевременно заметил Свешников.
– Ты недоволен, – решила Раиса.
– Это обязывает, – объяснил он, не смея напомнить об уговоре не доходить до крайностей, так легко доставшемся в Москве.
– Какие теперь обязательства? Всё, приехали: заграница. Поезд дальше не идёт.
Заграница между тем успела переместиться, сегодня обнаружившись в России.
– Иностранцев просят освободить вагоны, – продолжала она, безуспешно роясь в чемодане в поисках ночной рубашки и раздражаясь. – Ты ведь этого хотел?
– Я и в Москве был для кого-то иностранцем, – проговорил Дмитрий Алексеевич, подумав – и утаив, что из-за своей здесь ненужности стал таковым для самого себя.
– Глубокая мысль. Только мне сейчас не до твоего юмора: как бы не рухнуть просто на пол. С этой дурацкой пересадкой… В Союзе – и то я не ночевала на вокзалах.
– И весь день на ногах. Ты вынесла это геройски.
О себе Дмитрий Алексеевич подумал, что при нынешнем вдохновении его хватило бы, пожалуй, на осмотр и ещё одного подобного местечка: он чувствовал себя сбывшимся путешественником – и был почти счастлив. Новое пришлось ему по душе – и старые камни монастыря, и розы в палисадниках, и обед в кафе, и парк, разбитый на холмах. Это ощущение было, конечно, недолговечным – игрушечный городок можно было выучить наизусть за какую-нибудь неделю, других же предметов не предвиделось, – но пока Свешникову не хватало ещё чего-то до полноты картины, и, не будь с ним Раисы, он не усидел бы в помещении, а отправился бродить по ночным улицам – вполне, впрочем, сознавая, что тротуары будут безлюдны, окна плотно зашторены и только в каком-нибудь крохотном кафе соберётся обычная компания – всё те же самые господин аптекарь и другие. Но он не мог в первый же вечер оставить женщину одну.
Сомнения оказались напрасными: Раиса заснула, едва коснувшись подушки. Дмитрий Алексеевич теперь волен был делать до утра что угодно, однако минутный запал прошёл, и ему стало одинаково скучно и сидеть подле жены, и вожделеть ночной жизни немецкой провинции; мысли невольно вернулись к бессонной прошлой ночи, и он, всё еще считая, что не утомился, осторожно прилёг рядом с Раисой. Как и она, Свешников мгновенно провалился в сон, но – недолгий: соблазнённый близостью женского тела, он придвинулся вплотную, обнял – и это вдруг оказалось всего лишь сновидением: пробудившись в тревоге, он обнаружил себя лежащим на краешке кровати, особняком. Он и потом то и дело просыпался из-за боязни, нарушив границу, незримо разделившую общее ложе, дотронуться до другого человека – последствия представлялись ужасными. Убедившись, что всё в порядке, он скоро засыпал снова, успевая только сказать самому себе в насмешку, мол, что ты за герой, если не берёшь женщину, лежащую в твоей постели, – даже, возможно, и не успевая, а встречаясь с этой дразнилкой уже в новом сновидении: неспроста же за нею так и не последовало оправданий.
Утром семье предстояло вместе с новыми знакомыми, товарищами по счастью либо несчастью, ехать в соседний город, чтобы, как по-солдатски выразился Бецалин, «стать на довольствие». Будильник завели на ранний час, и всё же Дмитрий Алексеевич проснулся до звонка и долго пролежал, глядя в широкое голое окно и видя там только ровную, не тревожимую рассветом темноту. Снаружи не доносилось ни звука, но и в комнате не слышалось даже дыхания Раисы: она спала, укрывшись с головой; очертаний тела под одеялом не угадывалось, да там, как убеждал себя Свешников, и не скрывалось ничего соблазнительного.
Едва он спустил ноги на пол, как Раиса всполошилась:
– Что, что? Ты куда? Который час? Дождь перестал?
– Отвечать по порядку, выборочно или – на вопрос вопросом: как спалось?
– Ещё как! Такое впечатление, будто мне это удалось впервые в жизни.
– Сон свободного человека с чистой совестью.
– Второе сомнительно, – засмеялась она. – Ах да, «на свободу – с чистой совестью», но я бы не решилась настаивать.
– Тем не менее можешь поваляться еще с полчасика. Дождя, кстати, не было.
– Можешь и ты.
– Нас сегодня ждут великие дела.
– Сам себе противоречишь: у свободного человека не должно быть обязанностей.
– Именно это я и хотел подчеркнуть, – проговорил он, не слишком искренне, оттого что вдруг додумался до очевидного: полная свобода есть конец всего.
– Всегда ты вывернешься!
Он тоже считал, что вывернулся и сейчас – всё ж не обольщаясь, а помня, что происшествия нашей жизни часто оказываются замечательны не сами по себе, но лишь как причины других происшествий – последующих и, особенно даже предыдущих, обойдённых было вниманием рассеянных наблюдателей, нас, и только в результате нынешнего приключения приобретших какую-то ценность. Поначалу, пока упомянутое событие ещё не случилось, мало кто замечает тянущиеся из нашего времени в другое нити, ниточки, паутинки, хотя всем известно, что пророчества и простейшая ворожба начинаются не сейчас, а в своём будущем; вот и дальняя дорога, казённый дом и бубновый интерес ищутся в завтрашних днях, где же ещё, а в настоящем существуют лишь атрибуты цыганского ремесла: раскрытая ладонь, карты, пропавший кошелёк да кофейная гуща.
Дмитрия Алексеевича словно озарило: когда-то давно был ему сон, столь в то время незначительный, что вылетел из головы чуть ли не до пробуждения, а потом и подавно не вспоминался, так и пропал бы, если б Раиса случайно не повторила использованные там слова. Ему приснилось, что, придя вечером домой, он нашёл постель приготовленной, а в ней, вернее – на ней, поверх одеяла, ожидающую его Раису – в соответствии с задуманным сюжетом, конечно, обнажённую и будто бы только что получившую удовлетворение; он запаниковал, решив, что если она забеременела, то виновника не сыщешь и, значит, придётся жениться; он не забыл, что она и без того жена ему, но это ни от чего не спасало, напротив, один брак, помноженный на другой, новый – на старый, не удваивал, а удесятерял беду. Какие-то люди набежали с советами, и в их гомоне послышалась подсказка: сочинить такую компьютерную программу, чтобы в любом уравнении брак на брак всегда давал ноль. Тут Раиса и воскликнула с досадой: «Всегда-то ты выкрутишься!»
* * *
Быт устроился неожиданно просто. То, что называли пугающим словом лагерь, оказалось если и не пансионатом, то всё ж неплохим общежитием, и призрак палаток среди ноябрьского размокшего поля отлетел, бледнея, незнамо куда; остальное на этом фоне выглядело так буднично, что как бы и разумелось само собою: и до супермаркета было рукой подать, только спустись с горки, и общая, на пол-этажа, кухня была даже слишком просторна для трёх наличных семей, и в стенном шкафу нашлось достаточно разной посуды, столовой и кухонной, чтобы прожить, не распаковывая багажа, в этом временном убежище и неделю, и месяц, сколько угодно, если только не звать гостей, о которых подумала, конечно, Раиса, но не Свешников, не надеявшийся скоро найти здесь общество по вкусу; воспользовавшись всем этим, они уже в первый вечер поужинали дома не кое-как, а за удобно накрытым столом, чему Дмитрий Алексеевич всегда придавал значение. Одинокая жизнь давно опротивела бы ему или он бы одичал, не установи для себя строгих правил, не позволявших, например, приниматься за еду неодетым или пренебрегать салфетками. С другой стороны, при нужде – в командировках или туристских вылазках – он мог обходиться и какою-нибудь обжигающей жестяной кружкой, а вместо скатерти – газетой, не только не удручаясь этим, но и находя особый вкус.
В общежитии трудно держаться особняком, и если Свешниковы никого пока не ждали к себе, то скоро оказались приглашены сами. Дмитрий Алексеевич, поколебавшись, идти ли (разве мог кто-нибудь принудить его, свободного теперь человека?), всё же не посмел отказаться, да ему и любопытно было. Званы же они с Раисой были – к Литвиновым.
Посиделки в вестибюле и посиделки в комнате пока ещё не могли, на взгляд Дмитрия Алексеевича, разниться между собою, разве что – исключением каких-то лишних слушателей; не верилось, чтобы за прожитое здесь ничтожное время кому-то удалось бы выделить – нелишних, найдя с ними общие темы. Скорее всего, и нынешней беседе предстояло плескаться в пределах начальных биографий с отступлениями в сторону устройства детей, преодолённых трудностей карьеры – и преувеличения заслуг. Нечто в этом роде он уже выслушал от каждого на общих сходках и теперь готовился к тому же, но в более пространном изложении; словом, он предвидел скучный вечер и подумывал, не воодушевиться ли заранее стаканчиком водки, чтобы и дамы стали милее, и умнее – мужи.
С водкой не получилось из-за невозможности улизнуть в магазин в одиночку. Туда пришлось отправиться вместе с Раисой – тоже за бутылкой, только иной строгости: не с пустыми же руками являться на… теперь он назвал это вечеринкой. В Москве случайный знакомый просвещал его: в Германии найдётся вино и за две марки, и за одну, но то, что можно пить без ущерба для достоинства, должно стоить дороже по меньшей мере четырёх. Перед прилавком глаза Дмитрия Алексеевича разбежались из-за обилия незнакомых названий, и он уже собрался было взять что-нибудь наугад, как всё же углядел знакомое слово; бутылка бордосского вина стоила как раз пятёрку, и он не понимал, дорого это для него или нет, смущаясь и переводом цены в рубли, и тем, что может вот так, запросто покупать бордо или бургундское, этакие атрибуты сладкой жизни, известные по переводным романам. «Вот за этим я и ехал?» – посмеялся он, соглашаясь, что и за этим тоже.
Из других гостей у Литвиновых был только Бецалин. «Вот, значит, какой предлагается альянс, – подумал Дмитрий Алексеевич. – Инженеров с матерью-одиночкой побоку, прораба с шофёром – тем более. Посмотрим, что за элита – оставшиеся». Прорабом он назвал человека, представившегося директором стройтреста, шофёром – того, кто будто бы командовал большой автобазой; его уже мало забавлял разгаданный с самого начала маскарад. Потеряв интерес к разоблачениям, Дмитрий Алексеевич, однако, то и дело вспоминал читанный в отрочестве английский роман, в котором контрразведчик искал шпиона в маленьком городке, населённом рабочими военного завода. Тому либо повезло, либо помогла интуиция, только он сразу попал в нужный круг, где все оказались не теми, за кого себя выдавали – не только шпионами всё ж, – но были так активны, что герою быстро удалось вычислить, кто есть кто. Свешников не надеялся, что добьётся таких же успехов, оттого что в его случае действующим лицам как раз действовать и было заказано, и афиша с расписанием ролей могла зря провисеть до конца сезона.
– Господа отдыхающие, – поклонился из своего угла Бецалин.
– Всё хочу спросить, где вы достали путёвку, – поинтересовался Свешников.
– Вы уже забыли, как это делалось?
– Как сказала одна актриса епископу.
– Что-то в этом роде. Но мне, видимо, повезло чисто случайно. Кто-то ведь выигрывает и в лотерее. Знаете, я иногда думаю: лучше бы уж – в лотерее.
– Неужто успели так соскучиться?
– Не успел. Но – предвижу. Новизна испарится, придётся сравнивать, вспоминать. Не знаю, в чью пользу выйдет. Львов – это, что ни говори, не Чебоксары.
– Не Чебоксары, – согласился Свешников. – Лемберг, если я не ошибаюсь.
– Надо же что вспомнили!
– Красивый город. И девушки хороши как нигде.
– Смешение рас, – объяснил Бецалин. – Мадьяры, поляки, хохлы и прочие греки.
– Как у нас здесь, – сказала Алла. – Кто только не едет под видом евреев.
– Вроде меня, – помог ей Дмитрий Алексеевич.
– Да нет, – смешалась она. – Я сказала: под видом. Вы-то не прикидываетесь.
– Как вы любите уводить разговор! – всплеснул руками Бецалин. – Едва мы начали…
–.. говорить о прекрасном, – подсказал Свешников.
– Дмитрий Алексеевич прав: во Львове – как нигде. Вы согласны, Алла?
Литвиновы, однако, во Львове не бывали, больше того, выяснилось, что и они, и Бецалин только и видели на свете, каждый, что свой родной город, черноморские курорты да Москву, то есть, на вкус Свешникова, почти ничего и не видели; на этом фоне сам он выглядел бывалым землепроходцем. Озадаченный такой нелюбозна-тельностью, он неуверенно пробормотал, что не всё потеряно и у них многое впереди – и Ленинград, и Памир, и тот же Львов, и Киев.
– Ну, поезд ушёл, – махнул рукой Литвинов. – Не ездить же в Союз туристом!
– Не зарекайтесь, – проговорил Дмитрий Алексеевич. – Мало ли что нам с вами заблагорассудится – недаром Альберт упомянул лотерею. В Германии, конечно, другие соблазны, можно повидать мировые столицы – это была несбыточная мечта! Повидаете – и это-то запомнится навсегда. Сказано же: Париж – праздник, который всегда с тобой.
– Для кого праздник, а…
– А как назвать то, где протекали будни? Которые всегда с тобой.
– Эх, не вышло из вас законченных патриотов, – заметил Бецалин. – Недовоспитали.
– К счастью, – произнёс Свешников, припомнив два случая, очевидцем которых был несколько лет назад. – Я помню чудовищные образцы.








