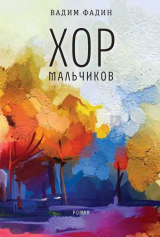
Текст книги "Хор мальчиков"
Автор книги: Вадим Фадин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Знаете, о путном обычно молчат, чтобы не плодить конкурентов, не то как раз нужные вам билеты и расхватают. Пока могу сказать одно: нужно попасть на «Апокалипсис».
– Да, да, – согласился он, – я тоже прослышал, что это, кажется, гвоздь сезона… У меня тоже найдётся, что вам посоветовать: «Репетиция оркестра». Я ухитрился посмотреть её раньше и очень хочу повторить сейчас. Есть же книги, которые, даже зная наизусть, перечитываешь снова.
– Пересматривать кино – это уже роскошь. Разве что сразу не во всём разберёшься…
– «Репетиция»-то понятна, это будто бы прозрачная сатира, но дело совсем в другом…
Она недоверчиво повела плечами, и Свешников поспешил переменить тему:
– Конечно, после нынешних трёх картин подряд трудно представить себе, будто что-то можно смотреть по второму разу. Я, честно говоря, устал.
– Мало же вам нужно. Не боитесь признаваться женщине в слабости?
– Тороплюсь, пока вы не узнали о ней от посторонних, – отшутился он. – И раз уж я признался, давайте, если вы не против, зайдём куда-нибудь выпить – хотя бы кофе.
Что ж, Раиса была не против, и он, перебрав в памяти немногие подходящие места, предложил: тут всего пара остановок на троллейбусе… Погода была хорошая, и они пошли пешком. Свешников уже забыл, когда в последний раз вот так, не спеша, прогуливался с женщиной; ему пришло в голову, что прохожие принимают их за супружескую пару – во всяком случае, не подозревают в нём в его-то сорок три года донжуана. Сам же он чувствовал себя юношей, способным на озорство, – и ходи по этой улице, как и было когда-то, трамваи с открытыми площадками, непременно побежал бы догонять и вскочил на ходу. Раиса, скорее всего, сочла б его сумасшедшим, и неизвестно, стал ли бы он, не имеющий на этот счёт определённого мнения, спорить.
Дорога до кафе показалась ему пристойно долгой, и потом, когда они, сидя лицом к лицу, ждали заказ, у Дмитрия Алексеевича тоже нашлось довольно времени, чтобы без суеты и спешки разглядеть свою новую знакомую, решая для себя: привлекательна ли она или всё ж дурна, что оказалось не совсем просто, потому что красавицей он её никак не назвал бы, но ведь обратил же внимание, остановил зачем-то на лестнице (теперь допуская, впрочем, что сделал это не потому, что она как-то особенно ему приглянулась, а совершенно машинально, с той лёгкостью, с какою холостяки заводят разговоры с встречными незнакомками) – и не успел решить. Как-то так получилось, что вскоре, – он не запомнил перехода, – время неожиданно пустилось вскачь, кое-где, быть может, даже и нечестно перепрыгивая через часок-другой, что, кстати, допускалось об эту же пору в старину: Пётр и Павел час убавил… Дмитрий Алексеевич вдруг обнаружил, что и кафе давно оставлено ими и прогулка закончилась: темнело, и дорога завела в тупик, вернее, во двор в одном из Кисловских переулков (он всегда их путал, Малый со Средним, Средний – с Нижним), где, оказывается, жила его спутница – в одиноко стоящем в глубине этого провинциального дворика старом двухэтажном доме.
– Экий особняк, – неловко проговорил Свешников, и Раиса уточнила: коммунальный.
Она присела на что-то, показавшееся Свешникову поленницей, и он напрягся, приготовившись услышать грохот рассыпающихся дров. Ничего подобного, однако, не произошло, и коли традиционного приглашения на чашку чая ждать, видимо, не приходилось, Свешников, осторожно (не рухнет ли?) примостившись рядом, обнял женщину за плечи. «Не станем же мы, как подростки, целоваться на этой чёртовой кладке», – подумал он, хотя ничего другого, видимо, и не оставалось. Придумывая способ достойно завершить начавшуюся возню, Дмитрий Алексеевич суетливо прикидывал, не стоит ли зазвать Раису сейчас к себе, – и выходило, что нет, не в его правилах было впускать в дом попавшихся на улице девиц, пусть и способных здраво судить о прелестях синема; по его мнению, куда проще было бы пойти сейчас к ней, благо до дверей оставалось всего ничего, пара шагов. Ему не приходило в голову, что у неё могут иметься точно такие же правила в отношении незнакомых мужчин. В итоге он не произнёс ни слова, и оттого что пришлось ещё какое-то время провести во дворе, на сей раз дальше целования коленок дело не пошло. Дмитрий Алексеевич, натурально, не был доволен сопротивлением, но, распрощавшись, по мере приближения к своему дому испытывал всё большее удовольствие от того, что не связался с женщиной, готовой отдаться в первый же день. «Собственно, всё сорвалось из-за этих дурацких ящиков – какая приключилась бы пошлость! И хорош бы я был, если б меня как мальчишку застукали на этом штабеле», – думал он, радостно ухватываясь за свою оговорку: конечно, на ящиках, – какие теперь могут быть дрова?
Тем не менее номер её телефона всё же был у него аккуратно (насколько позволила темнота) записан на использованном сегодня билете в кино. Дома, в древней развалюхе, у неё аппарата, разумеется, не было, и она велела звонить на службу:
– Не вызывай по имени, у меня там есть тёзки – и не одна. Моя фамилия Кулагина.
Записав, он задумчиво повторил: «Раиса Кулагина», – найдя в таком сочетании непозволительную эклектику. Она объяснила, смеясь:
– Девичья фамилия от первого брака.
– А до него?
– До него я носила менее благородную, но звучную: Сацкая. В школе меня дразнили…
– Царица Сацкая? – перебивая, предположил он в утешение.
– Считаешь, не стоило менять?
– Ни в коем случае. Представь, ты познакомилась бы с художником: какой шанс для него – написать «Автопортрет с Сацкой на коленях»!
– Ты рисуешь?
– Медведь на кисточку наступил. Черчу, если угодно.
– За какие грехи мне такое наказание? Один инвалид за другим.
«Давненько я так не загуливал», – войдя в метро, подумал Свешников с некоторым неудовольствием из-за того, что пробездельничал весь день, чего обыкновенно себе не позволял даже и на каникулах; тем более остался он недоволен и новым знакомством. «Неловко вспоминать. Дурацкое мальчишество», – пронеслась мысль, столь сейчас важная, что он повторил её несколько раз как заклинание. Вдруг спохватившись – не вырвалось ли это вслух, – он поднял голову, но вагон был пуст, лишь рядом с ним сидел глухонемой и, глядя на своё отражение в тёмном стекле, разговаривал жестами сам с собою.
* * *
Чего можно ждать от родившегося в понедельник? Дмитрий Алексеевич ответил бы: неудач. Между тем его самого оные вовсе не преследовали, напротив, на работе дела шли как нельзя лучше, так что до известных событий в стране он, по советском меркам, преуспевал, и лишь то, что скучно называют личной жизнью, у него не складывалось: первый брак не выдержал и года, да и второй оказался не намного счастливее, хотя продлился, если судить по бумагам, полтора десятилетия. Но, к слову, о бумагах: написанному в них бывалые люди советуют верить с оглядкой или даже не верить вовсе, особенно в нынешней России, где любой, хотя бы и сдобренный гербовой печатью и высокой подписью бланк можно запросто купить в переходах метро у молодых людей с честными глазами, а затем и вписать туда всё что угодно душе. Свешников таких бланков не покупал, и если всё ж его документы не соответствовали истинному положению вещей, то лишь потому, что как-то недосуг было, да он и ленился при каждом повороте судьбы переделывать их подобающим образом. Поэтому-то в его паспорте и значилось, что он женат на гражданке Кулагиной Раисе Ильиничне, с которой в действительности не жил уже много лет. Разошлись они так, что не только не получилось скандала, но и отношения не прервались окончательно, и если каждый зажил теперь отдельно, а видеться не было особой нужды, то ведь существовал телефон; на расстоянии выносить друг друга оказалось легче, делить стало нечего, и то ли поэтому, то ли из-за вечной занятости обоих, заставлявшей откладывать и откладывать неприятную процедуру развода, дело до неё так и не дошло.
Это-то в конце концов и перевернуло жизнь Дмитрия Алексеевича; как он надеялся – в лучшую сторону.
Между тем, соблазнившись удовольствием известить об этой перемене, мы забежали вперёд, тогда как иному читателю, возможно, понадобится выяснить две противоположно заряжённые вещи: отчего это Дмитрий Алексеевич, человек, как известно автору, самодостаточный и в только что описанный нами день ещё не переставший скучать по своей первой жене (что заставляет усомниться в новой любви с одного, утомлённого кинематографом взгляда), отчего это он решился на второй брак и отчего потом в этом браке разочаровался. Что же, скорое его решение жениться многие объяснят тем, что занятому человеку быстро надоедает неустроенный быт, ответ же на другой вопрос, как теперь, подражая инженерам, говорят даже и гуманитарии, неоднозначен, и нам пока довольно будет, не сравнивая версий, упомянуть, что для Дмитрия Алексеевича разочарование началось ещё до заключения брака, а именно в день, когда, пережив пристойное время ухаживания, он наконец зазвал Раису в гости.
Надо признать, что начало положил всё-таки не он: провожая однажды свою подругу, он вдруг удостоился как бы вскользь брошенного приглашения на ту самую чашку чаю, которую уже перестал ждать. Видимо, подразумевалось, что он вежливо откажется, но Дмитрий Алексеевич, напротив, согласился с неприличной поспешностью. Раиса, мимолётно пожав плечами, предупредила с усмешкою, чтобы он не пугался, но Свешников, давно подготовленный внешностью постройки, воспринял и темноту на лестнице, и затхлый запах, и торчащие углы невидимой рухляди как должное.
Знакомый с московскими коммуналками, он ожидал и дальнейшего убожества, однако само жильё приятно его удивило, оказавшись двумя вовсе не бедными комнатами; одна из них – просторная, но густо обставленная, а вторая – сущая каморка, скорее всего, переделанная из чулана, – выглядели они ничуть не хуже комнат в любых других московских домах: современная мебель, хрустальные, великоватые для таких помещений (особенно – для каморки) люстры, телевизор с большим экраном; чуть позже обнаружился хрустальный светильник и в ванной. Сервант и горка были набиты посудой – так плотно, что та, не умещаясь внутри, выползала и на открытые плоскости; изобилие сервизов снаружи и сдержало на какое-то время развитие отношений нашей пары. Когда Свешников на ходу обнял Раису, она не воспротивилась, но стоило ему проявить чуть больше интереса, отбежала за стол, призывая таким образом и его побегать по кругу. Первым делом он подумал, что подобные игры сорокалетней пары по меньшей мере смешны, если не мерзки, а через секунду сообразил и то, что без ущерба для сервизов здесь была бы невозможна никакая беготня. «Ну не последняя тарелка разбилась бы, тут на два поколения хватит», – сказал он себе, попутно отмечая, что фарфор выставлен не из дешёвых, хотя и аляповат, и что помещение вообще изобилует дорогими импортными вещами, и, выводя, что только этими двумя признаками – высокой ценой и заграничным происхождением, будто бы способными гарантировать качество, – тут и руководствовались при покупках. («Но как в наше время возможно вообще что-нибудь купить? – с недоумением подумал он. – Даже если некуда девать деньги».) Впрочем, все эти размышления занимали его уже по дороге домой, когда он силился понять, как с выставленными в комнатах добротными, что ни говори, предметами сочетается висящая в красном углу дикая фотография из тех, что делают на рынках в глухомани, заставляя наивного клиента так просовывать голову в овальную дырку в центре намалёванной декорации, чтобы его лицо оказывалось принадлежащим то срисованному с коробки папирос всаднику в бурке на фоне снежной горы, то лётчику в истребителе, то балерине на пуантах в обнимку с тигром; на этой – детская физиономия оживляла фигуру охотника, гладящего косулю («В таком контексте наверняка – дикую лань, – поправился Дмитрий Алексеевич. – О вкусах, согласен, не спорят, да только вкусов много, а безвкусица – одна»).
Заодно припомнил он и удачно втиснутые в простенок подле кухни книжные полки с многотомными собраниями, за какими четверть века назад охотились ради престижа даже и нечитающие люди и какие доставались лишь по большому знакомству.
В этот раз всё так и ограничилось чаем, на который Дмитрий Алексеевич, собственно, и был зван; обижаться не приходилось, но на случай ответного визита он заготовил иную программу, согласно которой события и стали развиваться, начиная от той минуты, когда Раиса наконец переступила порог, и кончая той, когда ей пришлось, поднявшись с ложа, пойти в ванную. С интересом посмотрев вослед, Свешников неприятно удивился неаппетитно-сти её обнажённого тела – отсутствию талии и плоскому заду, – так от этого заскучав, что потом все попытки женщины снова расшевелить его оказались напрасными; утром он, конечно, взял своё, но это было уже не то, не так, да и некий червячок завёлся в душе.
Свой легко объяснимый конфуз Дмитрий Алексеевич простил себе тотчас, но его оскорблённая подруга – лишь месяца через два; во всяком случае, именно столько они не виделись: женщина под изящными предлогами отказывала в свиданиях, а он не упорствовал, только радуясь освобождавшимся вечерам. Её поведение объяснялось им легко и верно, зато сама Раиса не догадывалась о настоящей причине неудачи: узнай она – и продолжения романа не последовало бы никогда. В действительности ж её разочарование мало-помалу забылось, а он со своим – смирился, так что когда они встретились снова, наш кавалер оказался уже на высоте. Взаимопонимание таким простейшим образом было восстановлено, и ночёвки Раисы у Дмитрия Алексеевича стали настолько частыми, что однажды будто сама собою зашла речь о переезде.
В тот зимний вечер Раиса пришла в шаровидной меховой шапке. Дмитрий Алексеевич, поразившись, какою она вдруг стала красавицей, горячо воскликнул, что убор чудо как идёт ей, – и был озадачен, когда женщина, воспротивившись комплименту, принялась шапку почти так же горячо хулить: мол, стара, бледнит её да и фасон не в моде. Не сообразив, куда клонит Раиса, он продолжал доказывать своё, пока та не сдалась, поняв, что он искренен и безнадёжен. Только тогда Дмитрий Алексеевич занялся наконец делом: приготовил даме глинтвейн, чтобы поскорее согреть с мороза, потом подал ужин, а за столом как раз и спросил, почему бы ей не переехать к нему. Тут выяснились подробности её бытия, которыми он прежде не догадался поинтересоваться.
В известном ему никудышном, зато удобно расположенном доме Раиса жила вместе с отцом, до поры пренебрегая своей кооперативной квартиркой в Конькове-Деревлёве – районе столь отдалённом, что даже Свешников, и сам обитавший примерно за такими же окраинами старой Москвы, считал его пределом географии. На московской карте имелась и другая точка, в которой сходились частые пути Раисы, – эта затерялась на другом конце города, у Речного вокзала; туда, к своей немолодой тётке, Раиса отвозила на рабочие дни ребёнка (о существовании которого Свешников не подозревал, невзирая даже на подсказку – охотника с косулей). О том, чтобы всем для удобства съехаться поближе, никто из действующих лиц не хотел слышать, тем более – отец Раисы, увлечённый идеей бегства в Землю обетованную и оттого не понимавший хлопотных перемещений – по этой.
На предложение Дмитрия Алексеевича Раиса ответила вопросом:
– Почему, ты думаешь, я не живу в Конькове?
– У меня метро в ста шагах, да ещё и машина стоит под окном, – напомнил он.
– Лучше давай разберёмся, кто чего хочет. Я навещаю тебя так часто, что боюсь надоесть. Другое дело, если ты хочешь жениться.
– Оригинально: похоже, что не я тебе, а ты делаешь мне предложение, – неловко засмеялся Дмитрий Алексеевич, смущённый тем, что Раиса, недоговорив, угадала его желание: он не столько хотел её, сколько хотел жениться всё равно на ком. – Неужели ты всегда будешь успевать высказаться первой?
– Если начнём думать одинаково.
Одинаково думать они так никогда и не стали, и расписались в загсе не потому, что не могли жить друг без друга, а увидев в браке определённое удобство, каждый – своё.
* * *
Понятно, чем были бы вещи без нас; иное дело – мы без вещей. Столь странное своё состояние вообразить непросто, ведь за века и сочинители книг как-то обошлись, кажется, без подобных фантазий, и всякое действующее в романах лицо наделено хотя бы какою-то утварью и одеждой; даже Робинзону автор, облегчая себе задачу, позволил перетаскать на остров целый корабль скарба. Настоящие писатели всегда находили особый вкус в изображении обстановки, и только литераторы попроще да газетчики с давних пор твердят, что все мы, человеки, суть рабы вещей – не призывая, однако ж, от последних отказаться и потому, что сами себе такого не пожелали б, и потому, что им было бы совершенно невозможно рассказать о последствиях подобного переворота в своих газетах, а единственно – опять-таки в романах – отдавшись во власть вымысла и только тогда и выговорив: а что это нам даст? Или иначе: когда бы, лишившись пожитков, мы, нагие, вышли из рабства – сумели бы воспользоваться свободою? Впрочем, тут не стоит дожидаться ответа: такая свобода равнялась бы жизни не в пустыне – в пустоте.
Можно не замечать отсутствия рядом с собою произведений природы – горожане и не замечают, во всяком случае, до тех пор, пока не подумают о них нарочно, книжным умом, зато пропажа вдобавок ещё и рукотворных предметов обнаружится тотчас, и можно себе представить, какая тогда поднимется тревога из-за неведения, как теперь жить. Не стоит верить модным признаниям в равнодушии, а то и презрении к вещам: гордящиеся этим как раз и бывают привязаны к ним пуще других смертных, оттого что и в самом деле, не привередничая, обходятся тем, что имеют, но при условии, что имеют – всё. Истинно равнодушных или просто спокойных почти и не сыскать: они об этих своих качествах невольно умалчивают, как и о том, что даже имея многое, способны обойтись безо всего. Дмитрий Алексеевич не склонен был, но всё же мог бы отнести себя к этим последним, хотя его безразличие выглядело далеко не совершенным: не воодушевляясь приобретением предметов (кроме книг), то есть – умножением многого, он, тем не менее, не любил расставаться с малым, если при этом рвались пусть даже ничтожные ниточки, соединявшие с кем-то или с чем-то в прошедшем времени, во времени вообще, – если история этого малого была и его собственной. Любя старые вещи, он любил свои память и родство: как пылинка на карманном ноже напомнит о дальних странах или давних странствиях, так и сам этот ножик, переходящий от отца к сыну, затем – к внуку и правнуку, не даст забыть ни о ком из цепочки – об отце, деде, прадеде, о которых, особенно если они были видными людьми, могло в силу особенных свойств нашего государства и не остаться другой памяти: обнародование иных родословных в смутные годы могло довести и до сумы, и до тюрьмы. Одни лишь старинные вещи словно бы проговаривались о каких-то сторонах прежнего бытия: вот из этого самовара пивали чаи в доме деда (сохранился и снимок, наклеенный на замечательный картон: семья за накрытым столом в саду), а эту трость с серебряным набалдашником купил на водах другой дед. О таком обычно не говорилось в семье (однажды сорвалось с языка, да разговор забылся), а сами вещи, как и положено, безмолвствовали до поры, и только при их утрате вдруг всплывало что-то с ними связанное; тогда невозможно было не сокрушаться: не уберёг, память – не уберёг.
Утрата (только ли вещей), увы, как была, так и осталась верным поводом к началу воспоминаний. Нигде о человеке не говорят между собою так много и тепло, как на его поминках, из чего можно даже вывести, что задуматься о смысле жизни только после неё и удобно, и если желающим это проверить технические трудности покажутся чрезмерными, то ведь можно для начала остановиться и на предыдущей ступени, на мыслях о смысле смерти (всё-таки – до оной), оказывающейся довольно незначительным событием на веку любого покойного из-за его неспособности повлиять больше ни на что: в том и дело, что собственную кончину утратой не назовёшь. «Удивительно, – подумал однажды Дмитрий Алексеевич, вспомнив похороны отца, – удивительно, что папа сейчас не считает свою смерть катастрофой. Тот, – думал он, – наверняка даже и в последнюю секунду, даже и в последний ничтожный миг (но не после этих секунды или мига) именно вселенским катаклизмом и считал её, как считает большинство людей на свете, впервые осознавших неизбежность потери себя». Сам Дмитрий Алексеевич – не осознал ещё, а только, надеясь на годы впереди, понимал умом. Его страшило то лишь, что, не зная отпущенного срока, он может оплошать, чего-то не успев, не доделав.
– Наверно, пора собирать, – забывшись, произнёс он вслух.
– Что собирать? – не поняла Раиса.
– Время собирать камни.
Ужиная на тесной кухоньке крохотной, хотя и состоящей из двух комнат квартиры Свешникова – ныне их общего жилища, – они толковали о переезде сюда новой хозяйки.
– Всё, чего нам не хватает, – вздохнув, отозвалась она, – это натащить сюда валунов. Верно говорят, что два переезда равны пожару.
– Мы-то задумали всего один. Равный лёгкому возгоранию. Вдобавок можно считать, что полдела уже сделано: не повезёшь же ты мебель.
– Да, здесь не повернёшься и с чемоданом. Однако надо же где-то разместить и Алика.
– Ты собиралась пока оставить его у тётки, – неуверенно напомнил Свешников, не привыкший соотносить свои намерения с существованием мальчика.
– Пока. Но всё равно же надо брать его на выходные.
Дмитрий Алексеевич подумал, что на месте Раисы жил бы вместе с сыном, вообще не обращаясь за помощью к родственникам.
– В хорошую погоду, – уточнила она. – А представь: снег, дождь, буран… Ребёнку, не высунув носа на улицу, двое суток в такой клетке не высидеть. Стоит ему повернуться – и он обязательно наткнётся на что-нибудь. Чего стоит один этот самовар…
... Тот самый, который, жестикулируя, она то и дело задевала рукою, так что Дмитрий Алексеевич всё порывался или незаметно его передвинуть, хотя и было некуда, или предложить Раисе место поудобнее, хотя настоящее, видимо, и оказалось лучшим, коли жена сразу выбрала его раз и навсегда.
– Чего стоит! – засмеялся он. – Что он может стоить: подумаешь, антиквариат, музейная редкость, штучка вдвое старше советской власти? Смотри, вот марка: «Братья Шмариновы в Туле». Он – стоит! Собственно, это лишь память. Это – память! Ещё дед чаёк попивал. Да ты видела фото.
– Ну как же: под яблоней, в собственном саду. Шикарно. Пригласить фотографа тоже, наверно, стоило не дёшево.
– Дед не последний человек был в университете. А позже – и отец.
– И мы обязаны свято хранить их скарб.
– Не так уж у меня много семейных реликвий. Куда больше сохранилось в отцовской квартире, у мачехи.
– Ты не жалеешь, что поспешил отделиться и оказался в этом курятнике?
– Мне ведь нужно где-то работать… Да и кто бы на моём месте упустил такую возможность – получить квартиру? Мы, все трое, мешали друг дружке, потому что у каждого был свой оригинальный распорядок умственных занятий, а мне вдобавок ещё и не хотелось бы предъявлять домашним всех моих подруг. Извини. После же переезда у меня неожиданно появилось много свободного времени, и я стал хоть как-то им распоряжаться – к общему удовольствию. Приходить к родным в гости (или принимать их) оказалось приятнее, чем жить вместе. А теперь… у нас с Людмилой прекрасные отношения.
Дмитрий Алексеевич запнулся, потому что «теперь» не означало «и тогда», но ему не хотелось в первые же дни открывать молодой жене все домашние секреты.
– Что у вас общего?
– Ты не знаешь, что общего может быть у членов одной семьи? Нет, конечно, у Людмилы – своя жизнь, она ведь энергичная особа, хотя и постарше пасынка, но не настолько, чтобы годиться ему в матери. Вся в трудах, в делах – её, пожалуй, знает вся художественная Москва. Я многому от неё научился.
– Завидую таким женщинам… Я часто мечтала о собственной красоте, а заодно об уме или мудрости.
– Тут важно соблюсти правильную последовательность, – серьёзно заметил он.
– Эта твоя Людмила неплохо выглядит – в её-то возрасте!
– В каком – её? Пока что она считает, будто неподобающе молода. А вкус и желание хорошо выглядеть у неё есть, быть может, и с избытком. Другого и не требуется… Она всегда была эффектной женщиной.
– Не с её ли подачи ты стараешься сохранить профессорский дух в доме?
– Отец не хотел бы видеть меня Иваном, не помнящим родства. Я, надеюсь, не стал.
Но и Раиса не причисляла себя к таким:
– Довольно неуютное чувство: в этой квартире одни экспонаты и нет ничего моего.
– Есть ты сама, – возразил Свешников, удивляясь собственному сообщению: здесь всегда пребывал один он, со своими книгами и своей памятью; те гостьи, которым случалось приходить сюда, не заботились о сохранении ни долгих следов, ни просто воспоминаний о себе, и теперь присутствие женщины, пожелавшей оставить и то и другое, казалось всего лишь плодом воображения.
Раиса между тем продолжала – то ли грустно, то ли – с непонятным ему неудовольствием:
– Всё равно что поселиться в музее: повсюду таблички с пояснениями, а в углу, на стуле сидит тётка, о которой ничего не хочется знать.
– Разве мы не говорим как раз о том, чтобы перевезти сюда твои вещи?
– Которым, кроме зубной щётки, тут не место: у них же, по твоим словам, нет истории. Щётка уже со мной.
– Собственно, история есть у всего, – неуверенно произнёс Свешников, вдруг сообразив, что же показалось ему странным в комнатах в Кисловском: вещи, выставленные там напоказ, выглядели бесхозными. – Если вовремя начать её записывать.
– Или начать выдумывать, – бросила она с азартом.
«Да полно, мы слишком увлеклись аллегориями», – сказал он, тут же про себя, себе и возразив, в том смысле, что и не аллегориями, и не увлеклись: нельзя развить в целую пьесу невзначай пророненные слова о камнях, пусть и не собственные, а цитату, мало еще понятную в стране, где с Екклесиастом знакомились по Хемингуэю.
Тема камней – он бы её развил, уже отойдя мыслью от библейских иносказаний, а имея в виду нечто осязаемое – старые камни дворцов и храмов, сохраняя которые, кто-то сохраняет себя. Это пришлось бы к месту, но он не сказал ничего подобного, боясь показаться смешным со своею дидактикой, – напрасно, хотя и говорить, видимо, было бы напрасно, оттого что Раиса, выбрав направление, решила держаться его до последнего. Предположив слабость мужа и заметно раздражаясь его ссылками на близких предков, она настаивала на простейшем: у тех, мол, была своя жизнь, а у молодожёнов настала – своя, которую преступно портить оглядками на ветхие устои; молодой жене было не понять, что эта своя могла подпортиться в ближайшее время и сама собою – именно разгаданным направлением – и что всего на третий её день не стоило бы предлагать столь простые шарады.
Расстроившись её непониманием, Свешников невольно приготовился к тому, что вот-вот – не завтра, не вскоре, а именно сию секунду, вдруг, должны открыться какие-нибудь ещё таимые до сих пор черты Раисы – нет, не те и не такие, как обнаруженные в первую ночь, с этой стороны он не только больше не ждал сюрпризов, но его теперь, можно сказать, даже устраивало некоторое несовершенство; просто он давно согласился с тем, что свойства человека никогда не распознаются все сразу, а открываются постепенно, одно за другим, и в час, когда сложится наконец полное представление, бывает уже поздно сбежать, порвать, забыть.
Их прервал звонок в дверь, и Раиса спохватилась:
– Забыла тебе сказать: обещала заглянуть Кирюшина.
Ближайшую свою подругу она всегда звала по фамилии, и это выходило так естественно, что и Дмитрий Алексеевич следовал её примеру. Он познакомился с Кирюшиной в одно из первых своих посещений дома в Кисловском переулке – столкнулся в передней с нею, уходящей, – крепко сбитой бабёнкой с неумеренным макияжем и вытравленными перекисью волосами. Закрыв за нею дверь, Раиса поторопилась спросить: «Как, стильная у меня подружка?» – на что он, на минуту восхитившись словом из своей ранней молодости, тогда означавшим высшую оценку чего бы то ни было – «стильная», – непроизвольно кивнул, хотя в его глазах бабёнка была сама вульгарность. Потом Свешников видел Кирюшину всякий раз в новом облике – то одетую вызывающе, словно пожилая проститутка, то вполне способную сойти за бедную лифтёршу. Когда наша пара подавала заявление в загс, она, приглашённая сопроводить, пришла в немыслимой кацавейке, спортивном трико и с кошёлкой, с какими ходят разве что на рынок за овощами, и этот день был у Дмитрия Алексеевича испорчен.
Сегодня она выглядела довольно прилично – как служащая из многолюдной конторы, – и Дмитрий Алексеевич, вспомнив «стильную подружку», подумал, что если в её манере одеваться и есть что-то постоянное, так это как раз отсутствие стиля.
– Да у вас пир! – воскликнула она, увидев на столе бутылку. – И музычка хороша.
– Чёрствая свадьба, – объяснил Дмитрий Алексеевич. – Осталось столько питья, что непременно что-нибудь случится.
– Так не пейте, вылейте, пожертвуйте детскому дому.
– Наша беда в том, что мы знаем меру.
Чтобы гостья села, ему пришлось встать. Чуть погодя он принёс складную табуретку.
– Первые неудобства, – заметила Кирюшина, – из многих. Придётся, хозяин, потерпеть.
– И не одно это, – согласился он, невольно возвращаясь в уме к своему холостяцкому прошлому. – Жизнь вообще чертовски неудобна.
Всё-таки кое-что ушло, он думал, навсегда; а что-то он сумел изменить, быть может, даже и к большему неудобству, кто знает, а если и к меньшему, то всё равно он бы не взял слов и дел обратно, сочтя такой удачный поворот всего лишь частным случаем, исключением, ничего не подтверждающим. Заговори он об этом вслух, кто-нибудь непременно срифмовал бы: частный – несчастный; но несчастный случай – не к ночи и не к столу, при молодой жене, будь сказано, – несчастный случай не обладает замедленным действием, уже в момент свершения не давая усомниться в творимой беде, случай же его, Свешникова, был именно частным, хотя так и не говорят в простом народе, но ведь он, один, и не был – народ. Случай уже произошёл, вмешиваться и исправлять было поздно, да и очевидцы разбрелись кто куда, не предвидя последствий, отчего виновникам и потерпевшим оставалось лишь ждать и надеяться, как ждут и надеются во всех остальных, вовсе не частных, а даже и самых общих случаях, оттого что никакой брак не раскрывает в первые минуты своих отложенных на время секретов, особенно такой брак, как этот, – не по любви и не по расчёту, а – по расчёту на любовь.








