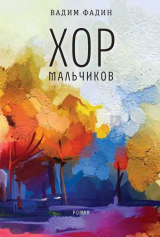
Текст книги "Хор мальчиков"
Автор книги: Вадим Фадин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Постой, постой, – насторожился Дмитрий Алексеевич. – Что же, ты предлагаешь…
– Вот именно. Небольшой переезд, не более того. Я могу тебя вывезти – понял это? Жить вместе, если уж так этого боишься, никто не заставляет, я тебя просто приглашаю в компаньоны, в попутчики – как хочешь. Главное – приехать на место, а там разберёмся. С моей стороны было бы нечестно не позвать с собой мужа: люди платят огромные деньги за фиктивные браки, а тут такая услуга задаром!
– Но там – жара, вечная война, пустыня, – сказал он первое, что пришло на ум: старые доводы самой Раисы. – У меня в таком климате не работает голова.
– Там – это где? – прищурилась она. – В Израиле мне тоже пришлось бы тяжеловато. Но сейчас евреев принимают, представь, в Европе. В Германии.
– Вот это новость!..
Первой мыслью – сразу, впрочем, отогнанной – было согласиться немедля: он всегда хотел (но «хотел» – слабое слово) увидеть, наконец, как выглядит мир по ту сторону границы.
«Да разве только – увидеть?» – робко, словно шёпотом, словно его мысли могли разгадать, возразил Дмитрий Алексеевич сам себе; в действительности он беспочвенно мечтал не прогуляться по чужим местам, а пожить если уж не в Америке, то – в любой западной стране; беспочвенно – потому, что даже планам поселиться где-нибудь в Прибалтике среди старых камней, и тем не суждено было осуществиться, оттого что там он не нашёл бы работы, какой был научен, а дождавшись пенсии, на оную не прожил бы. Любой переезд был от него так далёк, нереален, что он даже не завидовал знакомым, которые уезжали навсегда в Израиль или в Штаты… Навсегда – значило, что они пропадали для всех в этом мире: переписываться, а тем более – перезваниваться с ними было опасно, и так же опасно было и прощаться с ними на перроне, отчего малолюдные проводы казались сродни похоронам. Дмитрий Алексеевич дважды побывал на таких прощаниях (и, возвращаясь с вокзала домой, всё оглядывался, нет ли слежки), и это будто бы сошло ему, но не исчезло ощущение тревоги, с новой силой вспыхнувшее после слов Раисы.
«Разве не всякое исчезновение подобно смерти?» – задумался он. Если и впрямь подобно, тогда те, кого он когда-то проводил, умерли уже на перронах и провожавшие, не похоронив их толком, так и не узнали, вкушают ли новые эмигранты райских плодов.
Названное Раисой место назначения вызывало серьёзные сомнения не у него одного: какие чувства к немцам питали его соплеменники в военном детстве, объяснять не стоит, но и, повзрослев, Свешников не имел причин (и не выпадал случай) проникнуться к ним симпатией, даже просто приглядеться повнимательнее: эволюция противника его не трогала. Составить впечатление о ней можно было б и по книгам, но та немецкая проза, к какой он прикасался, пришлась не по душе, а коли не по душе, то он её и не читал – кроме раннего Бёлля, которым даже увлёкся.
«Кто же меня выпустит?» – сказал он про себя, а вслух, шутливо:
– Не подождать ли, пока не станут принимать англичане?
– Я пришла для серьёзного разговора.
– Кстати, об англичанах. Ни одно серьёзное дело не пойдёт, отнесись к нему без юмора, а тем более – возьмись, не подумав.
Подумать – значило, прежде всего, вспомнить о тех, от кого не приходило вестей, а потом, свыкшись с новой мыслью, ещё и представить, что теперь для оставшихся ты и сам перестанешь быть.
– Ты ведь предлагаешь улететь на Марс без возврата, ещё не зная, есть ли там жизнь, – продолжил он.
Впрочем, он не ожидал, что при чудесном исполнении мечты ему захочется дать задний ход.
– Да с возвратом, с возвратом же! Теперь не семидесятые годы, когда уезжали именно, как на Марс, без права переписки, нет, дорогой, у нас какая ни есть, а свобода, и можно кататься туда-сюда сколько влезет, а то и вернуться, если не приживёшься в гостях, и тогда уже точно – просить милостыню на Арбате. Мне, по крайней мере, показали человека, который уехал и вот уже третий раз возвращается за своими книгами, хочет перевезти всю библиотеку. Он сейчас в Москве – можешь позвонить, расспросить.
– Он – на крючке?
– Никто его за хвост не держит.
«Держит, держит, – возразил про себя Дмитрий Алексеевич, – и всё же, если она права, это хвост ящерицы, который в случае чего не жалко отбросить: убежишь – отрастёт».
– Странные времена, – проговорил он. – Где-то – бархатная революция, где-то – бархатная эмиграция.
* * *
Дошкольное детство Мити Свешникова пришлось на войну, и он, как тогда многие мальчишки, мечтал сбежать на фронт – и побеждать фашистов. Война охватила, представлял он, весь свет – и удивился, случайно услышав однажды, как взрослые люди рассказывают о каких-то странных землях, где не роют окопов, не стоят в очередях за хлебом и где вечерами на улицах горят фонари; название одной он запомнил: Америка. Теперь ему хотелось (после войны, быть может?) побывать и там – не ради добычи золота, как в старых книжках, а – посмотреть.
Но и после войны, и десятилетия спустя тем, что удалось посмотреть, были три советские республики Прибалтики, отчего до сих пор города Западной Европы в его воображении как один походили на Старую Ригу, и Германия, стоило услышать о ней, тоже представлялась собранием множества Риг, населённых чужими людьми. И если он давно уже поговаривал, что неплохо бы, выйдя на пенсию, поселиться где-нибудь на Рижском взморье, то вот ему и давали возможность.
«Возможность жить с Раисой», – уточнил Дмитрий Алексеевич и поморщился.
Раиса задала ему трудную задачу. Он не смел решить её сам, в одиночку, но и просить совета в таком деле можно было не у каждого, и даже выбрать, с кого начать (а он хотел – издалека, не с близких), тоже было непросто; он перебирал в уме имена нескольких надёжных человек – и стеснялся им позвонить, малодушно воображая, что вот-вот увидится с кем-нибудь из них случайно, просто на улице, и тогда уж, деться некуда, откроется в ожидании веского слова. Скоро он и в самом деле был награждён встречей, но – заведомо бесполезной.
На другой после разговора с Раисой день (или в тот же? – скоро стало не разобрать) Свешникову отчего-то вспомнился давнишний, ещё студенческих времён, случай: он так же, как сейчас, ехал в метро, быть может, по этой же линии, и рядом стояла прелестная девушка, черты которой он теперь забыл; тогда его словно оглушило: она показалась тою единственной, кого он был готов искать всю жизнь, а наконец встретив, без промедления помчаться вместе с ней под венец, – суженая стояла рядом, можно было бы дотянуться рукою… Сию минуту могла решиться судьба.
И всё же он не посмел просто подойти и заговорить о чём угодно – не мог, веря, что такие девушки не терпят уличных приставаний… Вот если б её перчатка, словно нарочно уже снятая с правой руки, упала на пол, вот тогда он кинулся бы поднимать, припомнив похожие сцены из старых романов, а девушка смутилась бы, оттого что в наши дни галантность стала диковинкой. Поезд между тем останавливался, а перчатка была крепко зажата в кулачке, и нужно было скорее что-нибудь сделать, выйти за девушкой из вагона, но Дмитрий не двигался, не находя, что сказать ей такого, чтобы начало вышло пристойным; на ум приходили одни пошлости. Незнакомка ступила на перрон, и теперь должно было броситься следом в надежде на ту же перчатку или на кружевной платочек, скользнувший из муфты (он пожалел, что муфт больше не существует в природе), или на любую ничтожную заминку, с какою ей не справиться было бы без посторонней помощи… Двери закрылись, девушка, оглядываясь, встретилась с Дмитрием глазами, и поезд пошёл.
Он со страхом смотрел ей в спину, а затем – на своё отражение в тёмном стекле и гадал, словно это было важно, понял ли эту сцену кто-нибудь из очевидцев, которые все были старше и, значит, мудрее его, и тогда – нашёл ли тот нечто подобное и в своём прошлом, а найдя, пожалел ли о несбывшемся, как только что – Свешников, или же, напротив, вдохновился, выйдя в город, сделать то, что долго откладывал – несусветную глупость?
Это, нелепое, ещё мог бы совершить кто угодно, только не он.
Свешникову показалось странным воспоминание об оборванном эпизоде, который, если уж не забылся за десятилетия, мог теперь тревожить до конца дней. Нынешние очевидцы, к счастью, не умели читать его мысли, и только немолодая женщина поодаль, в середине вагона, разглядывала его чересчур внимательно. «Хорошее лицо», – подумал, глядя на неё, Дмитрий Алексеевич.
Состав, выйдя из туннеля, покатился по открытому месту, и солнце, неожиданное в эту пору, щедро осветило пассажирку, заставив её зажмуриться.
– Господи, – вырвалось у Свешникова, и на него обернулись, – это же…
– Я всё смотрела, ждала, признаешь ли, – приподнимаясь навстречу, сказала Юлия.
– Не поверишь, я почувствовал твой взгляд раньше, чем обернулся… Классики назвали бы магнетизмом.
– Я сильно изменилась.
– К лучшему, – уверил он.
– A-а, со мною что ни сделается, всегда выходит – к лучшему.
«К лучшему», – повторил он про себя, не заметив в её словах усмешки, довольный, что не покривил душою: немолодая Юлия нравилась ему не меньше, чем девчонка, недолго побывшая его женою; на ту, правда, оглядывались на улице, и это поначалу льстило молодому супругу (но скоро стало раздражать), а эта, сегодня, уже не выделялась среди прочих: села на диванчик в вагоне – и никто не засмотрелся. «Даже обидно», – подумал он. Ему чего-то не хватало в её облике; пытаясь представить её в других видах: то в дублёнке, а то в купальнике, он вдруг сообразил, как нужно сказать: «Лоск, она утратила лоск!»
– Как же ты живёшь? – неловко, с нечаянным удивлением, спросил он.
– Вопреки, – ответила Юлия и рассмеялась.
– Я не о том, не нужно так переворачивать. Сейчас такое время, что не до шуток.
– Что ж, отвечу, как на анкету. Живём втроём в двушке, работу работаем недостойную, кто на какую попал, оба – не по специальности. Там, где по специальности, – там денег не выплачивают по полгода. А мы ещё на что-то надеемся: на то, что это просто полоса такая и она пройдёт. А пока – вот, подыщем дочке жениха с пропиской и с квартирой – гора с плеч. Только и это не сегодня, она ещё школьница.
– Похожа на тебя?
– На кого ж?
Свешников уныло промолчал: годы отчаянно не сходились.
– А ты – на старом месте? – угадала она.
Дмитрий Алексеевич не успел ответить, только кивнул, потому что Юлия уже поспешила к выходу. Ему же захотелось рассказать ей то, чем нагрузила его Раиса, – и не опасаться, что этот разговор пойдёт дальше: у них, скорее всего, не осталось общих знакомых. На его осторожное предложение поболтать полчасика, прежде чем снова разойтись на годы, она отозвалась с неожиданной готовностью:
– Зайдём ко мне, тут рядом, а моих не будет допоздна.
Посмотреть, как она теперь живёт, было б интересно, но он всё ж отказался:
– Лучше посидим в каком-нибудь кафешке.
«Какое-нибудь» оказалось непрезентабельным, как пригородный буфет у перрона.
Не глядя на скучную публику, Юлия прошла в дальний угол помещения, к единственному пустому столу и, едва сев, повторила:
– Выходит, ты на старом месте… Остался при своих…
Свешников ответил не сразу:
– Если говорить о деньгах, то «своих» больше нету. Их не платят. Именно на добром старом месте.
– Везде одно и то же.
– Надобно дотянуть до пенсии.
– О, раньше ты отзывался о ней с пренебрежением. Ну а мне, сам понимаешь, думать об этой манне пока рановато. Ровесники разбрелись в её ожидании кто куда: один стал охранником, другой – подсобным рабочим в гастрономе, два вообще свалили за бугор…
– Свалить – мало у кого есть такая возможность.
– Увы, можно только помечтать – так сладко…
– А ты – если б можно было, ты б уехала?
– Только бы меня и видели.
– Только бы тебя и видели, – повторил за нею Дмитрий Алексеевич, насторожившись от того, как быстро и с каким пылом произнесла это она: если уж Юля, когда-то раньше, при его друзьях, чуждая, казалось, их споров о политике ли, о свободах или о крахе деревни, если даже она теперь была настроена так решительно, ему, наверно, не стоило раздумывать. – А высадишься на том берегу, и вдруг перед тобою – те же картины?
– Ты что, не ведаешь, как плохо мы все живём? – сухо, подчёркнуто не принимая его тона, сказала Юлия. – Тут в Москве, на предприятиях, ещё недавно хотя бы выдавали то продуктовые наборы, то даже талончики на какие-нибудь кофты. А я иногда навещаю свой старый город – представляешь, какое снабжение там? Помнится, я уже рассказывала, как мы лакомились колбаской. В городе её не бывало, а только – за двадцать километров, в аэропортовском ресторане. Порции были – и задорого – пять или шесть тонких кружочков на чайном блюдце. Мы заворачивали эти ломтики в салфетку – и домой, побаловать своих. И это – несколько лет назад, когда жили всё же чуть посытнее, чем сейчас.
– Значит, за колбасой… – проговорил он, не забыв, что за лазейкой, к которой подводила его Раиса, лежит и эта приманка.
– Да, да, то и значит, – рассердилась Юлия. – Мяса мне туда было не довезти, вот колбасу и возила. Как все. Каждый хочет пожить по-человечески – естественное желание.
– Не каждому дозволено, – проворчал Дмитрий Алексеевич, робко умалчивая, что теперь дозволено может быть пусть не каждому, но как раз – ему: хорошо помня прежние правила и не зная новых, он ещё не верил в такую перемену в своей судьбе. Задуманное («Да разве уже задуманное?» – ужасался он), наверно, многим не показалось бы безобидным, и если сейчас он всего лишь не мог сказать, опрометчив будет его шаг или просто неумён, то совсем ещё недавно доброжелатели мгновенно нашли бы точный ответ: преступен. Предшественников – беглецов – известно было предостаточно, и о поступке каждого газеты щедро писали как о предательстве родины; по недолгом размышлении, правда, возникал вопрос, кто кого предал: эти люди – свою страну или она – их, по размышлении же долгом Свешников твёрдо склонялся ко второму ответу, выведя, что за границу бегут одни те, кому дома не дали стать самими собою – ни написать картину, ни сказать вслух своё слово, буде находилось что сказать (иные бежали от нищеты и унижений, но этих, отчаявшихся, понимали даже скорее), и не взять было в толк, кому же или чему изменяли эти люди, вдруг добившиеся внимания к своему таланту, едва не засушенному в гербариях Советского Союза, а теперь своим проявлением этот самый Союз только и славящему. И если таких, прославляющих отечество, считали предателями, то по этой логике патриотами оставалось называть тех, кто его позорит.
– Скорее всего, – продолжил он, – выйдет, что получишь копчёную колбасу, а годы ушли и аппетит пропал.
– При чём тут твои годы? Ты-то, ясно, не уедешь, речь – о тех, кто собрался…
«Неужели я не уеду? – огорчился он. – И что же тогда – женюсь, заново перечитаю, прежде чем распродать, свои драгоценные книги и стану изменять жене с Юлей?» Впрочем, ещё неизвестно было, чем обернётся его просьба о разрешении на выезд.
– Поделись невпопад намерениями – и ты душепро-давец, – задумчиво проговорил он. – Отнюдь не Фауст.
– Да есть ли у нас души?
Свешников не сдержал улыбки:
– Смотри-ка, ты делаешься философом.
– Иначе – не выживешь.
Он усмехнулся: всего несколько минут назад ему пришло в голову, что безъязыкому в чужой стране, где на первых порах если и удастся разговаривать, то – с самим собою, только и останется, что превратиться в философа.
* * *
Попав как-то утром на Остоженку (по ничтожному делу, но он сам вызвался, коли всё равно ехал мимо), Дмитрий Алексеевич придумал заодно зайти в какую-нибудь сберкассу – увы, не получить, а отдать деньги. Касса нашлась в начале улицы, у Пречистенских ворот, и народу внутри не было вовсе, так что уже через пару-тройку минут он снова вышел наружу, приостановившись в дверях, словно сэкономленное время давало право побездельничать, оглядывая площадь, на которой он не бывал уже так давно, что теперь в ней стоило поискать перемен, – и вдруг рассмеялся, подумав, что со стороны, наверно, похож на богача, вынесшего из банка полный портфель денег. Нет, задерживаться тут, у выхода, пусть и с пустым портфелем, было решительно неловко.
Не настолько сейчас свободный, чтобы лениво побрести по бульвару, размышляя о своей непредсказуемой судьбе, он всё же позволил себе не побежать к остановке, завидев приближающийся троллейбус, а пойти обычным шагом, лишь бы успеть к следующему.
На стрелке двух улиц его как бы невзначай догнал и засеменил сбоку некто запыхавшийся. Дмитрий Алексеевич не стал оборачиваться (но тот заговорил сам, протягивая то ли свёрточек, то ли конверт – краем глаза было не разглядеть), а когда всё-таки оглянулся, то увидел простоватого крепыша, с виноватым выражением разглядывающего пачку бумажек, стянутую аптечной резинкой.
– Это не вы обронили?
«Доллары, – удивился Свешников. – Вот бы в самом деле найти клад».
– У меня таких сроду не бывало, – сообщил он с сожалением.
– Так ведь лежало под вашими ногами… Я поторопился, не то вы бы сами и подняли.
– Что ж, кто ловчее, тот и выигрывает. Ваше счастье – этакая находка! Оставьте себе, а я – позавидую.
– Как же просто так взять? Вот так и взять?
– Мне вы именно так и предлагаете, а деньги не мои.
– Ваши, тут больше никто бы не потерял, я свидетель. Помолчав (они ждали сейчас зелёного сигнала светофора), крепыш придумал новое:
– Возле вас упало, а я поднял, так давайте, хотя бы поделимся, что ли, пополам…
– С какой стати?
На первый взгляд парень был не из тех, кто постесняется взять лишний рубль. Ему скорее было бы свойственно, подхватив бесхозные деньги, быстренько сунуть их за пазуху и смешаться с толпою. Что-то в этой сцене было не так, и Свешников, ещё не угадав развязки, торопливо бросил, отворачиваясь, потому что начался переход:
– Спасибо за предложение. Было бы нечестно с моей стороны…
Последние слова Свешников говорил уже сам себе: оглядевшись на той стороне улицы, он нигде не увидел своего доброго незнакомца.
Осадок между тем остался от всего неприятный. С ним Дмитрий Алексеевич и пошёл вечером к мачехе: ему не терпелось поговорить – нет, не об утреннем приключении, а о планах Раисы.
У отца, доживи тот до наших дней, он вряд ли стал бы спрашивать совета в таком деле – уезжать ли, – во всяком случае, не пошёл бы к нему первому, как сейчас – к мачехе. Старший Свешников, наверно, и в средние свои годы не понял бы такой дури и блажи, как желание бежать из дому, а в годы поздние – и подавно. Он вовсе не был ретроградом, напротив, в своём кругу даже слыл вольнодумцем, но сыну и теперь легко было представить, как Алексей Дмитриевич цитирует передовицу из «Правды», клеймящую очередного перебежчика как предателя Родины (именно так, с большой буквы), а сам он, младший, подтрунивает, делая вид, будто плохо понял, кто тут кого и каким образом предаёт. В настоящее время, когда дело коснулось его самого, Дмитрий Алексеевич вывернул в уме отцовские представления наизнанку, приготовившись разъяснять каждому, что как раз его, до сих пор живущего в Союзе, и предали. Сама же родина и предала: один из лучших в своём деле специалистов, он после четырёх десятков лет службы теперь был, в благодарность за терпение, унижен обещанием ничтожной пенсии, то есть скорой нищетой и бесправием.
Сюрпризов от мачехи он не ждал: разница в возрасте, и без того небольшая, теперь словно бы стёрлась, а их поколения слились – во всяком случае, оба сделались единомышленниками: и тот и другая не читали газет, любили джаз, чурались массовых акций и завидовали редким невольным (других ещё не бывало) эмигрантам. Когда из страны выслали Бродского, Людмила порадовалась за того, сказав: «Щуку бросили в реку», а когда – Солженицына, повторила то же на американский манер: «Бросили кролика в терновый куст». Она и для себя хотела примерно того же, в виде путешествия по свету, и пасынок вторил ей: увидеть Париж, Нью-Йорк!..
В молодости эти города представлялись ему островами джаза в море мировой тишины.
Поначалу, когда Людмила – а именно так, по имени и на «ты», она попросила Митю себя называть, – когда Людмила вошла в дом Свешниковых, Дмитрий долго не знал её вкусов – пока она однажды не загорелась, услыхав, что пасынок собирается, и не в первый раз, в кукольный театр, на щедро сдобренный джазом модный спектакль.
– И я хочу, – заявила она строго.
– Это всего лишь пародия, – осторожно предупредил он. – Прямо скажем, не «Гамлет».
– И поэтому ты знаешь весь текст наизусть?
– Что делать, если у меня такая память?
– И всё же… Твои ровесники, кажется, валят туда толпами.
– Преувеличение. Но и в самом деле: там – джаз, и это смешная пьеса, и сюжет – съёмки в Голливуде такого кино, какого нам не увидеть, разве только если попадётся среди трофейных… Показали же «Судьбу солдата в Америке»…
– А там – милая песенка… «Приходи ко мне, мой грустный беби», – напела Людмила.
– О, ты помнишь! «Есть у тучки светлая изнанка…»? Тогда я отвечу: конечно, все мои одноклассники, все мы повадились к Образцову, смотреть «Под шорох твоих ресниц», чтобы слушать там джаз. Запретный плод всегда сладок, только мы, уверен, любили бы его и всегда. А вот в театре: «Мисс Блокнот, какая у нас пластинка для проверки на ритм?» – «Буги-вуги “Страсть моряка”». И представь, – сейчас же играют буги! «Без задержки», – как говорит один персонаж, Маус, опрокидывая стаканчик.
– Возьмём с собой Алексея? Или ты – с девушкой?
– Вот как? Мы разве идём вместе? С тобой?! – удивился Дмитрий. – О нет, не возьмём. Он сбежит в первом же антракте. Достаточно того, что я выпрошу у него денег на билеты. Зачем доставлять человеку ещё и другие неприятности?
На музыку они смотрели всё же по-разному: она была у каждого своя, и если Людмила могла ещё и сейчас получать удовольствие от довоенных фокстротов (и у неё сохранилась целая стопка пластинок), то Дмитрия, взрослевшего во время полного запрета джаза, а потому искавшего и собиравшего его по крохе, какая-нибудь весёленькая «Рио-Рита» уже не устраивала, он знал плоды и послаще, ведь это его сверстники сочинили и напевали: «От Москвы и до Калуги все танцуют буги-вуги».
Они пошли вдвоём, и Дмитрию было жаль, что никто не видит их вместе, и Людмила была в восторге от спектакля. Спустя пару месяцев она уже шутливо жаловалась на то, что пасынок обратил её в свою веру, и он возражал, напоминая, что вера у всех одна, различны лишь обряды – и тотчас стушёвывался, опасаясь, как бы, к слову, не пошла всерьёз речь о настоящей религии: тут он попал бы впросак, оттого что не читал да и в руках не держал ещё один запретный невиданный плод – Библию; где бы он взял её, когда достойные светские книги – и те добывались с трудом?
Дмитрию как-то удавалось всё время быть при книге: читать постоянно, одну за другой, без перерыва и не что попало, а по своему выбору; объяснять такое своё везение при общем книжном голоде он не брался. Людмила не могла угнаться за ним, и тем не менее о чужих вымышленных жизнях они могли говорить на равных и чужие города знали по романам одинаково хорошо, и Париж, например, оба знали по книгам лучше близкого Ленинграда, и у каждого были в нём любимые уголки – кафе «Ротонда», стрелка Сите, ночной рынок… Им были знакомы одни и те же места в Нью-Йорке и в Лондоне, и только о немецких городах, только о Берлине у них не заходило речи, и только в Берлине Дмитрий Алексеевич до сих пор не мог представить себе ничего, ни уголка, кроме разбитого рейхстага, да помнил два не имеющих вещественного наполнения имени: Унтер-ден-Линден и Александерплац.
«Значит, разговор пойдёт ни о чём», – вывел он, поднимаясь по лестнице дома, в котором прожил свою первую четверть века.
Ему отворил рослый молодой человек – Константин, старший сын Людмилы Родионовны; тут же вышла и она.
– Давненько мы тебя не видели, – вздохнула она.
– Я и не обещал – скоро. Мы потому и не условились. А немцы, говорят, даже о родственных визитах – например, отца к сыну – договариваются чуть ли не за несколько месяцев, – сообщил Дмитрий Алексеевич то, что слышал от Раисы.
– При чём тут немцы? – возразил Константин. – Вовсе некстати.
– Никогда не спеши с выводами: под нашим зодиаком случаются даже самые невероятные вещи, – предупредил Дмитрий Алексеевич. – Но как хорошо, что ты сейчас здесь, а то я звонить хотел…
Он собирался позвонить, но позже, а с мачехой – поговорить наедине, теперь же получилось, быть может, даже лучше, так кстати образовался ещё один собеседник со своим свежим, надо надеяться, мнением. И значит, совсем кстати пришлась через минуту и бутылка виски на столе.
– Всё-таки, – улыбнулся Свешников, – здесь соблюдают ритуалы.
– Нет, – покачала головой Людмила Родионовна, – это другой случай. На сей раз у меня есть повод: я получила безумный, очень дорогой заказ. Буду оформлять квартиру некоего богатеющего юноши: для меня это неожиданная удача, её надо ловить за хвост – не дай бог, упорхнёт. И нужно выпить за успех – без этого не обойтись. Я, правда, как-то пообещала Мите чаю из японской чашки, какой у меня нет… Но вот скоро разбогатею – и Митя мне купит.
– Всё поровну, всё справедливо, – отозвался Дмитрий Алексеевич.
– Мой клиент, насколько я понимаю, бандит, – продолжила она. – Во всяком случае, он так легко расстаётся с деньгами, словно они чужие.
– Ну, знаешь, мы больше семидесяти лет прожили под бандитами и что-то не заметили, чтобы они легко расставались с нашими деньгами. А они не скрывались, мы знали их поимённо и в лицо и не путали, где свои, а где наши…
– Зато нынче не отличишь банкира от рэкетира, – заметил Константин. – Правда, это уже учли, и один умный человек придумал для них униформу: красные пиджаки.
– Выигрышное сочетание красного с чёрным: снаружи ярко, а внутри темно. Я только не поняла, кого всё-таки мы узнаём по этой форме – биржевиков или тех, других?
– Сперва стирают разницу, потом захватывают телефон, телеграф, вокзалы, мосты…
– Слушай, Люда, а это случайно не твой дизайн – эти пиджаки?.. Впрочем, я о другом. Трудность в том, что пометить хоть красной краской, хоть изотопами легко только легальный люд, но не уголовников. Я вот сегодня не распознал… Ко мне привязался один такой, неприметный, – и я с чего-то затеял интеллигентские препирания, так наивно себя повёл, что это сбило нас обоих с толку: он махнул рукой, а я до сих пор не понял, какую пьесу предстояло сыграть.
Константин, живо подавшись вперёд, попросил рассказать поподробнее. Что ж, Дмитрий Алексеевич описал утреннюю встречу в деталях, закончив тем, что заподозрил в ней какую-то пакость.
– Пакость? – рассмеялся Константин. – Да попадись ты на эту удочку, мы бы сейчас разговаривали с тобой в палате у Склифосовского. Это довольно известная уловка – странно, что ты её не знаешь. Тебя чуть не сгубило то, что ты минутой раньше выходил из сберкассы – скорее всего, с деньгами в кармане. Я знаю это место: выход виден издали как на ладони, и народ не мельтешит у дверей. Сценарий же прост: ты соглашаешься разделить со своим незнакомцем находку, а ещё лучше – берёшь всю пачку, он настаивает на этом, и тут к вам подходит какая-то компания, хотя бы ещё двое: они, мол, только что обронили где-то здесь пачку валюты – не видели ль вы случайно?.. Ты честно отвечаешь, что да, случайно, вот она, а хозяин пачки пересчитывает бумажки и говорит, что тут только половина, и не шути, мол, а выкладывай остальное. А так как остального не существует в природе и ты предъявляешь в доказательство и карманы, и портфель, то у тебя просто отбирают всё, что там найдут: то есть пошлейшим образом грабят, хорошенько избив.
– Но сегодня – среди бела дня?..
Этого он не понимал: что же, они к нему пристали бы на перекрёстке, или на бульваре, возле метро, или чуть дальше, у остановки нужного ему троллейбуса? Это были самые людные места площади, и ему просто незачем было уходить куда-то в сторону, его пришлось бы уводить силой, с шумным скандалом.
– Какая разница? Может быть, им даже лучше, если – суета, толчётся народ… Никому бы не было дела до вашей перебранки. А насчёт финальной сцены не беспокойся: чтобы поучить клиента, они, конечно, присмотрели укромное местечко. Да если бы кто и увидел, то вряд ли заступился бы: не те пошли времена.
– До сих пор я думала, что нам грех жаловаться и что когда-нибудь, вспоминая наше время, люди будут говорить: какая спокойная была у них жизнь!
– Ну, мама, ты у нас оптимистка.
Она предпочла не заметить иронии:
– Есть же и сейчас на свете тихие уголки.
Дмитрий Алексеевич, только и ждавший момента переменить разговор, поспешил воспользоваться случаем:
– Москва, выходит, не в их числе. Наверно, они где-то и сохранились, только надо хорошенько поискать.
– Мама же побывала кое-где, она же у нас самый свободный человек, – напомнил Константин. – Кстати, и я подумываю…
– Если человек свободен, ему легче избежать дурных неожиданностей: ему же позволено многое обдумать загодя, многое предусмотреть. А у нас, грешных, всё не так, и у меня, например, внезапные новости пошли полосой; иные просто ставят в тупик. Об одной такой, самой удивительной (нет, не о разбое на Пречистенке), я как раз собирался рассказать, для того и пришёл: не потешить, а посоветоваться.
– Опять криминал?
– Почти. Меня навестила законная жена.
– Да уж, событие, – согласилась Людмила Родионовна. – И что же, ей нужно денег?
– Она сделала мне предложение…
–.. расконсервировать брак?
– Нет, не то. Раиса решила уехать…
– Вот – сюрприз!
– …и зовёт меня с собой.
Дмитрий Алексеевич едва не засмеялся, наблюдая немую сцену. Он же и оборвал её:
– Заметьте, я ещё не сказал, что согласился.
– Это – не ловушка? – словно думая вслух, проговорила Людмила Родионовна.
– Уверен, что нет.
Настолько-то он знал Раису.
– Она попала в точку: ты ведь всегда мечтал о новых странах, хотя б – о Прибалтике. И куда же собралась твоя жёнушка – в Израиль или в Штаты?
– Ближе. Сейчас евреев принимает к себе Германия.
– И это – после всего, что было!..
О том же он и сам подумал в первую очередь, ещё при Раисе, – не мог не подумать о том, что с детства прочно укоренилось в сознании. Полвека назад Германия была злейшим врагом его самого и его близких и всех тех, кто встречался на свете, и если кто-то уже в наши дни уверял, что время сглаживает всё и что теперь на немецкой земле живут совсем другие люди, Свешников хмуро напоминал, что там почти в каждой, наверно, семье поминают своего погибшего на фронте фашиста. Для него самого, не помнящего войны, эта страна словно не имела собственных черт, и Европа была пространством без неё. В своих мечтах о путешествиях, называя про себя места, которые мечтал повидать: Нью-Йорк, Париж, Йеллоустоунский парк, Лондон, Дмитрий Алексеевич никогда не называл Германию; если бы тогда кто-то и спросил о ней, он бы удивился, что можно интересоваться столь тусклыми вещами.








