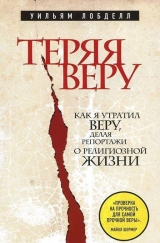
Текст книги "Теряя веру. Как я утратил веру, делая репортажи о религиозной жизни"
Автор книги: Уильям Лобделл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Ту же методичность и упорство она проявляет и в любой другой деятельности, будь то вечернее чтение сложнейших произведений классической литературы или поиск правды о Боге.
Не знаю, ставить ли себе это в заслугу или в вину, но потеря веры для Грир началась с разговоров со мной. Приходя с работы, я рассказывал ей обо всем, что видел и слышал за день, – и она слушала, разделяя со мной мой ужас, гнев и отвращение. Нескончаемый поток моих рассказов пробудил давно дремавшие в ней сомнения и заставил увидеть собственный католический опыт в новом свете. По ее словам, священники на исповеди и во время духовных наставлений многие годы запугивали ее, заставляли чувствовать себя ничтожной и постоянно в чем-то виноватой. И вдруг она узнает, что эти самые священники покрывали преступления своих собратьев-деторастлителей или сами совершали грехи куда более серьезные, чем у нее! Она начала видеть в католических священниках самых обычных людей: только принадлежащих к некоему мужскому клубу, члены которого, как почему-то считается, обладают особой силой – способны превращать хлеб и вино в буквальные Тело и Кровь Христовы – и этим якобы поставлены над всем остальным человечеством. С тех пор вера ее таяла на глазах, и очень скоро Грир перешла к «стадии гнева». Теперь она не понимала, как могут верующие оказывать глубокое почтение священнику, кем бы он ни был, просто потому, что церковь посвятила его в сан! Она злилась на то, что ее отлучили от причастия: в глазах католиков она была прелюбодейкой, поскольку не венчалась в церкви. Горько смеялась над тем, какое внимание уделяют прихожане священническим облачениям и епископским митрам – в сущности, просто маскарадным костюмам, дошедшим до наших дней из Средневековья. Ее возмущало, что католики именуют кардиналов «их преосвященствами», а папу «его святейшеством»: ношение этих ничем не заслуженных титулов, по ее мнению, граничило с идолопоклонством.
– Подумать только, мне пришлось дожить до сорока двух лет, чтобы все это понять! – говорила Грир. – Но теперь я свободна. Больше никаких сомнений.
Будь я по-прежнему верующим, я бы возразил, что вся ее критика относится к порокам людей и человеческих установлений. Бог здесь ни при чем. Но я сам прошел через эту стадию и знал, что за ней наступает черед более глубоких логических сомнений в религии как таковой.
Сам я, однако, все еще оплакивал свою потерянную веру. И завидовал тем, у кого она есть. Мне казалось, им живется проще: они не мучаются сомнениями, у них всегда при себе путеводитель, указывающий дорогу к вечному блаженству.
А я, лишившись Бога, столкнулся с множеством проблем. Теперь я мог надеяться только на себя: никакая всемогущая сверхъестественная сила не стояла у меня за спиной. Не мог ходить в церковь, где прежде все – музыка, проповеди, люди – утешало меня в горестях и придавало сил. Хуже всего: пришлось осознать, что у меня нет совершенного Отца, готового заключить меня в объятия и любить, что бы я ни натворил. Я оказался одинок в этом мире – во многих отношениях. К воинствующим атеистам, которые порой не уступают фундаменталистам надменностью и нетерпимостью, мне присоединяться не хотелось. Идти в Унитарианскую церковь, что собирает под своей крышей христиан, иудеев, буддистов, агностиков, атеистов и многих других? На мой вкус, все равно что пить безалкогольное пиво. Какой в этом смысл?
Новообретенное неверие доставляло мне неудобства и в быту. Теперь, слыша, что кто-нибудь потерял работу, заболел или пережил смерть родственника, я вдруг начал чувствовать себя неловко. Что ответить? Говорить, как раньше: «Буду думать и молиться о тебе», теперь нельзя. Упрощенное «Буду думать о тебе» звучит как-то бессмысленно. Хоть я теперь и знал, что молитвы не помогают, однако чувствовал себя беспомощным и даже эгоистичным от того, что больше не молился за других. В то время я пытался вместо молитв «посылать позитивные мысли». Теперь знаю: самое лучшее, что можно сделать для человека в беде, – предложить свою помощь, а если помочь невозможно – просто не оставлять его наедине с горем. Человеческое вмешательство чудес не творит, однако, на мой взгляд, действует эффективнее безмолвной молитвы.
Огромной проблемой стала для меня смерть. Я и прежде ее побаивался, а теперь она начала наводить ужас. В вечную жизнь на небесах я больше не верил. Иисус обещал приготовить в доме Отца Своего обитель для меня. Эту «обитель» я всегда представлял себе по-детски – как дом, заполненный всем, что я люблю: здесь мои лучшие друзья, любимые блюда, широкоэкранный телевизор с неисчерпаемым запасом фильмов и
спортивных репортажей, бассейн, спортивные снаряды, а где-то совсем рядом – пляж и море. Умом я понимал, что райское блаженство куда более возвышенно, что мне предстоит жизнь с Господом; но эта картинка стала для меня удобным символом, к которому я часто обращался. Но теперь я больше не верил Библии, и будущая жизнь для меня покрылась непроглядной мглой.
Если же Библия все-таки говорит правду, мне предстояло оказаться в аду, потому что я отверг Бога.
***
Однажды Грир прочла в «Таймс» любопытную заметку о пьесе-монологе под названием «Прощание с Богом». Заинтригованная, она купила два билета, и скоро мы с ней сидели в зале небольшого голливудского театра, ожидая, когда на сцене появится Джулия Суини.
Суини, известная телезрителям по роли Пэт в «Субботнем вечернем шоу», сама написала этот монолог, рассказывающий о ее собственном религиозном опыте. Она заговорила – и я почувствовал, что сердце мое забилось быстрее. Я не сводил с нее глаз. Она рассказывала о своем духовном пути, от католичества к безмятежному атеизму, а у меня мурашки бежали по коже. Детали различались, и все же она рассказывала мою историю. Шутки, доводы рассудка, переживания, догадки – все было так знакомо, словно она обращалась прямо ко мне. Говорила для меня. С неизъяснимым облегчением я понимал: я не один такой.
Есть и другие. Не фанатичные атеисты, не циничные безбожники – те, кто верил всерьез, кто сражался за свою веру, но потерпел поражение.
«Урожденная» католичка, Суини рассказала, что первые сомнения возникли у нее, когда она записалась на приходские курсы изучения Библии и начала читать Священное Писание подряд, начиная с Книги Бытия и заканчивая Откровением:
Я знала, что в Библии есть странные истории, однако до сих пор считала их каплями в море величия и красоты. Но нет – чем дальше, тем библейские сюжеты становились непонятнее и мрачнее. Взять хоть историю про Авраама, которому Бог приказал убить своего сына Исаака. Когда я была маленькой, меня учили этим восхищаться. Сейчас я читала – и у меня перехватывало дыхание. Восхищаться этим?! Что за садистское испытание верности – приказать человеку убить собственного ребенка? И разве не очевидно, что правильный ответ: «Нет, я не убью своего ребенка, я вообще не буду убивать детей!»?
И у меня были те же проблемы. Я всегда считал, что глупо понимать Библию буквально: взять хотя бы историю Ноя и его ковчега. Как все виды животных, сколько их есть на Земле, уместились на одном судне? Чем их кормили, кто за ними убирал? Как Ной сумел прожить 950 лет? Конечно, думал я, Богу все возможно, однако в этой истории не чувствуется непогрешимое слово Божье, а чувствуется дух обычной человеческой сказки. И такими сказками полна вся Библия. Кроме того, Бог в ней изображается одновременно милосердным и безжалостным, мстительным и готовым прощать, гневным и добрым, терпеливым и нетерпеливым, непредсказуемым и неизменным. Можно с ума сойти, пытаясь уследить за сменой его настроений! Рассказывала Суини и о других своих открытиях:
И даже если оставить в стороне все эти жуткие истории о принесении в жертву собственного потомства – ветхозаветные законы ведь тоже очень трудно понять и принять. Книги Левита и Второзакония полны архаических законов, логику которых нам сейчас и вообразить сложно. Например: если человек займется сексом со скотиной, убейте обоих. Ну, человека – это еще как-то можно понять, а скотину-то за что? За добровольное согласие? Или предполагается, что теперь без секса с человеком она жить не сможет?
И Новый Завет, на взгляд Суини, оказался не лучше Ветхого: Иисус здесь был «страшно раздражительным и намного злее, чем я ожидала». (В этот миг я едва удержался, чтобы не крикнуть с места: «Свидетельствуй, сестра!»)
Надо сказать, больше всего расстроило меня отношение Иисуса к семье. Звучит удивительно, если вспомнить, сколько людей вокруг говорят, что их семейные ценности основаны на Библии. Но я хочу сказать: Иисус ведь, кажется, совсем не любил своих родителей. Мать свою он отталкивает раз за разом. На свадьбе говорит ей: «Женщина, что мне до тебя?» В другой раз, когда он говорил перед толпой, мать тихо стояла в сторонке и ждала, когда он соизволит к ней обратиться, а он сказал ученикам: «Отошлите ее прочь, теперь вы – моя семья...» Иисус не одобряет контактов новообращенных со своими семьями. Сам он, как мы знаем, не женится, не имеет детей и своим последователям открыто советует не заводить семью, а если семья у них уже есть – ее покинуть.
Она подробно рассказала о том, как отчаянно пыталась сохранить веру, хотя ясно видела все ее пробелы. Потерпев неудачу с христианством, начала искать Бога в восточных религиях, религиях природы и любви – прибежище сторонников безличного, трансцендентального божества. Но в конце концов, по ее словам, ей «пришлось поставить правду превыше того, что я хотела считать правдой». Для меня это был самый проникновенный момент в пьесе. Я так хотел, чтобы христианство было истинным, как будто мое желание имело власть превратить фантазию в реальность!
Суини начала рассказ о своей атеистической жизни, и ее слова принесли мне успокоение. Она не избегала темы смерти, напротив, прямо сказала, что, по ее нынешнему убеждению, наше сознание умирает вместе с другими органами. Мне это показалось вполне разумным: пока я не родился, у меня не было сознания – и после того, как умру, его не будет. А что останется? Ничто. Это откровение возымело немедленное и любопытное действие. Прежде я считал, что в моем распоряжении вечность – теперь вечность сжалась до срока одной человеческой жизни, и эта жизнь, это время, отпущенное мне на земле, вдруг приобрело в моих глазах необычайную ценность. Суини говорила об этом так:
Вдруг я очень остро ощутила, что живу. Именно я – с моими собственными мыслями, с моей собственной историей, вот на этом крохотном отрезке времени. У меня есть этот отрезок времени, чтобы думать, о чем хочу, и делать, что хочу, и удивляться миру, и любить людей, и пить кофе, когда мне захочется кофе. Вот и все.
По дороге домой я ощущал прилив бодрости, как будто совершил открытие, придавшее смысл моей жизни и вернувшее моему уму покой. Пьеса Суини стала ключевым элементом, которого недоставало моему новому мировоззрению. Теперь я мог открыть дверь в новую жизнь – без Бога. И ничего особенно страшного в этом не было: напротив, это было ново и увлекательно. Словно переехать в новый дом.
В колледже я подрабатывал спасателем на пляже Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Чудесная летняя работа: охранять воды одного из самых прекрасных и самых опасных в мире пляжей. За четыре лета я вытащил из воды около полутора тысяч утопающих. Чаще всего это были пловцы, застигнутые обратным течением – волнами, которые образуются у берега и несут человека в открытое море. Само по себе обратное течение безопасно. Оно не затягивает под воду, не захватывает слишком большое пространство, а за линией прибоя рассеивается. Но неопытный пловец об этом не знает. Он чувствует только, что его быстро уносит в море. В панике он начинает колотить руками и ногами по воде, отчаянно стремясь вернуться на берег. Теряет силы и, наглотавшись воды, идет ко дну. Плыть против сильного обратного течения невозможно. Но опытный пловец знает, как его перехитрить. Либо он плывет в сторону, перпендикулярно волнам, и скоро выходит из зоны обратного течения, либо просто ждет, когда течение вынесет его за линию прибоя и сойдет на нет.
Ощутив сомнения в вере, я поначалу повел себя как перепуганный пловец: отчаянно пытался пробиться против течения назад к берегу, в безопасную гавань христианства. Но течение истины захватило меня и не желало отпускать. Я решил: хватит с ним бороться – и ощутил облегчение, даже безмятежность. Тогда я сказал себе: что ж, поплывем за линию прибоя и посмотрим, куда это течение меня принесет.
17 Последний сюжет
Безбожник Последние штрихи Все кончено
Церковь вечно требует, чтобы мы исправились. Лучше бы показам нам пример и исправилась сама!
Марк Твен, «Пешком по Европе»
Итак, я сделался безбожником, пишущим о религии. И передо мной встала новая проблема. Нет, не недостаток объективности – я знал, что смогу, как и прежде, писать честные и взвешенные материалы, – а профессиональное выгорание. Я слишком устал от горя и зла. Как детектив из отдела убийств. Один мой друг, полицейский, говорит: работа у него тяжелая, потому что постоянно приходится иметь дело либо со страшными людьми, либо с людьми в страшных обстоятельствах. О своей работе я мог сказать то же самое. Я заслужил определенную репутацию, и истории о недостойных членах церкви сыпались на мой почтовый ящик одна за другой. Многие из них остались неопубликованными: как, например, рассказ о популярном молодом пасторе, оказавшемся под следствием по обвинению в том, что он нанял киллера для убийства своего любовника, или об известном всей стране консервативном проповеднике, который изменяет своей жене при каждом удобном случае и регулярно накачивается наркотиками на ночь. В одних случаях пострадавшие не обращались в суд. В других мне не удавалось найти дополнительные источники, которые подтвердили бы эту историю.
Тем не менее я много публиковался и из года в год получал национальные премии. Однако сам ощущал, что мое отношение к работе окрашивается неприятным цинизмом. Старался уделять больше внимания оптимистичным историям о вере, но и это не помогало. Я потерял увлеченность, журналистский азарт, прежде поддерживавший меня в работе даже над самыми мрачными сюжетами. А поскольку больше не верил, что призван Богом писать о религии, не видел смысла дальше этим заниматься. Конец был близок.
Конец наступил летом 2005 года, в зале суда в Портленде, штат Орегон.
Я уже рассказывал о сети взаимопомощи жертв сексуального насилия священников. В США существует несколько похожих организаций – групп взаимной поддержки женщин, родивших от католических священников детей. Как правило, священник не интересуется своим ребенком. Его начальство также не предлагает этим детям почти никакой поддержки: ни моральной, ни финансовой.
Один из моих информантов позвонил мне, рассказал историю, и я отправился в округ Малтномах. Мне предстояло написать о безработной женщине, которая тринадцать лет назад забеременела от семинариста. Теперь она пыталась добиться через суд алиментов для своего больного двенадцатилетнего сына.
Отец Артуро Урибе, сорока семи лет, держался на свидетельском месте спокойно и уверенно. Белая рубашка с расстегнутым воротом, серые брюки, синий блейзер с золотым крестиком на лацкане, уверенная улыбка. Он никогда не видел своего сына, ни разу с ним не разговаривал. Не знал даже, как правильно произносится его имя. Позиция его была проста: с сильным испанским акцентом Урибе сообщил суду, что не может платить за лечение сына более 323 долларов в месяц, поскольку у него нет ни сбережений, ни доходов.
– Моя одежда – единственное мое достояние, – объяснил он портлендскому судье.
Женщина-адвокат, нанятая религиозным орденом Урибе, холодно и решительно поддержала позицию своего клиента. Он католический священник, он принес обет бедности – следовательно, законы об алиментах не имеют к нему никакого отношения.
Стефани, мать мальчика, не могла нанять адвоката. У нее не было ни работы, ни жилья. Жила она вместе с сыном в подвале, куда пустила их из милости подруга. Жизнь в сыром подвале ухудшала состояние ребенка – тяжелого астматика и аллергика, которому только за последний год было прописано 28 медикаментов. Питались мать и сын в благотворительной столовой: денег не хватало даже на еду.
– Он [Урибе] достиг успеха, он делает карьеру, а мы здесь боремся за выживание! – говорила мне Стефани перед началом суда. – Ситуация однозначная. Я сделала анализ ДНК, он доказывает, что за ребенка несет ответственность он и [его орден]. Что за бессовестные люди!
В суде Стефани защищала себя сама. Не зная юриспруденции, она постоянно путалась в юридических терминах и процедурах. В ходе трехчасового заседания ей помогал судья. Иногда – в формальных вопросах, не имеющих значения для дела, – что-то подсказывала защитница Урибе. Но, как только речь заходила о деле, представительница противника безжалостно затыкала ей рот шквальным огнем возражений и протестов. Смотреть на это было больно и стыдно.
Наконец, едва ли не извиняясь, судья вынес решение в пользу Урибе, пастора крупного прихода в Уить-ере, штат Калифорния. Формально Урибе был в своем праве: у него нет ни имущества, ни доходов. Его монашеский орден очень богат, но орден – не отец мальчика. Закон здесь бессилен.
– Ничего у меня не вышло, – говорила Стефани после суда, утирая слезы. – Ну что ж, по крайней мере, я не сидела сложа руки.
Стефани не в первый раз судится с Католической церковью. Первый иск, тоже по поводу алиментов для своего сына, она подала двенадцать лет назад против Портлендского архидиоцеза. Тогдашний архиепископ Портленда Уильям Джозеф Ливада, ныне ватиканский кардинал и ближайший советник папы Бенедикта XVI, писал в своем ходатайстве, что «рождение ребенка у истицы и связанные с этим расходы... являются результатом небрежности истицы», а именно того, что она совершила «половой акт без использования средств предохранения». Церковный юрист позже оправдывался передо мной: он – адвокат и для защиты своего клиента обязан использовать все дозволенные законом аргументы. Но ведь его клиентом был Ливада, один из лидеров мирового католичества. И этот человек обвинял Стефани в «небрежности» за то, что она не предохранялась – то есть, по католическим понятиям, не стала совершать смертный грех!
Сначала орден Урибе согласился выплачивать Стефани 215 долларов в месяц, через несколько лет поднял эту сумму на 108 долларов. Однако мальчик болел, расходы на лечение и уход за ним росли, а Урибе и его орден отказывались платить больше. Незадолго до публикации моей статьи Урибе прислал мне официальное письмо, холодное и деловое, в котором чувствуется рука законника, но совсем не видно отца:
Руководство ордена согласилось принять на себя мои обязательства по поддержке ребенка. Орден выполняет свои обязательства, причем предоставляет или предлагает даже большие суммы, нежели те, что я обязан выплачивать [по закону]... Я намерен и далее молиться за своего сына и его мать.
По словам Стефани, Урибе никогда не общался со своим сыном. Даже когда, после смерти папы Иоанна Павла II, мальчик послал ему альбом с семейными фотографиями и попросил дать интервью для школьной газеты, священник не ответил. Долгими вечерами сын Стефани сидит у телефона, ожидая звонка от отца, которого никогда не дождется.
– Зато Артуро за нас молится!.. – с горечью говорит Стефани. – Бог, в которого верю я, не потерпел бы отца, который отворачивается от родного сына!
На последней судебной битве Стефани присутствовали, не считая меня, лишь двое зрителей – ее сестра и зять. Когда слушания закончились, я остановился у
дверей зала суда, надеясь взять комментарий у священника и его адвоката. Победители, улыбаясь, вышли из зала; я остановил их, представился журналистом «Лос-Анджелес тайме» и начал задавать Урибе вопрос.
– Без комментариев! – испуганно вскричала адвокат. – Он не дает комментариев!
– Отец, вы не хотите ответить на мой вопрос? – спросил я.
– Без комментариев! – ответила она за него.
И парочка поспешно скрылась в лифте, явно встревоженная тем, что на слушания попал репортер из Лос-Анджелеса. Несколько минут спустя двери лифта снова растворились. Адвокатесса вернулась в зал суда: там она попыталась уговорить судью закрыть материалы дела для публичного доступа, но судья отказал.
Было бы смешно, если бы не было так грустно! Легко понять, почему Католическая церковь предпочла бы не предавать этот случай огласке. Когда вышла моя статья, даже самые благочестивые прихожане были поражены тем, как бездушно обошлась церковь с незаконным сыном священника, нуждающимся в деньгах на еду и лекарства. (После выхода моей статьи пристыженный орден добровольно предложил Стефани адекватное денежное соглашение.) Не меньше поразило их то, что кардинал Ливада поставил свою подпись под юридическим документом, обвинявшим женщину в «небрежности» за то, что она не предохранялась!
Проблема в том, что меня это больше не поражало. За последние годы, работая с темой секс-скандала, я узнал, что священники, епископы и кардиналы способны на гораздо худшее. И еще до начала суда по делу Урибе прекрасно знал, чем он закончится.
Я шел по улицам Портленда в сгущающихся летних сумерках, чувствуя, что дошел до предела. Пытался разозлиться, но не мог выдавить из себя даже это чувство. Ощущал только безмерную усталость, подавленность и пустоту. Я дошел до скамейки, сел, набрал номер жены и сказал ей, что буду искать новую работу.
18 Добро пожаловать в наши ряды
Обратная связь Мне не стыдно
Человеку, от природы доверчивому, нужно время, чтобы смириться с мыслью, что Бог ему не поможет.
X. Л. Менкен, «Рассказ о меньшинстве»
Возможности «выйти из чулана» и сообщить, что больше не верю в Бога, я ждал больше года. Ждал, пока утихнет шум, поднятый моими расследованиями. Хотел, чтобы упрочилось мое новое отношение к вере, улеглись эмоции. Религиозную журналистику – как и веру – я покидал с чувством гнева и не хотел вести себя словно отвергнутый любовник, жаждущий отомстить религии.
Потерю веры нетрудно было держать в секрете: ведь я не говорил о религии ни с кем, кроме ближайших друзей. А друзья, когда я им признавался в том, что со мной произошло, бывали поражены. Неудивительно: мне, чтобы признать, что я потерял веру, и к этому привыкнуть, потребовалось несколько лет, а они узнавали об этом за несколько минут.
Однажды я столкнулся в редакции с Кристофером Гоффардом, журналистом, недавно пришедшим на работу в «Таймс». Я работал с ним несколько лет назад и восхищался как его материалами, так и им самим. Пару лет мы поддерживали связь и
порой разговаривали о религии. Вот и сейчас при встрече он задал мне какой-то проходной вопрос о моей вере.
– Знаешь, – сказал я ему, смущенно улыбаясь, – а я ведь больше не верю в Бога.
– Что-что? – переспросил он, словно не расслышав.
– Крис, я больше не верю в Бога.
– Как же так? Ты же был такой религиозный! Что случилось?
– Потерял веру, пока писал о религии.
Ответ Кристофера сделал бы честь любому журналисту:
– Слушай, а ведь это отличный сюжет! Давай пообедаем вместе, и ты мне все подробно расскажешь!
Несколько дней спустя, за тарелкой куриных такое с рисом и бобами, я попытался рассказать ему свою историю. И с удивлением обнаружил, что сам не вполне понимаю, как и почему пришел к атеизму. Причины моего неверия скрывались в мешанине запутанных чувств и разрозненных историй. Я всегда от души соглашался с Сократовой максимой: «Стоит ли жить, если не исследуешь собственную жизнь?» – поэтому дал себе зарок разобраться со своим отпадением от веры.
К счастью для меня, газета давала мне возможность проследить собственный духовный путь и рассказать о результатах исследования. Как раз недавно «Таймс» открыла новую рубрику: колонки «от первого лица», быстро завоевавшие популярность. Одна журналистка рассказала в этой колонке, как узнала о том, что у нее имеется высокий риск заболеть раком, и как это повлияло на ее решение выйти замуж, быстро обзавестись детьми и решиться на хирургическую операцию, изменившую ее жизнь. Другой журналист поведал, как попал в больницу с сальмонеллезом, а затем провел собственное расследование, выясняя, откуда взялась сальмонелла, причинившая ему столько неприятностей. Иностранный корреспондент рассказывал о личной и профессиональной дилемме, с которой столкнулся в Сомали, где двое его коллег были убиты и ему самому грозила смертельная опасность. Все эти рассказы читались с огромным интересом. Мне казалось, что моя история с ними не сравнится. Находить увлекательные сюжеты я умел, но увлечет ли читателей сюжет обо мне самом? Впрочем, решил я, об этом стоит подумать.
Я набросал план колонки и отправил ее по электронной почте редактору. В «Таймс» много хороших редакторов, но Роджера Смита я всегда вспоминаю особенно добрым словом. Выглядит он как дорогой адвокат: идеальная прическа, аккуратно подстриженная седая бородка, неизменные костюмы, консервативные и потрясающе элегантные (особенно по меркам редакции). Роджер никогда не теряет хладнокровия, а справедливость в сочетании с добротой обеспечивает ему любовь репортеров, обычно не слишком-то снисходительных к редакторам. Роджер умеет распознавать интересный сюжет с первого взгляда и обладает талантом, позволяющим самый обычный репортаж превратить в шедевр. Работать с Роджером – честь для журналиста. Материалы, прошедшие его редактуру, регулярно выносятся на первую страницу, под заголовок «Первая колонка» – на место, предназначенное для лучшего материала номера.
Реджер написал мне в ответ, что идея ему нравится; однако, чтобы сделать хороший материал, мне придется рассказать о себе, в том числе, быть может, и то, что я предпочел бы скрыть.
Мы, журналисты, как правило, не слишком-то склонны изливать душу. Наша работа – не рассказывать о своей жизни, а быть соглядатаями чужой. Мы заглядываем в чужую жизнь, заносим в блокнот то, что там увидим, а потом рассказываем об этом от третьего лица. Это одна из самых привлекательных сторон журналистики. Каждый день ты получаешь бесплатный билет в новый мир. Я брал интервью у президента США; я стоял на бейсбольном поле Стадиона Ангелов, и мяч, пущенный нападающим «Ангелов Лос-Анджелеса», летел мне в лицо; я ходил по пятам за папарацци, выслеживающим знаменитостей в Беверли-Хиллз... и это лишь немногие из приключений, какие выпадают на долю журналиста.
«Твоя задача – сообщать о новостях, а героями новостей пусть будут другие» – вот первое, чему учат журншиста на заре его карьеры. Лишь изредка, когда этого никак не избежать, мы неуклюже упоминаем о себе в третьем лице: «Мэр пригласил посетителя к себе в кабинет, вручил ему председательский молоток и сказал. ..|> Журналист подобен «четвертой стене» в театре: его э|адача – оставаться невидимым. Но теперь мне предстояло стать не «стеной», а актером на сцене, не посредником, а героем собственного сюжета.
Для начала нужно было разделаться с сомнениями. Зачем мне это? Ведь очень может быть, что результат меня вовсе не порадует. Верующие заговорят о моем «духовном провале», возможно, назовут меня предателем христианства. Или даже орудием дьявола. Меня будут высмеивать. Скажут, что мне место в аду. Даже Иисус говорил, что единственный непростительный грех – хула на Духа Святого!
Я спросил себя, зачем хочу об этом написать. Разобраться в собственном духовном пути – верно; но плоды этого труда не обязательно выносить на публику. Как журналист, я хотел это сделать, потому что видел, что это интересный сюжет. Но это еще не все. Были и иные мотивы.
Я догадывался, что есть и другие люди, борющиеся со своими сомнениями в Боге и религии; но они чувствуют себя одинокими и предпочитают держаться в тени – как и я еще совсем недавно. Мне вспоминалось, какое облегчение я испытал, услышав монолог Джулии Суини «Прощание с Богом». Быть может, мой рассказ тоже поможет другим?
Было у меня и еще одно, не столь благородное желание: показать всем, как люди, называющие себя христианами, отняли у меня столь дорогую мне веру. Если уж человек, так жаждавший верить, как я, ушел разочарованным – значит, с христианством в нынешней его форме что-то очень не в порядке, и кто-то должен указать на это верующим. Отчасти я чувствовал себя, как тот мальчик, что кричал: «А король-то голый!» – хоть и не строил иллюзий, что мои откровения кому-нибудь откроют глаза. Но, так или иначе, высказаться стоило.
Я распечатал сотни статей, заметок и репортажей, опубликованных мною за восемь лет работы на религиозном поле, и углубился в их изучение. Листал старые черновики. Вглядывался в фотографии, иллюстрирующие мои публикации. Чертил схему своего духовного пути, отмечал на ней ключевые моменты. Встречался со старыми друзьями и знакомыми, расспрашивал об их воспоминаниях. Я собирал материал для надгробного слова своей вере: ощущение сюрреалистическое и невыносимо печальное. Какая-то часть меня все еще не могла поверить в происшедшее: особенно когда я оживлял в памяти восторги первых своих репортажей, в те дни, когда еще и представить не мог, какие скорби принесет мне эта работа. Порой я с презрением, даже с отвращением смотрел на самого себя – на свою наивность, слепую веру, на упрямую приверженность религии, на годы, потребовавшиеся мне, чтобы признать, что моя вера утрачена. В таком виде я сам себе не нравился и боролся с искушением подправить свой образ, чтобы выйти симпатичнее.
Верьте или нет, но в эти дни я обрел нового спасителя – Говарда Стерна, радиоведущего. Говарда часто критикуют, в числе прочего, за «примитивность и пошлость», однако критики не замечают того, за что Говарда любят миллионы людей – его потрясающую откровенность в эфире. Очень немногие из нас честно рассказывают о себе даже ближайшим друзьям; а Говард изо дня в день излагает слушателям самые темные свои мысли и неприятные секреты. Его программа – настоящий поток сознания, не сдерживаемый никакими правилами и приличиями. Послушайте Говарда – и тут же узнаете, что в детстве отец постоянно его критиковал, чем и породил в нем неуемную жажду успеха; что он ненавидит свою нескладную фигуру, огромный нос и маленький член; что он четыре дня в неделю ходил к психиатру лечиться от нарциссизма – не вылечился, зато стал хорошим отцом; что его возбуждают лесбиянки и нравятся звуки пердежа; что подружка-модель ему надоела и в последнее время по ночам он все чаще играет в компьютерные шахматы, вместо того чтобы ложиться с ней в постель...
Послушайте Говарда пару недель – и вполне возможно, что, сами того не желая, вы сделаетесь чем-то на него похожи. Когда человек честно рассказывает о своей жизни, своих неудачах, страхах и предубеждениях, в такой откровенности есть что-то очень привлекательное. Не случайно нас так трогают и эмоционально заражают чужие откровения, будь то «свидетельства» в церкви или рассказы о себе на собраниях анонимных алкоголиков. Человек, откровенно рассказывающий о себе – даже о самых отвратительных своих поступках, – всегда становится для нас более человечным, более симпатичным и привлекательным. Каждому из нас случалось и попадать в смешные или унизительные переделки, и делать гадости ближним, и мы восхищаемся теми, у кого хватает смелости признаваться и в том, и в другом. Однако откровенничать о себе в церкви, на собрании анонимных алкоголиков или в кабинете психотерапевта – одно дело, а на глазах у широкой публики – совсем другое!








