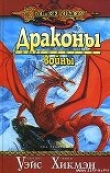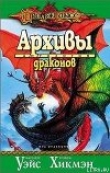Текст книги "Игрушечный дом"
Автор книги: Туве Янссон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
– Да, меня бросили в лесу.
– А кто-то найдёт тебя?
– Да, кто-то найдёт меня.
И всё время мамины руки ласкали её затылок. Внезапно прикосновения этих рук стали невыносимы, вспыхнув, она вырвалась, но не произнесла ни слова. Мама снова взяла географический атлас и слегка повернулась к стене.
В два часа дня они поели: на обед была воскресная курица с овощами.
Она опустилась к телефонной будке и позвонила.
– Можно прийти?
– Ну, приходи! Только предупреждаю, я не в настроении. Ты знаешь, я ненавижу воскресенья! Каждый раз, когда Роза входила в эту голую серьёзную комнату, её била дрожь ожидания, беспокойства, казалось, она рискнула ступить на ничейную землю, где можно ожидать чего угодно. В комнате никого не было.
– Привет! – поздоровалась Елена, стоя в дверях кухни, в пуках она держала два стакана. – По-моему, спиртное понадобится. Почему ты в плаще? Тебе холодно?
– Здесь чуточку холодно. Я сниму его позднее. – Роза взяла стакан и села.
– Ну, маленькая мышка подумала?
– О чём ты?
– О, ни о чём, – ответила Елена. – За великое путешествие!
Роза выпила, не произнеся ни слова.
– Когда ты так сидишь, – продолжала Елена, – на самом краю стула и в плаще, ты похожа на пассажирку или даже багаж на железнодорожной станции. Когда отходит поезд? Или вы летите?
Она кинулась на кровать и закрыла глаза.
– Воскресенья, – сказала она. – Ненавижу их. Есть у тебя сигареты?
Роза бросила свою пачку сигарет, и это был жестокий бросок. Пачка угодила Елене прямо в лицо.
– Во-от как, – протянула Елена, не шелохнувшись, – вот как, мышка может и рассердиться. Ну, а как насчёт зажигалки? Попытайся ещё разок!..
– Ты знаешь, – воскликнула Роза, – ты очень хорошо знаешь, что я не могу уехать и оставить её одну! Это исключено. Мы достаточно поговорили об этом. Нет никого, кто мог бы пожить у неё, пока меня не будет. Я не могу впустить туда чужого человека!
– Хорошо, хорошо, – сказала Елена. O’kay. Все ясно. Она не может держать чужого человека. Она может быть только с тобой! Всё ясно.
Роза поднялась.
– Ну, я пойду, – сказала она, чего-то ожидая…
Елена по-прежнему лежала, глядя в потолок, с незажжённой сигаретой во рту. Где-то в доме играли на пианино, звуки доносились совсем слабо, едва-едва. Там всегда играли по воскресеньям и всегда опереточные мелодии. Она подошла к кровати и щелкнула своей зажигалкой.
– Теперь я пойду, – повторила она.
Елена подняла голову и, опершись на локоть, зажгла сигарету.
– Как хочешь, – ответила она. – Здесь не так уж весело.
Роза спросила:
– Налить тебе?
– Да, спасибо!
Она взяла стакан на кухне. Здесь не было никаких занавесок, никакой мебели, всё было только белым.
Стоя посреди кухни, Роза почувствовала, что её тошнит, у неё появилось чувство нависающей катастрофы. Что-то противное надвигалось на неё, что-то неотвратимое.
«Я не справлюсь с этим… Никому с этим не справиться. Но я ведь ничего не обещала, вообще ничего, ведь это была только игра, просто слова, Елене следовало бы понять, что это несерьезно… Я никуда не поеду! Ни с кем…»
– Что с тобой? – спросила рядом с ней Елена.
– Мне плохо. Меня, кажется, сейчас вырвет!
– Вот раковина, – сказала Елена. – Наклонись… Попробуй! Сунь пальцы в горло. – её сильные руки сжимали лоб Розы, и она повторяла: – Делай так, как я говорю. Пусть тебя вырвет, может, тогда с тобой можно будет поговорить.
Потом она сказала:
– Сядь здесь. Ты боишься меня?
– Я боюсь разочаровать тебя!
– Единственное, чего ты в самом деле боишься, – это того, что ты виновата. Всю свою жизнь во всём виновата ты, и поэтому с тобой никогда не бывает весело. Я не хочу с тобой ехать до тех пор, пока ты думаешь, что должна быть где-то в другом месте. И твоя мама тоже этого не хочет.
Роза ответила:
– Она не знает, каково мне.
– Конечно знает. Она не глупа. Она пытается отпустить тебя на волю, но ты приклеиваешься накрепко и купаешься в собственной совести. Чего ты хочешь?
Роза не ответила.
– Я знаю, сказала Елена. – Охотней всего ты поехала бы со мной вдвоём, и как бы ни беспросветно было бы это путешествие, ты осталась бы довольна, потому что в этом не было бы твоей вины. Не правда ли? Ты была бы спокойна.
– Но ведь так не получается, – прошептала Роза.
– Нет. Так не получится.
Елена ходила взад-вперёд по кухне; в конце концов она остановилась за спиной у Розы и, положив руки ей на плечи, спросила:
– Чего ты больше всего хочешь именно сейчас? Подумай!
– Не знаю!
– Не знаешь. Тогда я скажу тебе, чего ты хочешь. Ты хочешь поехать с мамой на Канарские острова. Там тепло и в меру экзотично. Там есть врачи. И завтра ты пойдёшь и забронируешь места в отеле.
Роза возразила:
– Но самолёт…
– Он садится очень спокойно, она наверняка выдержит. А теперь иди домой! Скажи ей об этом!
Елена увидела, как лицо сидящей перед ней разглаживается от неслыханного облегчения, оно стало почти красивым. Отпрянув, она сказала:
– Не надо благодарности. Ты – мышка. Можешь теперь станцевать немного на столе. Но хотя бы радуйся, пока танцуешь.
– А потом?! – воскликнула Роза. – А что потом?
– Не знаю, – ответила Елена. – Откуда нам знать, как всё сложится у нас?! Некоторые королевы правят очень долго.
Тот, кто иллюстрирует комиксы
Газета вдалбливала имя Блуб-бю, повторяя его почти двадцать лет, когда Аллингтон покончил со своей работой, и продолжать серию[24] пришлось с другим художником. Тогда запаса материалов оставалось всего на несколько недель, а дело было спешное. Договоренность с другими странами требовала гарантии по меньшей мере на два месяца вперед. А ведь Блуб-бю был выгодной серией, которая выходила с бешеной скоростью, ее не мог создавать кто попало. Они пригласили целую уйму художников на испытательный срок и предоставили им место в газете, это экономило время для наблюдения за их работой. Естественно, задание было для всех одинаковым. Через несколько дней два художника по профессиональной непригодности были удалены и заменены другими. Контролеры совершали обход несколько раз в день и пытались помочь художникам понять то, что от них требуется.
Среди контролеров выделялся один высокий человек, звали его Фрид. У него была больная спина, предположительно оттого, что он вынужден был постоянно склоняться над рабочими столами художников. А этот новый художник – молодой и не без амбиций – был, возможно, самым лучшим из всех, но все еще недостаточно хорош.
– Вы должны помнить, – твердил Фрид, – вы все время должны держать в памяти, что интенсивность работы будет возрастать. У вас будет полоса из трех или четырех картинок, в случае крайней необходимости – пяти, но это нежелательно. Хорошо! Во-первых, вы должны снимать напряжение, накопленное накануне. Работа над картинкой – это игра, которая может продолжаться. Вы накапливаете новую энергию во второй картинке и приумножаете ее в третьей и так далее. Это я вам сказал… Вы работаете хорошо, но теряетесь в деталях, комментариях, вышивках, мешающих основной линии рисунка. Он должен быть прямолинеен, прост и двигаться навстречу кульминационному пункту, климаксу[25], так сказать… Понятно?
– Я знаю! – ответил Самуэль Стейн. – Я знаю! Я попытаюсь!
– Представьте себе человека, который берет в руки газету, – продолжал Фрид. – Он устал, не в настроении, он спешит на работу. Он пропускает рубрики на первой странице и наталкивается на комиксы. В самый первый момент он не может понять все нюансы, этого от него требовать нельзя. Но его любопытство нуждается в небольшой разрядке напряженности, ему хочется смеяться, хохотать над чем-то веселым, это – естественно, не правда ли?! О‘kay. Все это он получит! Мы это ему дадим! Это – важно! Вы понимаете, что я имею в виду?
– Да, – ответил Стейн, – я, пожалуй, с самого начала это понял. Дело в том, что нужно рисовать быстро. Я словно бы не успеваю сразу понять все, что надо, сразу сделать что-то правильно!
– Все будет хорошо, все получится! – обещал ему Фрид. – Относитесь к работе спокойно! Могу вам сказать, разумеется, доверительно, что вы среди лучших. Линия у вас о‘kay, и с фоном вы справляетесь. Ну, а теперь мне надо к другим!
Комната была очень маленькая – стены бурые, собственно говоря, всего-навсего небольшое пространство, загроможденное битком набитыми полками и шкафом, рабочий стол – большой и тяжелый, старинный, с ящиками до самого пола. Стены покрыты всевозможными бумагами, старыми календарями и объявлениями, афишами и анонсами. Все это производило впечатление жизни, которая давным-давно прошла и где-то затерялась, потому что ни у кого не было времени навести здесь порядок.
Самуэлю Стейну комната нравилась, она внушала ему чувство уверенности в работе, пребывания с ней наедине. Ему нравилось быть частью большого механизма респектабельной газеты, это внушало уважение…
Комната была очень холодная. Он встал, и холод подступил еще ближе. Все время слышал он отдаленное ровное постукивание печатных станков, а над ними – шум уличного движения. Он мерз. Рядом с дверью висели рабочий халат и куртка, он надел куртку и сунул руки в карманы. В правом кармане Самуэль Стейн обнаружил клочок бумаги, список; он прочитал его, стоя у окна. «Использовать, – было написано чрезвычайно мелким почерком, – катание на коньках и т. д. шутки с правительством и современным искусством ходил на бал 1 маскарад 2 коктейль гангстер астронавт 3 раза. Любовь женщины-вамп out[26] мясной фарш тушь более светлый фон стирка кольцо».
Это писал тот, кто работал здесь и иллюстрировал комиксы. И куртка принадлежала ему. Стейну стало любопытно, и он выдвинул ящик. Там была обычная мешанина: огрызки карандашей, скотч, пустые бутылочки из-под туши, скрепки и прочий хлам. Хотя, быть может, еще хуже обычного, все свалено в кучу, словно в приступе бешенства. Он открыл следующий ящик. Тот был пуст, совершенно пуст. Он оставил в покое другие ящики и поставил кипятиться воду для чая, на полу под окном стояла плитка.
Возможно, эта комната принадлежала Аллингтону. Кажется, он никогда не работал дома, возможно, он просидел здесь двадцать лет, рисуя своего Блуб-бю. Он резко оборвал свою работу, прямо на половине одной истории. А расторжение договора должно осуществляться за полгода до увольнения. Синопсис[27] явно исчез возле пятьдесят третьей полосы. А нормальная длина комикса обычно – восемьдесят полос. Стейн спрашивал Фрида, почему Аллингтон не восстановил сюжет. Нет, этого он сделать не мог. Может, он не хотел, может, забыл?
– Не знаю, – ответил Фрид, – этим занимался другой отдел. Какое вам до этого дело, продолжайте с того рисунка, которым он закончил, и сделайте что-нибудь свое, но лучше всего так, чтобы шов не был заметен. А подпись можно опустить.
Вода закипела. Стейн снял с плитки ковшик и вытащил штепсель, достал чашку и сахар с полки, на которой их нашел; ложечки не было. Пакетики с чаем он принес с собой.
Шесть дней спустя явился Фрид и сказал, что они уже приняли решение. Стейн работал в стол, но контракт будет подписан на днях. На семь лет. Руководство очень довольно его работой, но хочет еще раз напомнить о необходимости высокой производительности. Фрид выглядел усталым, хотя его мягкое, с неуловимым выражением, лицо улыбалось. Он подошел и пожал руку Самуэлю Стейну, а потом ободряюще и покровительственно слегка коснулся его плеча.
– Это приятно! – обрадовался Стейн. – Это в самом деле приятно! Вы используете то, что я сделал, или мне начать с самого начала?
– Нет, конечно нет, у нас нет на это времени. Мы запустим материал, который есть, а вы ускорите темп своей работы так, чтобы обеспечить материал на два месяца вперед.
– Ответьте мне на один вопрос, – попросил Стейн. – Он работал в этой комнате?
– Кто, Аллингтон?
– Да, Аллингтон.
– Ну да, это его комната. Пожалуй, будет хорошо, если вы продолжите начатое им дело в той же самой комнате, не правда ли?
– Здесь множество его вещей. Хотя я не собираюсь слишком пристально их рассматривать. Он приедет их забрать?
– Я позабочусь, чтобы они исчезли, – сказал Фрид. – Фактически, здесь тесно. Я попрошу кого-нибудь все убрать!
Самуэль Стейн спросил:
– Аллингтон умер?
– Нет, нет, конечно нет!
– Тогда, значит, он заболел?
– Милый мой, не беспокойтесь, – ответил Фрид. – Все абсолютно о‘kay. А теперь я лишь пожелаю вам счастья в вашей работе.
Вначале Стейн работал, не трогая ничего в комнате. Первая полоса его комиксов публиковалась без подписи, и разницы никто не заметил. Вообще за последние три года, что действовал контракт, Аллингтон не ставил свою подпись, и это помогло. У Самуэля Стейна было время ускорить темп работы и выдавать больше полос в день. Он учился все лучше и лучше. Он учился делать по утрам полдюжины рисунков в карандаше и покрывать их тушью, создавая одновременно совершенно черные поверхности. Войдя целиком в работу, он подрисовывал детали, а к полудню, обретя уверенность в руке, выводил длинные линии и самые красивые части картинки, которые надо писать быстро и nonchalant[28]. Затем он начинал новый разбег. Он постоянно подходил все ближе и ближе к намеченному раньше сроку.
В редакции его поздравили, когда первая полоса вышла из печати безо всякой реакции со стороны общественности, В тот день он был удручен, но это прошло, и он с чувством спокойной радости продолжал создавать хорошие картинки, за что аккуратно получал плату. Пришло ощущение надежности. Не надо было бегать вокруг со своими иллюстрациями и обсуждать их с начинающими амбициозными писателями, совершать три-четыре поездки ради каждой благословенной книжной обложки; принимать заказ, встречаться с автором, сдавать работу и ждать, ходить за гонораром, а иногда не один раз мчаться в типографию смотреть, соответствуют ли цвета оригиналу. Сейчас все шло как по маслу. Ему не надо было даже сдавать работу, он оставлял рисунки, сделанные за день, на своем столе, и кто-то их вечером забирал. Заработную плату он получал каждую неделю в кассе. Фрида он больше не видел, разве что иногда встречал его на лестнице.
– Вы никогда не приходите взглянуть, – говорил Стейн.
– Незачем, мой мальчик, – шутливо отвечал Фрид. – Ты справляешься замечательно. Но берегись, если застрянешь на месте или начнешь отклоняться от темы. Тогда я тут как тут!
– Боже меня сохрани! – смеясь отвечал Стейн.
Он раздобыл себе обогреватель, и газета оплатила его, теперь они им дорожили, и для этого были все основания. Блуб-бю печатали в тридцати-сорока странах.
Иногда Стейн отправлялся на улицу, где на углу продавались газеты, и выпивал там стаканчик. Ему нравились темные неряшливые бары, переполненные людьми, работавшими в той же сфере, что и он, и говорившими о своей работе. Он выпивал стаканчик и снова шел в газету.
Встречал он и других художников, иллюстрировавших комиксы. Они были дружелюбны и обращались с ним, как с новичком, как с мальчиком, что еще не принят в их узкий круг, но подает много обещаний. Они были не снисходительны, а скорее мягкосердечны. Напитки здесь друг другу не предлагали, а, лишь повисев недолго над стойкой со своим стаканчиком, расходились.
Среди них был некто, кем он восхищался, неслыханно искусный художник по фамилии Картер. Картер рисовал сразу, без карандаша, и рисовал натуралистические ужастики на исторические темы. То был тяжелый, очень некрасивый человек с рыжими волосами. Он двигался медленно, никогда не улыбался, но, казалось, забавлялся тем, что происходит вокруг него.
– Скажи мне одно, – однажды произнес он, – ты один из тех, кому мешает заниматься Высоким Искусством то, что они рисуют комиксы?
– Нет! – ответил Стейн. – Совершенно нет!
– Тогда это хорошо для тебя! – обрадовался Картер. – Они – невыносимы! Они – ни то ни другое и постоянно из-за этого ноют.
– Ты знал Аллингтона? – спросил Стейн.
– Не очень хорошо.
– Был ли он из тех, я имею в виду – из невыносимых?
– Нет!
– Но почему он завязал с этим?
– Он устал, – ответил Картер, осушил свой стаканчик и отправился обратно на работу.
В газете забыли убрать в комнате Аллингтона, и это было тоже хорошо. Стейну нравилось сидеть взаперти среди накопившейся в течение столетия кучи забытого реквизита, что напоминал теплую подстилку, своего рода выцветшие обои, которые окружали его со всех сторон. Мало-помалу он стал открывать ящики, по одному в день. Он обнаружил ящики с письмами поклонников за последние месяцы, пачки были связаны резинкой; письма, на которые был дан ответ, которые могут ждать, важные письма, письма, на которые надо ответить или послать рисунок с Блуб-бю; снова пустой ящик, ящик с изображениями Блуб-бю на глянцевой бумаге, сложенный вдвое картон, изысканные виньетки и веселые картинки для детей.
Бумага, бумага, вырезки из газет, счета, носки, фотографии детей, квитанции, сигареты, пробки и шнуры и прочий сор умершей жизни, который скапливается у того, кто не в силах больше быть внимательным. И ничего, что касается комиксов. Самуэль Стейн не смог найти больше никаких заметок о работе Аллингтона, кроме того списка в правом кармане куртки.
Пока Стейн занимался Блуб-бю, Аллингтон становился для него все более и более реальным: Аллингтон, который не находит идей и, стоя, смотрит на улицу сквозь серое стекло. Аллингтон, который заваривает чай и роется в своих ящиках, отвечает по телефону, или совершенно забытый среди своих газетных рисунков Аллингтон, знаменитый и усталый… Чувствовал ли он себя одиноким или боялся людей? Работалось ли ему лучше по утрам или позднее, когда в газете все затихало, что он делал, когда чувствовал, что увяз в работе, или же он продолжал работать без перерыва двадцать лет?
«Мне надо остерегаться, – думал Самуэль Стейн, – мне не следует превращать его в важную фигуру. Из-за того, что Аллингтон двадцать лет простоял возле печатного станка, никому и в голову не пришло бы поднимать шум. Он был популярен, и ему хорошо платили. То же будет и со мной».
Однажды в weekend[29] Картер спросил Стейна, не желает ли он приехать к нему за город. Это был знак величайшего расположения, Картер был невысокого мнения почти обо всех людях и хотел, чтобы его оставили в покое.
То было ранней весной, и пейзаж казался абсолютно молчаливым. Картер ходил с ним по владениям, демонстрируя своих поросят и кур. Крайне осторожно приподняв камень на лужайке, он показал своих змей, сказав:
– Они еще немного сонные, но позже оживут.
Стейн зачарованно спросил:
– А чем вы их кормите?
– Ничем. Они кормятся сами. Здесь множество лягушек и разного другого, что они любят.
Стейн слышал, что Картер никогда не отвечал на письма, он их даже не вскрывал. Он не был любопытен ни в малейшей степени, да и совести у него тоже не было.
– Ты не должен так поступать, – сказал Стейн. – Ты знаменит, тобой восхищаются. Дети пишут тебе и ждут ответа.
– Почему? – спросил Картер.
Они сидели перед домом, каждый со своим стаканом. Было очень тепло и тихо.
– Они верят в это, – продолжал Стейн. – Когда я был маленьким, я написал французскому президенту и просил его покончить с Иностранным легионом.
– Да ну! И он ответил тебе?
– Ну да. Моя мама написала ответ от президента, где говорилось, что теперь они покончат с этой проблемой. Письмо было с почтовыми марками и всем прочим.
– Ты слишком молод, – возразил Картер. – Лучше приучаться с самого начала к тому, что на деле все не так, как ты думаешь, и что это не так уж и важно.
Он ушел кормить поросят и довольно долго отсутствовал. Когда он вернулся, Стейн заговорил об Аллингтоне, который работал двадцать лет, а потом просто сдался, не оставив после себя даже синопсиса.
– Он устал, – сказал Картер.
– Говорил он с тобой об этом?
– Нет. Он почти ничего не сказал. В один прекрасный день он пустился в путь, оставив на столе записку; вообще-то это была наполовину готовая полоса комикса, и прямо на ней он написал: «Я устал». Он так никогда и не пришел за своими деньгами.
– А они не пытались разыскать его?
– Боже мой! – воскликнул Картер. – Вы только послушайте: «Они никогда не пытались разыскать его». Святой Моисей! Весь полицейский корпус пришел в движение. Все это – сплошная истерия! «Блуб-бю при смерти!» Предприниматели пронюхали об этом деле и забегали, как сумасшедшие, взад-вперед в редакцию газеты.
– Предприниматели?
– Ты ничего не знаешь, – сказал Картер, зажигая свою трубку. – Те, кто живет за счет Блуб-бю. Ты никогда не видел очаровательного Блуб-бю из пластмассы, из марципана и стеарина? – Он встал и начал медленно ходить по траве, напевая: – Гардины Блуб-бю, маргарины Блуб-бю, куклы, носки и куртки, пеленки и распашонки… Хочешь послушать еще?
– Лучше не надо, – ответил Самуэль Стейн.
– Я могу продолжать хоть час. Аллингтон делал эскизы для всего этого. Он очень боялся за свою серию, он был педантом, и никакой ошибки не должно было произойти. Понимаешь, он контролировал все до малейшей детали. Текстиль и металлургическая промышленность, изделия из бумаги, резины, дерева, все, что хочешь… А потом, были фильмы о Блуб-бю, неделя Блуб-бю, и детский театр, и журналисты, и всякие ученые труды о Блуб-бю, и благотворительность, и то, что называется мармеладная кампания Блуб-бю… Святой Моисей! Ну, ладно! Как бы там ни было, он никогда не мог сказать «нет». А потом он устал.
Стейн ничего не ответил, но вид у него был испуганный.
– Отнесись к этому спокойно, – продолжал Картер. – У тебя ничего общего с этим нет. Ты только рисуешь, а газета заботится об остальном.
– Но откуда тебе все это известно? – спросил Стейн. – Он ведь никогда не болтал.
– У меня острый глаз, – ответил Картер. – И я тоже иллюстрирую комиксы. Но, видишь ли, я могу сказать «нет». И меня ничуть не трогает, если кто-то очернит мою работу. Ты получил много писем?
– Да, – ответил Стейн. – Но они ведь адресованы ему. Фрид сказал мне, чтобы я отдал их в отдел, там есть печать с именем и фамилией Аллингтона, и какие-то люди отвечают на эти письма. Но если я напишу письмо, – сердито продолжал Стейн, – я сделаю это от своего имени, а не от чьего-либо другого.
– Ты жутко боишься за свое имя, а? – усмехнулся Картер.
Больше они об Аллингтоне не говорили; Стейн думал было спросить, неужели он так никогда и не найдется, но внезапная печаль заставила его замолчать.
Позднее они несколько раз встречались в баре, мимоходом.
Самуэль Стейн занимался уже своим третьим синопсисом. Он обычно отдавал их Фриду, диалог и легкие эскизы в карандаше. Через пять-шесть дней они уже возвращались обратно, исправленные, и ложились на его стол. Лучше, но надо ускорить темп! Вычеркнуть намеки на туалетную бумагу и кладбища! Номера 65–70 – слишком много нюансов! Никаких шуток с государством и фабрикантами! И так далее.
Сотрудники газеты начали его узнавать, он уже стал своим. А больше всего он нравился Юнсону, с которым имел обыкновение болтать в баре. Юнсон был одним из тех, кто занимался рекламой, иногда, когда у него было время, он отвечал на письма поклонников, адресованные Аллингтону.
– Вот как, Картер! – воскликнул Юнсон. – Я знаю. Он заботится только о своих поросятах и тех самых змеях, да еще о деньгах. Он невероятно искусен, рисунки так и текут из него, но он абсолютно лишен всяких амбиций. Да и зачем они ему! Вообще-то он выращивает овощи, а какая-то кузина продает их на рынке.
– Он никогда не отвечает на письма, – сказал Стейн. – Он плюет на них. Послушай-ка! Эти иллюстраторы, рисующие комиксы! Либо они суперчувствительны и преисполнены нечистой совести, либо тоже плюют на все. Разве я не прав?
– Ты можешь быть прав, но можешь и ошибаться; я не знаю, были ли они слегка не в себе с самого начала или же стали такими, иллюстрируя комиксы. Возьмем еще по одной?
Это было вечером, и они торчали в баре; собственно говоря, было уже слишком поздно, чтобы вернуться домой и что-то сделать.
– Эта история с Аллингтоном… – сказал Стейн. – Мне от него не избавиться. Он все время со мной. Что, собственно говоря, случилось?
– Он немного спятил, – ответил Юнсон.
– В самом деле, ты так считаешь?
– Ну да, так и есть, пятьдесят на пятьдесят.
Самуэль Стейн перегнулся через прилавок и заглянул в зеркало за бутылками. «У меня усталый вид, – подумал он, – но через какую-нибудь неделю я, возможно, буду воспринимать это иначе. Я могу заставить Блуб-бю пойти в бар. Пожалуй, он побывал там довольно давно. Он заглядывал в бар в комиксах Алингтона четыре года тому назад, то есть куда дольше, чем люди обычно помнят».
Он спросил:
– Знает кто-нибудь, где он? Я хочу с ним встретиться.
– Зачем? Ты прекрасно справляешься.
– Дело не в этом. Я хочу знать, почему не справился он.
– Но ты же знаешь, – дружелюбно сказал Юнсон. – Ты это понял. С ним произошло то же самое, что с музыкантами, которые бьют в барабан в джаз-банде, а потом – out через столько-то и столько-то многих лет. Ну как, пропустим еще стаканчик?
– Нет, – ответил Стейн, – не думаю. Вечером я собирался немного постирать.
На следующее утро Самуэль Стейн зашел в чулан за кабинетом Аллингтона и начал стаскивать вниз с полок картонки, пачки писем, мешки и коробки, а затем выстроил их в ряд на полу, чтобы остался проход. Четыре ящика и чемодан писем от поклонников, на трех ящиках было написано: «Ответ послан», на одном: «Послал вещи», а на чемодане: «Как жаль». На маленькой коробке Аллингтон написал: «Отличные письма», а на другой – «Анонимные». Образцы товаров. Блуб-бю из всевозможных материалов и во всевозможных упаковках, у всех – голубые вытаращенные глаза с большими черными зрачками. Перечеркнутые синопсисы, все, кроме одного, что-то вроде дикого вестерна, с замечанием: «Не использован».
Самуэль Стейн расправил рукопись Аллингтона и положил ее на свой стол. Может, удастся ее использовать. На следующей коробке значилось: «Не рассортировано», она лопнула, когда он ее вытащил, и целое море бумаг хлынуло на пол. «Бедняга, – думал Стейн, – как он, должно быть, ненавидел бумаги!» Сообщения, запросы, требования, уговоры, мольбы, обвинения, объяснения в любви… Там была книжка с адресами, аккуратно записанные имена, а в скобках имя жены или мужа возле нужной фамилии, имена детей, собаки или кошки… Возможно, учтивость в знании имен несколько сокращала для него объем письма, и он легче с ним справлялся.
Внезапно Стейну расхотелось узнавать еще что-нибудь. Единственное, что ему хотелось, это попытаться найти Аллингтона, ему необходимо было понять… У него самого был контракт на семь лет, и надо было успокоиться или ужаснуться, все, что угодно, но только – знать.
Назавтра Стейн попытался узнать адрес Аллингтона, но никто не мог ему помочь.
– Мой дорогой мальчик, – ответил ему Фрид, – ты только теряешь время. У Аллингтона никакого адреса нет. Его квартира практически нетронута, и он туда не возвращался.
– Ну а полицейские? – спросил Стейн. – Они искали его? Работали они скверно. Здесь у меня его книжка с адресами. Тысяча имен или больше! Видели они ее?
– Ясное дело, видели. Он звонили немного туда-сюда, но никто ничего не знал. Чего ты хочешь от него?
– Я и сам точно не знаю. Хочу поговорить с ним.
– Сожалею, – сказал Фрид, – но у нас свои дела. Он бросил нас на произвол судьбы, и мы с этим справились. А теперь брось думать об Аллингтоне.
В тот же вечер наверху у Стейна появился мальчик лет шести-семи. Стейн уже отложил работу и собирался уходить.
– Трудно было тебя найти, – сказал ребенок. – Я принес подарок.
Это был большой плоский пакет, перевязанный шнуром. Когда Стейн вскрыл его, он нашел в бумаге еще один пакет, накрепко заклеенный скотчем. Ребенок молча стоял, пока Стейн рылся в бумаге и разрезал шнур и скотч, когда же он добрался до следующего запечатанного пакета, тот оказался замотан пластиковой лентой.
– Это становится все более и более интересным! – воскликнул Стейн. – Все равно что искать клад!
Мальчик был серьезен и молчалив. Пакет становился все меньше и меньше, но каждую обертку было все так же трудно снять. Самуэль Стейн разнервничался: он не привык к детям, и ему было мучительно изображать из себя Аллингтона. Наконец он подошел к концу и, открыв пакет, обнаружил Блуб-бю в форме астронавта из серебристой бумаги и разразился восхищенными комментариями, совершенно явно преувеличенными. Лицо ребенка не изменилось.
– Но как тебя зовут? – спросил Стейн и тотчас понял, что вопрос был ошибкой, дьявольской ошибкой.
Мальчик продолжал молчать. Потом враждебно спросил:
– Где ты был?
– Я был в поездке, – наобум ответил Стейн, – поездка получилась долгой, за границу.
Ответ прозвучал идиотски. Ребенок взглянул на него очень быстро и снова отвернулся.
– Ты часто рисуешь? – спросил Стейн.
– Нет.
Это было ужасно, он был абсолютно беспомощен, его взгляд блуждал по захламленной комнате, он искал подсказки, искал, что сказать ребенку, поклонявшемуся Аллингтону. Он взял рисунок, лежавший на столе, – Дикий Запад – и сказал:
– Он еще не готов. Не знаю, как продолжать. Подойди, посмотри немного.
Ребенок подошел ближе.
– Понимаешь, – с внезапным облегчением сказал Стейн, – Блуб-бю находится на Диком Западе. Мошенники пытаются захватить его родник, это единственное место, где есть вода, они нашли адвоката, и адвокат составил мерзкий план, по которому родник принадлежит вовсе не Блуб-бю, а государству.
– Застрели его! – спокойно сказал мальчик.
– Да, возможно, ты и прав. Сделать это в баре или на улице?
– Нет! Это слишком обыкновенно. Пусть они скачут верхом – один за другим, и адвокат выстрелит первым.
– Хорошо, – согласился Стейн, – важно, чтобы он выстрелил первым, тогда получится, что он уже использовал свой шанс. O’kay, пусть он умрет.
Ребенок посмотрел на него и в конце концов спросил:
– Когда ты опять придешь? Я сделал для тебя алтарь, с картинками.
– Очень мило, – ответил Стейн. – Может, чуть позднее, как раз сейчас очень много работы. Ты когда-нибудь рисовал тушью?
– Нет.
– Попробуй. Напиши твой адрес и мой адрес. Рядом.
– Но ты их знаешь, – ответил мальчик.
– Да, но все равно напиши. С именем и всем прочим.
Мальчик написал, медленно и красиво.
Когда он ушел, Стейн снова занес в чулан все вещи Аллингтона, это было обиталище смерти, до которого ему нет дела. Но теперь у него был адрес живого Аллингтона.
Аллингтон жил в пригороде, в гостинице. Был он средних лет, совершенно обычный человек, один из тех, кто не привлекает внимание в транспорте. Одет во что-то серо-бурое. Стейн представился, объяснив, что он – его преемник в серии комиксов.
– Войдите, – пригласил Аллингтон. – Мы можем выпить стаканчик.
Комната была убрана и выглядела пустой.
– Как дела? – спросил Аллингтон.
– Вполне прилично. Я составляю уже четвертый синопсис.
– А как поживает Фрид?
– Конечно, спина… а в остальном он как всегда.