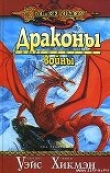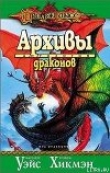Текст книги "Игрушечный дом"
Автор книги: Туве Янссон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– Что ж они говорят? – быстро спросила Анна. – Про меня – что говорят? И кто говорит? Лавочник?
– Миленькая моя, надо чуточку запастись терпением…
– Я и так знаю, – перебила Анна, – это он, наверняка он. Скверный человек, ненадежный. – На щеках у Анны выступили красные пятна, глаза стали колючими; она наклонилась к гостье. – Ведь это он, да? Признайтесь. Или хоть Лильеберги. Обманывают они. Матса обманывают. Ему постоянно недоплачивали, каждый знает. А связаны все эти кривотолки с лодкой, верно?
После долгого молчания Нюгордша серьезно проговорила:
– Чуяло мое сердце, не все у вас в порядке, ну а теперь я и вовсе убедилась: так оно и есть. Послушайте-ка меня, миленькая. Мы просто хотим, чтоб вам было хорошо. Отчего воет собака?
Анна резко отодвинула кофейную чашку.
– Простите, собственно, я не люблю кофе, раньше любила, то есть думала, что люблю… Не знаю. Не знаю, отчего она воет. И не хочу об этом говорить.
– Фрёкен Анна, лодка – ваш подарок?
– Нет, ее подарила Катри.
– Значит, Катри. Давненько, поди, в чулок откладывала.
– А если и так? – упрямо воскликнула Анна. – Катри долго, очень долго копила, и у нее все записано в тетрадке!
Гостья медленно кивнула.
– Н-да, – вздохнула она, – не у всякого голова на плечах есть, не у всякого.
Анна с прежней запальчивостью продолжала:
– Катри честная! Единственная, на кого можно положиться!
– Что ж вы так волнуетесь? Все мы знаем, что Катри Клинг девушка способная, старательная. Фрёкен Эмелин, миленькая…
Анна опять перебила:
– Не говорите мне «миленькая»… Погодите. Погодите минутку, это так, пустяки… – Она помолчала и добавила: – Всему виной возраст, оттого и глаза слезятся… Ну и весенний свет. Еще кофе?
– Нет, благодарю.
Хозяйка Нюгорда спокойно ждала, сложив руки на коленях. В конце концов Анна, собравшись с мыслями, рассказала о том, что уже давно ее тяготило: ведь она начала плохо отзываться о людях.
– Раньше со мной такого не бывало, поверьте, правда-правда. Даже маме моей люди говорили: «Чудная у вас дочка, слова дурного ни о ком не скажет». Я помню, точно помню. Но почему? Я что, верила им? Или все дело в умении прощать?
– Н-да, – сказала Нюгордша. – Много воды утекло с тех пор, и стоит ли ворошить прошлое?
– Но вы-то верите людям, да?
– Верю, конечно. Почему бы не верить? Хоть и сам видишь, как они себя ведут, и слухи доходят, да только это их печаль. Не верить, что они говорят, как думают, – еще горше и тяжелее.
– Смеркается, – сказала Анна. – Не смею вас задерживать.
– Мне спешить некуда, – отозвалась хозяйка Нюгорда, – прошло то времечко. Но, в общем, наверно, пора идти. Иногда стоит и прикусить язык, чтоб не наговорить лишнего.
В ту же ночь вой прекратился.
33
Близилась весна. Днем земля под деревьями от солнечного тепла курилась паром, а ночи стояли студеные, исчерна-синие. Полная сверкания и блеска, дивная пора. Лодка была почти готова к спуску на воду, но в «Кролике» никто о ней даже не заикался. Прилетели гаги. Однажды ночью потянуло ветром с моря. Катри лежала и слушала, вспоминая весенние ночи детства и ранней юности – тогда она часто ходила на берег, ждала, когда вскроется море. А как настанет время прилететь первым чайкам, шла встречать их, и обычно той же ночью они прилетали.
Да, это всегда случалось ночью. Я стояла, и мерзла, и слушала, и была совершенно одна, наедине с природой и ночью, и так же терпелива, как сейчас. И планы у меня были такие же большие, как сейчас, я думала покорить далекий мир, но моим планам недоставало опоры и ясной цели, в них было лишь только упорство. Теперь-то я знаю, чего хочу.
Катри не спалось. На рассвете она встала, оделась и вышла на улицу. Дул ровный крепкий ветер, было не холодно. Совсем скоро взойдет солнце, и всюду: на берегу, на льду, на небе – трепетал одинаково спокойный прозрачный свет, в котором не было красок. Стоя на дальнем конце рыбачьей пристани, Катри смотрела, как темный лед поднимается и опускается вместе с волнами в медлительном, долгом колыхании, то вверх, то вниз.
Но больших трещин пока не видно. Лед еще упругий. А далеко впереди, наверное, открытая вода. Лодку скоро спустят на воду. Почему же он все молчит…
Катри пошла дальше, к Маячному мысу, на полдороге она заметила пса, который следовал за нею по краю леса, временами скрываясь за деревьями, а у самого маяка исчез. Катри поднялась по ступенькам к запертой двери, солнце било ей прямо в глаза. Возле берега море вскрылось, тонкие льдины шуршали и шептались, ударяясь о камни, громоздились одна на другую, ломались. Вода была темная-темная.
Наскок был совершен без единого звука, но Катри почувствовала ярость пса, охваченного жаждой убийства, и потому, отпрянув к стене маяка, заслонила руками лицо. Прыжок был великолепен, вполне под стать громадному зверю, которому никогда не доводилось до конца выложить всю свою силу; на миг горячее дыхание пса обожгло ей горло, когти царапнули бетон, и массивная туша отлетела назад. Неподвижные, они смотрели друг на друга желтыми глазами. И вот пес прижал уши, опустил хвост.
А затем рывком повернулся и помчался на восток, прочь от деревни.
Когда Катри возвратилась домой, Матс был на заднем дворе, укладывал в поленницу дрова.
– Что случилось? – спросил он, едва увидев сестру.
– Ничего.
– Кто порвал тебе шубу?
– Пес. Но он промахнулся, ничего мне не сделалось.
Матс шагнул к ней.
– Ты все твердишь: ничего да ничего. Что с собакой?
– Убежала куда-то.
– Плохо дело, теперь уж, верно, не вернется. Одичает. Пропадет. А ты знай твердишь: ничего не случилось.
– Ладно тебе, – сказала Катри. – Что я, по-твоему, должна сделать?
– Позаботиться о ней! – воскликнул Матс. – Позаботиться! Ведь собака – твоя. Люди-то боятся.
– Матс, – сказала Катри, – ты поёшь с чужого голоса. Слишком много бывал с Анной. Смотри, ее общество тебе сейчас не очень полезно. – И Катри, не сдержавшись, крикнула в лицо любимому брату: – А ты как думаешь! Как думаешь! Разве я не старалась? Я заключила честную сделку, я старалась защитить, я подарила уверенность тому, у кого нет ни собственной уверенности, ни собственной цели, ничего вообще! Я подарила покой, я отдавала команды. Ну разве ты не видел, как я и пес шли по деревне, мы глядели на всех свысока и были точно одно существо, пес вышагивал уверенно и гордо, как король! Все дворняжки замолкали при виде нас. Мы могли положиться друг на друга, мы не бросали друг друга в беде, мы были одно, и я мечтала…
– О чем?
– Не знаю. Может, о том, чтоб вы мне верили, полагались на меня. Как закончишь, прикрой поленницу. За сараем кровельное железо валяется, его и возьми.
В передней Катри свернула свою шубу и запихала ее подальше в чулан, где семейство Эмелин хранило зимнюю обувь.
34
Ночи уже посветлели и становились все короче, и Катри потеряла сон. В конце концов она завесила окно одеялом, но без толку, все равно ведь знала, что снаружи весенняя ночь. Сон неразлучен с тьмою, светлые же ночи бессонны и полны тревоги.
Почему Матс на меня разозлился? Неужели не понимает? Неужели так трудно понять, что я из сил выбиваюсь, непрерывно из кожи вон лезу, подвергая все, что делаю, суровой проверке: каждый поступок, каждое слово, выбранное взамен другого. Когда не жалеешь сил, выкладываешься до последнего, в первую очередь должны засчитываться намерения, а не их конечный результат, верно? Когда собираешь все, что у тебя есть, и принимаешь на себя ответственность, и пытаешься защитить, не дать воли случайному, самоуправному… Если кто принял зависимое положение, его тревожить не надо, пусть он свято, безоглядно верит в того единственного человека, в учителя, который решает, и руководит, и дарит покой, – вот что им пора бы понять… И где же бегает пес, где его носит среди ночи, он никому больше не верит и поэтому стал опасен, как волк. Только волкам легче, они живут стаями, лишь чужаков-одиночек гонят прочь или убивают…
Катри вышла во двор. Пес не приходил, еда стояла нетронутой. На кухне горел свет. Анна открыла окно и крикнула:
– Катри! Это ты? Куда ты сунула мясные биточки?
– Внизу справа. В квадратной пластмассовой коробке.
– Ты вовсе не спишь? – спросила Анна.
– Не сплю. Сперва надо привыкнуть к такому свету.
– Раньше он мне нравился. Мне много чего нравилось. – Голос Анны звучал очень холодно.
– Ты была молодая.
– Да нет, так было совсем недавно. Кстати, есть мне ни капельки не хочется, а ты можешь забрать миску с улицы, собака не вернется. Она хочет, чтоб ты оставила ее в покое.
Анна погасила кухонную лампу. В гостиную ночной свет потоками вливался изо всех окон, выходящих на море. За спиной раздался голос Катри:
– Анна! Подожди немного, не уходи. Будь добра, расскажи мне, пожалуйста, что с тобой случилось.
Анна не отвечала, а Катри продолжила:
– Разве ты не понимаешь, о чем я?
– Еще бы не понять, – сказала Анна, голос ее изменился: в нем слышалась жалость. – Я понимаю, о чем ты. А случилось со мной вот что: я больше не вижу землю. – И Анна ушла, закрыв за собой дверь.
35
Прелестным тихим вешним утром Матс сказал:
– Ну, теперь можете посмотреть. Мы прибрали в мастерской и нынче не работаем.
Мальчик был весел, как пташка. По дороге он объяснил Катри и Анне, что недоделанных вещей Лильеберги никогда не показывают, даже заказчику нельзя войти в мастерскую, пока лодка не готова к спуску на воду. Конечно, чертежи – дело совсем другое, их можно просматривать сообща хоть сто раз, но потом остается лишь уповать на результат. Так что между знатоком-специалистом и заказчиком есть большая разница.
Когда они вошли в мастерскую, братья Лильеберг стояли в глубине, у верстаков, они поздоровались, в меру учтиво, и предоставили показ Матсу, он молодой, шустрый и еще не усвоил, что есть гордое молчание умельца. Пол был чисто вымыт, инструмент развешен и расставлен по местам. Посредине в полном одиночестве красовалась лодка, помеченная достославным вестербюским двойным «В». Матс давал разъяснения вполголоса, торопливо, вникал во все тонкости, водил Анну и Катри вокруг лодки и, в частности, обращал их внимание на сложные детали, потребовавшие долгих размышлений. Женщины говорили мало, но слушали серьезно и порой кивали, как кивают при виде доброй работы. Наконец Матс умолк, и они остановились возле штевня.
– Так-так, – сказал Эдвард Лильеберг, подойдя к ним. – Ну вот, теперь все ясно, все чин чином. Вскорости и на воду спустим, значит. Осталось уточнить только один важный вопрос, а именно – название. Как мы ее назовем?
Все молчали. В конце концов Анна коснулась рукой штевня и сказала:
– Может быть, «Катри»? Очень, по-моему, хорошее имя для лодки. К тому же это подарок – Матсу от Катри.
– А что, звучит недурственно, – заметил Эдвард Лильеберг. – В свое время и выпить бы не грех, когда она, как говорится, сойдет со стапеля.
Подошли остальные братья, поздоровались за руку и все вместе начали обсуждать, где лучше поместить название – на корме или, может, сбоку на рубке – и каким ему быть: сделать ли его из накладных латунных букв или вырезать на дереве.
– Но куда девалась Катри? – вдруг спросила Анна.
– Видать, ушла, – отозвался один из братьев Лильеберг, а сам подумал, что вообще-то Катри могла бы и здесь побыть, со всеми, ведь не каждый день лодку твоим именем называют.
– Что ж, тогда шабаш на сегодня, устроим, так сказать, роздых, – решил Эдвард Лильеберг. – Коли все довольны, можно и порадоваться.
Анна с Матсом пошли домой. Косогор совершенно раскис и был сплошь изрезан ручейками.
– Погоди-ка, – сказала Анна. – Каждый год с этим косогором неприятности. Хоть плачь.
– Я вот кой-чего не понимаю, – нерешительно начал Матс. – В тот вечер мы говорили про лодку, и вы, тетя, сказали…
Анна перебила:
– Да мало ли что люди говорят! Я ошиблась. Твоя сестра долго-долго копила деньги, чтоб подарить тебе эту лодку. И, кстати, никакая я не тетя. Я – Анна. Хватит ломать над этим голову, ты подумай вот о чем: как разместить койки, двигатель и все прочее.
Катри увидела модель лодки сразу, как только вошла в свою комнату. Матс поставил лодочку на окно, где она четко вырисовывалась на фоне неба. Катри закрыла дверь и, быстро подойдя к окну, поняла, что это – точная копия, вплоть до малейших деталей. Матс явно работал над ней очень долго. Дерево взял такое же. И чалка есть, и койки, и машинный отсек – словом, все. Накладки из латуни. На носу, по всем правилам каллиграфии, выгравировано название – «Катри».
Явились наконец. Анна пошла к себе. Матс поднялся по лестнице. Услыхав его шаги, Катри хотела было выйти навстречу, но оробела, и не могла, и не знала, что сказать, но в тот самый миг, когда он закрывал свою дверь, ее сомнения развеялись, она выбежала из комнаты и крепко обняла брата, всего на мгновение, и оба они не промолвили ни слова. Впервые в жизни Катри решилась обнять Матса.
К ночи ветер улегся и наступила тишина, только в деревне нет-нет да тявкнет собака. А из Анниной комнаты за целый день не донеслось ни звука.
Я знаю, она опять лежит в постели, укрылась с головой одеялом и видит сны, потому что не видит больше землю, а это значит, ничего ей не хочется. Она гнетет меня, придавливает к земле, она все время здесь со мной, как тяжкая обуза, эта Анна Эмелин. Помню, когда-то давно у нас была собака, которая загрызла курицу, так вот эту мертвую птицу привязали ей на шею, и бедняга весь день таскала ее за собой, а под конец просто лежала, не двигаясь, с закрытыми глазами, пришибленная стыдом. Жестокое наказание. Да уж чего проще – вызвать угрызения совести… Небось и дальше так будет, скорее всего. Она что же, воображает, будто лишь она одна устала, когда прячется под одеялом, от беспомощности, от отсутствия опоры, оттого, что мир не такой, каким он ей представлялся? Это моя вина?! Как долго человек вправе ходить в шорах, чего она хочет, эта Анна Эмелин, что еще ей от меня понадобится?.. Если она вправду была такая, как ей кажется, то все, что я делала, и говорила, и пыталась ей втолковать, все было ошибкой, постыдной ошибкой. Но простодушие давным-давно ее покинуло, гораздо раньше, она и не заметила как. Есть в ней что-то от хищного зверя, хотя ест она одну траву. И она об этом не знает, никто ей об этом не сказал – может, просто недостаточно ею интересовались, чтобы рискнуть. Что же мне делать? Сколько существует истин и чем оправдать то, во что люди верят?
То, что совершают? Самообманом? Засчитывается ли только результат? Я больше не знаю.
В пол стукнула Аннина трость, сердито, несколько раз подряд. Когда Катри сошла вниз, Анна сидела в постели, закутавшись в одеяло.
– Что ты там вытворяешь? Битых полдня топаешь над головой, туда-сюда, туда-сюда. А я пытаюсь заснуть.
– Знаю, – ответила Катри. – Только и делаешь, что спишь. Спишь, спишь, спишь. Думаешь, мне очень легко жить с мыслью, что ты убиваешь время во сне, поскольку все не вполне так, как ты себе представляла?
– О чем ты? – сказала Анна. – Что ты выбрала на сей раз темой для проповеди? Нет в этом доме покоя. Тебя не радует его лодка?
– Отчего же, радует. Ты поступила очень благородно. Вернее, просто-напросто справедливо.
– Ну ладно, – буркнула Анна. – Чем плохо, что я хочу спать? Правда, сейчас сон у меня, по твоей милости, совершенно прошел. Сядь и успокойся. Что опять не слава богу?
– Мне надо сказать тебе кое-что. Кое-что важное.
– Если это снова «Объединенная резина»… – начала Анна.
– Нет. Это очень важно. Выслушай меня. Пожалуйста. Я обошлась с тобой нечестно. С самого начала я лгала, плела о других людях всякие небылицы, я виновата и должна теперь сказать тебе об этом, теперь ничего не поделаешь, но сказать надо. – Катри говорила очень быстро, она стояла у двери, глядя мимо Анны, в стену.
– Странно, – заметила Анна, – очень странно. – Она встала, одернула платье, расправила покрывало. – Удивительный ты человек. Иногда мне казалось, что нет на свете никого серьезней тебя: другие люди болтают, а ты произносишь речи. Забавно только, что подчас ты вдруг говоришь вещи, которых от тебя совершенно не ждут. Ты сейчас забавляешься?
– Нет, – без улыбки ответила Катри.
– Ты можешь повторить все, что мне сказала?
– Нет.
– Ты сказала, что лгала мне.
– Да.
– И что это означает?
– Это означает, – через силу ответила Катри, – это означает, что другие тебя не обманывали. Я имею в виду людей, с которыми ты сталкиваешься. Тех, кто тебя окружает и кто пишет тебе письма. Они тебя не обманывали. Можешь им снова верить.
– Возьми сигарету и сядь, – сказала Анна. – Не стой с таким вот лицом. Пепельница найдется. Ты имеешь в виду, к примеру, лавочника и Лильеберга?
– Да.
– А может, и нашу несравненную фру Сундблом? – фыркнула Анна.
– Анна, дело серьезное. И очень важное.
Но Анну вдруг обуяла какая-то злая веселость.
– Важное? Что ты разумеешь под «важным»? Может, «значительное»? Может, имеешь в виду пластмассовые фирмы? Стало быть, они меня не обманывали? Милейшие люди – и они, и мои издатели? Безгрешные, в точности как эти от роду испорченные дети, которым бы только хапать, хапать, хапать… О чем ты толкуешь? Об этом, да?
– Анна, прошу тебя.
– Они меня не обманывали? Ни один из них не обманывал?
– Ни один.
– Очень ты странная, – сказала Анна. – Считаешь, доказываешь. Возводишь напраслину на всех и каждого, заставляешь в это поверить, а потом являешься и говоришь… смеешь явиться ко мне и говорить, что все это неправда?! Зачем ты так делаешь?
Они сидели друг против друга за столиком у стены. Анна пристально смотрела на Катри и вдруг подумала, что никогда не видела такого невеселого человека, как Катри Клинг.
– Стараешься быть доброй ко мне? – спросила она.
– Теперь ты подозрительна, – сказала Катри. – Одному можешь верить: я никогда не стараюсь быть доброй. Ладно, буду повторять все, что сказала, пока ты не поверишь.
– Но ведь тогда больше нельзя верить тебе?
– Да, нельзя.
Анна наклонилась к ней через стол.
– Катри, есть в тебе что-то… – Она поискала слово и, найдя его, продолжила: – Что-то слишком уж категоричное. И это заводит в тупик. Не отдохнуть ли тебе немного? – Она накрыла ладонью руку Катри. – Часок-другой. Может, тогда мы лучше поймем друг друга.
– Слишком категоричное? – переспросила Катри. – И заводит в тупик? – Она затушила сигарету. – Если уж кто категоричен, так это ты. И заведет твоя категоричность прямиком туда, куда ты хочешь. Я знаю. Я напишу тебе письмо.
– Не надо больше писем…
– Только одно. И его не понадобится прятать в шкаф. Я докажу тебе, что я виновата. Ты же сама говорила: я умею считать и умею доказывать. Вот и получишь подробнейшие доказательства моей вины.
– Катри, – сказала Анна, – может, все-таки отдохнешь немного, а? День-то был длинный.
– Да, – кивнула Катри, – длинный. Ладно, пойду я.
36
Вернувшись к себе, Катри вытащила из-под кровати чемодан. Открыла его и долго сидела на краю постели, прислушивалась. Вечер был тихий-тихий. Но безмолвный покой не давал ей совета, не говорил, что надо делать. Слова и образы, невысказанные либо опрометчивые слова и невиданные либо сверхотчетливые образы, промчались у Катри в мозгу, и единственное, что в итоге осталось, был пес – пес, неутомимо бегущий все дальше, под грозным знаком волчьей шкуры.
37
И вот настало то важное, тщательно выбранное утро: Анна вышла работать ни свет ни заря. Накануне она присмотрела местечко и отнесла туда скамеечку, низенькую, в самый раз, чтоб, сидя на ней, легко дотянуться до красок и банки с водой. Анна не пользовалась этюдником, этюдники казались ей слишком вещественными, слишком явными. Она хотела работать как можно неприметнее, пришпилив бумагу к дощечке на коленях, прямо под рукой. Освещение лучше всего бывает ранним утром, ну и вечером тоже, краски тогда набирают глубину, надо ловить мгновение, пока тени не поблекли и не стушевались.
Анна сидела, дожидаясь, когда в лесу растает утренняя дымка, полнейшая тишина царила кругом – все как полагается. Но вот наконец тени и туманы ушли прочь – и выступила земля, влажная, темная, готовая брызнуть ростками, что ждут еще своего часа. Немыслимо – портить эту землю цветастыми кроликами.
Каменное поле
Посвящается Оке
1
На Эспланаде распустилась первая зелень запоздалой весны. После дождя блестели, отливая чернотой, стволы деревьев, свежая листва подсвечивалась фонарями, и вообще Хельсинки был сейчас необычайно красив. В ресторане «Эспланадкапеллет» составляли на ночь стулья, и лишь кое-где по углам сидели еще последние гости. В честь ухода Юнаса на пенсию руководство газеты устроило банкет, сняв по такому случаю весь западный отсек ресторана с видом на парк. Застолье началось в семь часов.
– Ты что-то молчалив, – сказал Экка, заботам которого поручили героя дня. – Пошли потихоньку домой?
Ресторан был уже погружен во мрак, все было готово к закрытию, и лишь над их столом горел свет.
– Да, молчалив, – сказал Юнас. – И знаешь почему? Потому что на этой работе я испортил слишком много слов, все мои слова износились, переутомились, они устали, если ты понимаешь, что я имею в виду, ими нельзя больше пользоваться. Их бы надо постирать и начать сначала. Выпьем еще по одной?
– Хватит, пожалуй, – сказал Экка.
– Слова, – продолжал Юнас, – я написал для твоей газеты миллионы слов, понимаешь, что это значит – написать миллионы слов и никогда не быть уверенным в том, что ты выбрал нужные, вот человек и замолкает, становится все более и более молчаливым, нет, я хотел сказать – все молчаливее и молчаливее, и только слушает, да не смотри ты на него, он сам принесет счет, неужели ты не понимаешь, Экка, каково это – все время выспрашивать, выспрашивать, выспрашивать… Сенсации! – воскликнул Юнас, перегнувшись через стол. – Сенсационный материал и так далее и тому подобное…
– Знаю, – дружелюбно ответил Экка, – твое вечное присловье, твой псевдоним – «И так далее и тому подобное».
Он устал, завтра рано вставать, наконец он поймал взгляд официанта и, подписывая счет, сказал Юнасу:
– Все мы в одинаковом положении. Слова, слова, слова, а теперь идем домой. – Он собрал вещи Юнаса: сигареты, зажигалку, шутливые подарки коллег, договор на биографию; очков не было. – У тебя нет очков? – спросил он.
– Нет, – ответил Юнас, – поразительно, но очков у меня нет. Чего только мне не требуется, даже то, чего вообще не существует, чтобы попытаться понять, чем я, собственно, занимаюсь, а вот очки не нужны.
Они вышли в вестибюль, и, ожидая такси, Экка спросил, как поживают дочери Юнаса.
– У тебя ведь их две, не так ли?
– Как поживают? Не знаю, – ответил Юнас, – не спрашивал. Ты сейчас просто стараешься поддержать разговор, потому что устал. Они взрослые, красивые и мной тоже не интересуются. Нет, ты только посмотри, аспирин. Потрясающе. Первый раз газета догадалась снабдить меня аспирином. Экка, как прозвучала моя ответная речь? Я достаточно тепло всех поблагодарил? Ты ничего не сказал об этом. Не слишком ли много слов? Повторы были?
– Очень хорошая речь, – сказал Экка, – замечательная. А вот и такси.
2
Осенью позвонил Экка.
– Привет, это Экка. Как идут дела? Я имею в виду биографию.
– Ни к черту, – сказал Юнас. – Послушай-ка, что я тебе скажу: этот твой газетный магнат мне поперек горла! Ты прекрасно знаешь, что он сделал – скупил все эти бульварные еженедельники, о которых и упоминать-то неприлично, и создал концерн, чистой воды спекуляция, умный мужик, умный как собака и так далее и тому подобное, но чем глубже залезаешь в эту грязь, тем хуже она воняет. Экка, ты ведь сам знаешь, на чем он спекулировал, эта сволочь собрал вокруг себя всех сволочей – извини за повтор, ну все равно, всех сволочей, – лучше других умеющих погреть руки на сенсациях и сантиментах, и дал им дорогу, понимаешь, они и мысли-то свои выражать неспособны, а он прямо поощрял их портить язык! Относиться наплевательски к словам! Ты меня слушаешь?
– Слушаю. Но, Юнас, ты ведь знаешь, как это делается, чистое ремесло: получаешь дерьмо, а потом из этого дерьма получается конфетка…
– Получаешь, получается, – сказал Юнас. – Это повтор.
– Конфетка, понимаешь, – продолжал Экка, – твоя конфетка, не его. Сколько ты уже сделал?
– Я позвоню, – ответил Юнас. – Пока.
Юнас продолжал свои попытки написать об Игреке, так он его называл – Игрек. Букву «игрек» он почему-то не любил. Неделями он, бывало, вообще не присаживался к столу и все же постоянно ощущал присутствие Игрека, как ощущаешь присутствие человека, который молча смотрит тебе в затылок. И вновь наступила весна, а потом лето.
3
Пока мама была жива, она неукоснительно устраивала воскресные обеды, и, даже когда Карин и Мария переехали, мама продолжала соблюдать воскресный ритуал: уж один-то день в неделю она была вправе рассчитывать на посещение детей. Обычно, когда по радио било двенадцать, на стол подавалось телячье жаркое или рыба, чаще всего треска, с морковью и картофелем.
Потом из дома ушел папа. Первое время он не подавал о себе никаких вестей, но мало-помалу Иветт стала приглашать его на семейные воскресные обеды – ей было трудно расстаться со старыми привычками. Иногда он приходил, но чаще всего в последнюю минуту оказывалось, что у него сверхурочная работа в редакции.
После смерти матери Карин и Мария вернулись в свою старую квартиру и по-прежнему приглашали отца на воскресный обед, ритуал оставался неизменным, как и сверхурочная работа в последнюю минуту.
– Странно, – сказала Карин. – Когда он у нас был последний раз? В первое воскресенье апреля?
– Не помню, – ответила Мария, ей никогда не удавалось уследить за ходом времени. – Мне иногда кажется, что в столовой слишком темно и просторно. Может, нам обедать в кухне?
– Может быть. Но это неважно. Что нам делать с папой?
Вначале Юнас еще рассказывал им о биографии, которую он называл своим почетным заданием, потом замолк, и они не осмеливались расспрашивать; мама – та всегда расспрашивала, а он говорил, что она его подгоняет, и каждый раз это кончалось ссорой. Скорее всего, его «заклинило» – Карин и Мария слышали, как он употреблял это выражение.
И теперь, когда наступило лето, они решили, что папе нужно пожить за городом, почувствовать настоящее лето, покой, тепло и чистый воздух, взяться наконец за биографию, и чтобы поблизости не было ресторанов. На лето Карин и Мария снимали домик Векстрёма в Фэрьесундете, и, как правило, бывало дождливо и ветрено, но на этот раз, кажется, можно надеяться на хорошую погоду. Им удалось взять отпуск одновременно, как всегда. Домик, конечно, маловат, но папа может жить в комнате при бане, у моря, он ведь любит уединение. Все устраивалось как нельзя лучше. Папу тоже не пришлось долго уговаривать, они позвонили ему из местной лавки и рассказали, что они придумали. Из города он поедет автобусом и сделает пересадку в Ловисе.
У Фэрьесундета его встретит Векстрём, который и доставит его прямо до места, да, и не привезет ли он французский соус для салата, здесь в лавке его нет.
Когда папа сошел на берег, погода была по-прежнему великолепной, море и небо столь же синие и по проливу в полную мощь своих двадцати лошадиных сил носились моторки. Юнас был немногословен. С тех пор как они видели его последний раз, он словно усох, только лицо стало больше и, казалось, потеряло четкие очертания, усы поблекли, отросли и бахромой нависали над губой. На нем был городской костюм и шляпа.
Мария сказала:
– Но, папа, надеюсь, ты взял с собой что-нибудь из отпускного гардероба? В таком виде здесь ходить нельзя.
– Отпускной гардероб, – повторил Юнас. – Смешное выражение. Почерпнуто из дамского журнала, вероятно.
Карин сказала, что можно будет попросить что-нибудь у Векстрёма, размер, наверное, почти тот же, хотя Векстрём, пожалуй, шире в плечах и ноги у него подлиннее, ну, тогда, может быть, у кого-нибудь из его сыновей. Там увидим, добавила она, а сейчас пойдем посмотрим папину комнату! Давай чемодан.
– Нет, нет, – сказал Юнас. – Я сам.
Комнатка при бане оказалась совсем маленькой: стол, стул, кровать и угловой шкаф. Окно обрамляло воду и зеленые берега с равномерно чередующимися виллами и причалами. Помещение было точно создано для уединения, ничего лишнего.
– Очень мило, – сказал Юнас, но, разумеется, первое, на что он обратил внимание, было покрывало, такое же кружевное покрывало, какое лежало когда-то у них в спальне. Ничего, спрячу его в шкаф; Юнас посмотрел на дочерей – в этой крошечной комнате они казались выше и полнее, у обеих – светлые, плоские лица, как у их матери. Карин объясняла, для чего предназначены разные полки в шкафу и почему они решили, что комнатка при бане подойдет ему: здесь тебе никто не будет мешать, вон там, наверху, – лампа, бачок с керосином стоит в бане.
– Но сейчас, в июле… – сказала Мария, и Юнас отметил, что она по-прежнему не заканчивает предложений. Как и ее мать.
– Папа! – воскликнула Карин. – А где же пишущая машинка?
– В ремонте. Писать можно и карандашом, если понадобится. Где у вас тут пепельница?
– Я принесу. Помочь тебе распаковаться?
– Не надо, – сказал Юнас. – И пепельницу можно принести попозже.
Они ушли; он задвинул дверную щеколду и отпер чемодан. Головная боль усилилась. К тому же этот душный автобус и беспрерывная болтовня Векстрёма – о ловле трески, о новом пароме, которого они так и не получили, о сельской общине, муниципалитете, об обидах прибрежных жителей и так далее и тому подобное; этот тип, кажется, уже видел перед собой статью обо всех этих проблемах, напечатанную крупным шрифтом в воскресном приложении.
От аспирина, как правило, ни хуже, ни лучше, тут бы пригодился витамин «В». Юнас распаковал чемодан, вынул одну из бутылок, завернутых в белье, стакан для зубной щетки он обнаружил в бане, рядом с тазом для умывания и мыльницей, все в образцовом порядке. Он скатал кружевное покрывало и запихал его на самое дно шкафа. И наступил покой. Лишь с треском проносились мимо моторки да слышались крики купальщиков, наслаждающихся летними радостями.
Летние вакации – раньше, кажется, говорили так? Да, именно так. Отпуска появились позже. Отпускной гардероб, идиотизм. Но вряд ли здесь намного хуже, чем в городе. Просто нужно воспринимать все это как некую ситуацию. Что-то сделано, организовано, выполнено, может быть, они наконец передохнут, бедные девочки.
Он чувствовал себя получше, головная боль прошла. Юнас загасил окурок в вазе для цветов и положил на стол свои заметки об Игреке, стопка выглядела внушительной.
– Думаешь, из этого что-нибудь выйдет? – спросила Мария. – Что будем пить к обеду, пиво или молоко?
– Откуда я знаю. Решай сама.
– Не надо было тебе упоминать про машинку, – сказала Мария.
– Знаешь что, Мария, – сказала Карин. – Сколько помню себя, столько я помню эту пишущую машинку: то он говорил, что она в ремонте, то он ее забыл в очередной поездке, то было одно, то другое, и вообще-то давно следовало бы приобрести другую машинку и так далее и тому подобное. Узнаешь? Так что оставь все это, ты немножко запоздала.