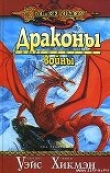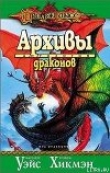Текст книги "Игрушечный дом"
Автор книги: Туве Янссон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
После обеда Фрида заявила, что вымоет посуду, она настаивала, умоляла, и когда Мария наконец уступила, благодарность Фриды даже смутила ее. Занявшись делом, Фрида изменилась до неузнаваемости. Движения ее стали быстрыми и ловкими, она вдруг исполнилась невозмутимой сосредоточенности и непостижимым образом в незнакомой кухне сразу нашла все, что ей требовалось.
– Мне очень приятно, что я смогу тебе помогать, – сказала она. – Я хорошо готовлю. И страшно люблю складывать в камине дрова так, чтобы их можно было разжечь одной спичкой. Я встаю рано. Что ты пьешь по утрам, чай или кофе?
Мария курила, сидя на ларе с дровами. Кухня вдруг преобразилась: в ней стало приятно и уютно.
– Просто не верится, что я не в городе, а здесь, с тобой! – сказала Фрида. – Я даже мечтать об этом не смела, это как в сказке!
Поздно вечером, уйдя к себе, Мария достала тетрадь и исписала несколько страниц. Она постаралась припомнить все движения Фриды, ее интонации, взгляд, молчание. Повторила их перед зеркалом. Все подходит. Это будет великолепно. Рука, прикрывающая рот, напряженная шея… Мария попробовала изобразить улыбку Фриды. Но улыбка не получилась, улыбка была ее собственная.
Мария допустила ошибку, разрешив Фриде заниматься домашним хозяйством. Фрида все меньше и меньше походила на Элен: беспомощную немоту сменила болтовня о домашних мелочах, уверенными движениями Фрида колдовала над обедом, сметала с веранды хвою, сгребала листья, чистила кастрюли, приносила дрова. И каждый раз, завершив то или иное дело, являлась к Марии с отчетом, ее карие глаза выражали собачью преданность и вместе с тем ожидание: кузина Фрида ждала похвалы. Марии больше не было пользы от ее присутствия. Через два дня она позвонила Хансу и попросила его прислать на дачу фру Хермансон, их прислугу.
– Я знаю, – сказала Мария, – фру Хермансон должна была приехать сюда позже, но мне она очень нужна. Ты сможешь эту неделю обедать где-нибудь в городе?
– Конечно смогу, – ответил Ханс, он был человек покладистый. – А как тебе живется с твоей кузиной?
– Хорошо, – сказала Мария. – Я рада, что пригласила ее. Это была удачная мысль.
Фру Хермансон приехала и взяла хозяйство в свои руки: кухню, печи, уборку – все. Фрида вернулась к отведенной ей роли. По вечерам они сидели перед камином. Мария почти все время молчала. Она наблюдала за своей кузиной.
– Знаешь, я подумала… – начала Фрида, – может, тебе надо починить какое-нибудь белье… или что-нибудь в этом роде.
– По-моему, нет.
– А я думала… Туман так и стоит.
– Да.
– Прости, если я вмешиваюсь не в свое дело, – очень тихо сказала Фрида, – но ты, наверно, сейчас работаешь над какой-нибудь ролью? Для какого-нибудь будущего спектакля?
– Да, – ответила Мария. – У нас осенью премьера. Я играю главную роль.
– О! Твоя первая главная роль!
– Угу. – Мария рассердилась. Как к этому относиться? Она наклонилась, пошевелила дрова в камине и спросила: – А ты откуда знаешь?
Фрида ответила не сразу, она испугалась. Потом прошептала:
– Я вырезаю все статьи о тебе, по-моему, до сих пор тебе давали слишком незначительные роли. И пишут про тебя не так, как следует. Правда.
Мария встала и подошла к бару, она налила себе рюмку и выпила, не отрывая глаз от залитых дождем окон веранды.
– Я сказала глупость? – еле слышно спросила Фрида.
– Почему? – Мария вернулась к камину, ее голос звучал очень холодно. Ей вдруг надоел этот эксперимент. – Не понимаю, решительно не понимаю, почему Ханс не хочет расставаться с этим вороньим гнездом. Здесь можно умереть с тоски. Особенно по вечерам.
Фрида вся сжалась в своем кресле.
Прекрасно, пусть думает, что это из-за нее. Совсем как Элен. Во втором акте, когда Элен даже не замечает их жестокости по отношению к ней…
Мария не спеша села и протянула руки к огню.
– Конечно, – сказала она, – я могла бы заставить его продать этот дом и приобрести другой – поменьше, поудобней и поближе к городу. Но я не могу быть с ним такой бессердечной. – Она быстро повернулась к Фриде и спросила: – Тебя когда-нибудь мучают угрызения совести?
– Да. – Ответ прошелестел, как вздох.
– Часто?
– Не знаю… Наверно, все время. Как-то так…
Фрида прижала руки к животу, как будто ей было больно. Подбородок опущен, лицо застыло, смотрит в сторону.
– Но ведь ты такая добрая, что ты такого делаешь, чтобы у тебя были угрызения совести?
– То-то и оно. – Фрида побледнела. – Я никогда ничего не делаю – ни хорошего, ни плохого.
– Почему? – Мария внимательно наблюдала за ней.
– Наверно, боюсь… Не знаю…
Вошла фру Хермансон, она задернула шторы, заперла дверь веранды и пожелала им доброй ночи. Потом они услыхали ее шаги на кухне и щелчок замка. Мария налила в рюмку немного чистого виски.
– Выпей, – сказала она Фриде. – Выпей одним глотком, как лекарство. Сразу станет легче.
Фрида посмотрела на рюмку, протянула руку и вдруг разрыдалась, натужно всхлипывая.
– Прости меня, – рыдала она, – мне так тяжело… Мучительно тяжело… Ты так добра, даже не понимаю, почему ты так добра ко мне…
Мария выжидала с неподвижным лицом. Когда Фрида успокоилась, она сказала:
– А теперь выпей. И давай ляжем спать, ты устала, вот и все. Прими на ночь аспирин.
Туман немного развеялся, и летняя ночь стала синей. Лежа в постели, Мария читала свою роль, медленно, внимательно прочитывала она каждую реплику кузины Фриды, они оживали одна за другой, звучали убедительно и логично. Роль была замечательная, просто замечательная. Но трудная. Только теперь Мария поняла, что для женщины, которую она должна играть, характерны не только покорность и незначительность, что она обладает еще и свойством, о котором говорят очень редко: естественной добротой. Той добротой, которая светится в улыбке кузины Фриды, но которую она не решается отдать другим, скрывает в себе, подавляет собственную щедрость.
Как же живет кузина Фрида? Чем она занимается? Я ничего не знаю о ней…
Мысли Марии отвлеклись, она отложила тетрадку. Внезапно тишина, царившая в доме, встревожила ее, она встала и открыла дверь на площадку. Нет, в щелке под дверью Фридиной комнаты света нет. Фрида спит. Или лежит и плачет? Мария подошла и прислушалась. Нет, тихо. Она облегченно вздохнула.
Вообще-то жаль, что пришлось вызвать сюда фру Хермансон. Но что поделаешь! Надо будет поручить Фриде починить простыни. Не завтра, конечно. А через день, через два. И может быть, рассказать ей какие-нибудь театральные сплетни, их все любят.
Дитя цветов
Когда Флура[1] Юханссон была молодая, ее часто сравнивали с цветком, она любила свое цветочное имя, считая, что оно ей вполне подходит. Тоненькая шея, пышные золотистые волосы, голубые, как незабудки, широко раскрытые глаза, их взгляд мог бы показаться вызывающим, если бы их не затеняли длинные, тщательно накрашенные ресницы. Она выбирала наряды для своего худенького тела в трогательно детской манере, но с большим вкусом, чаще всего носила юбки и девичьи блузки с круглым воротником, похожим на чашелистик. Скрытая такой пуританской униформой, ее кокетливая женственность проявлялась еще ярче, привлекая и волнуя. Тем, кто спали с ней, казалось, будто они соблазняют школьницу. Флура Юханссон говорила о своих любовных приключениях с обезоруживающей наивностью, словно рассказывала анекдоты о преданных домашних животных, которым нужно уделять внимание. Неприкрытая аморальность делала ее похожей на покачивающуюся на поверхности пруда кувшинку, к которой не пристает никакая грязь.
Отец Флуры, такой же некрасивый, грузный человек, как и его жена, работал дилером в сфере резиновой промышленности. Ее родители никак не могли прийти в себя от изумления, что произвели на свет такую красавицу, и ужасно баловали ее. Друзья Флуры походили на нее, они также были из привилегированного клана любителей легкой и приятной жизни. Все они от случая к случаю спали друг с другом, одалживали, меняли или крали партнера – одним словом, отличались удивительной свободой нравов, чем весьма гордились. Они даже не очень-то старались скрывать свои похождения. Их любовные утехи были свободны от пафоса серьезности и лишены естественной стыдливости и шарма.
Когда Флуре исполнилось двадцать два года, она совершенно неожиданно вышла замуж за американца по имени Джон Фогельсонг[2], одного из партнеров своего отца в резиновой промышленности. Этот Фогельсонг стал объектом весьма остроумных шуток, говорили, что Флура влюбилась в него исключительно из-за его фамилии, идеально подходившей к ее цветочному имени и цветкообразному облику. По случаю их свадьбы друзья написали массу изящных стихов и эпиграмм по поводу новой фамилии Флуры и связанных с ней ассоциаций, а также игривых стишков, разумеется, о резиновой промышленности, в невинно-скабрезной форме намекающих на богатый любовный опыт невесты, приобретенный до перемены фамилии. Джону Фогельсонгу, любезному, довольно банальному господину с усталым видом, эти стишки переводить не стали. Наутро он подарил Флуре ожерелье из бриллиантов и сапфиров. Сапфиры удивительно подчеркивали синеву ее глаз. А на другой день новобрачные отправились в Бали, где муж намеревался объединить медовый месяц с кое-какими деловыми встречами, после чего возвратиться в свой калифорнийский дом под Лос-Анджелесом.
Вначале родители, и прежде всего друзья, получали от Флуры довольно много писем, она с восторгом рассказывала про свой новый дом, сад, бассейн, яхту, про восхитительные празднества, на которых присутствовала масса знаменитостей всякого рода. Словом, все у нее было до того прекрасно, что просто не верилось. Потом она стала писать реже и не каждому из своих друзей, а по письму на всех вместе. Из ее писем они узнали, что Джон слишком много работает, что у него больной желудок. «Дорогие, ребятишки вы мои ненаглядные, как мне хочется, чтобы все вы были со мной здесь и подбодрили моего долговязого усталого бизнесмена. Бедняга, не много птичьих песен удается ему слушать в Лос-Анджелесе. Бизнес, бизнес, бизнес… Ах, если бы вы прилетели сюда и осыпали его букетами всех цветов радуги вашего остроумия и веселья! Он все время в разъездах… И его вовсе не радуют великолепные места, где он бывает, да у него и нет времени осматривать их. Ах, если бы я была на его месте!»
Постепенно Флура перестала писать длинные письма. Теперь она посылала красивые открытки из разных частей света. Иногда открытка представляла собой фотографию: Флура в пробковом шлеме верхом на верблюде или в шляпе с круглой тульей на лошади, Флура в бикини на пляже… На каждой открытке была подпись в виде цветка – счастливого, распустившегося, поникшего, в виде бутона, полного ожидания или со скрученными лепестками и виноватой миной. Иногда на цветок взирала взъерошенная птица с подобающей миной. «Дорогие мои ребятишки, такова моя жизнь. И до чего же она все же прекрасна!»
Друзья Флуры отвечали в том же духе, рисовали цветы и птиц, посылали ей дурашливые и ласковые картинки почти без текста. «Мы сидим на солнышке, пьем белое вино и думаем о тебе, злое дитя цветов, решившее покинуть нас!» И подписи. Под конец весточки от Флуры стали получать лишь папа с мамой. В каждом письме расплывчатое обещание увидеться. «Подумать только, как это было бы замечательно! Вы должны приехать сюда… В следующий раз, когда Джон поедет на север…»
Но до того, как Джон собрался поехать на север, началась война. А прежде, чем война кончилась, папа и мама умерли.
Спустя тридцать четыре года после того дня, когда Флура стала миссис Фогельсонг, привычный для нее мир рухнул. Усталого Джона Фогельсонга нашли мертвым в постели, а в лежавшем на ночном столике письме просьбу простить его. Поскольку он никогда не посвящал ее в свои дела (ей они были вовсе не интересны и не понятны), он лишь упомянул в постскриптуме, что жене делать ничего не придется, нужно лишь позвонить в фирму Шун энд Шун которой он дал необходимые инструкции. Оказалось, что он оставил в этой фирме банковский депозит, довольно скромный, и документы на маленькую квартиру в Сан-Педро. Квартира была очень маленькая, даже синий океан за окном не радовал Флору, а лишь усиливал ее печаль и чувство одиночества. Она все еще походила на цветок.
В такси по дороге к гостинице Флура узнала о том, кто умер, кто развелся, у кого уже есть внуки.
Все это казалось совершенно невероятным и пугало еще сильнее, чем жизнь в Сан-Педро.
В гостиничном номере на столе стояла бутылка вина и букет незабудок. Флура снова заплакала.
– Дорогие мои, – всхлипывала она, – ведь это мои цветы, мои старинные любимые цветы… Я знала, вы не сможете забыть свою Флуру!
Вечером встретились все, кто остался в живых. Встретились в отдельном кабинете ресторана гостиницы, они пили шампанское и весело, шумно вспоминали события тридцатипятилетней давности. Почти каждое восклицание начиналось словами: «А ты помнишь?» Все пили за Флуру, вокруг ее тарелки лежал венок. Под аплодисменты она надела венок на голову и сидела улыбаясь; без очков она не могла хорошенько разглядеть лица своих друзей, но наслаждалась яркими красками, движениями, огнями свечей, наконец-то ощущая тепло и спокойствие, чего она и ожидала от возвращения домой. На ней было длинное синее платье и ожерелье из сапфиров, на мгновение она подумала, не чересчур ли она вырядилась, но тут же решила, что это совершенно естественно, их пропавшее дитя Цветов, вернувшееся с другого конца света, и должно быть нарядным, как принцесса. Она высказала это им в кокетливо-лукавой речи, заявив также, что никогда более не будет испытывать чувства одиночества, и намекнула на галантные стишки, написанные ими давным-давно по случаю ее бракосочетания…
Шампанское и общее веселье взволновали ее, – вспомнив свою свадьбу, она начала всхлипывать, не окончив фразу, беспомощно опустилась на стул и подняла бокал:
– Чао, ребятишки мои, ребятишки мои… Ваша Флура просто неисправима, не так ли? Вовсе не изменилась!
Папино и мамино наследство досталось государству, и с помощью друзей Флура нашла квартиру, маленькую, еще меньше, чем в Сан-Педро. В шутку она называла ее своей берлогой, а иногда – своей мастерской. Друзья навещали ее, но великолепную атмосферу вечера встречи им не удалось сохранить. Воспоминания, вопросы и рассказы были исчерпаны, а описывать в деталях события давних дней было нелегко и неинтересно. Для тесного круга за маленьким столом был необходим интимный контакт, которого больше не было. Они вели светскую беседу, а не болтали по душам, иногда вдруг наступало неловкое молчание. Теперь Флура смогла близко рассмотреть своих друзей и увидела, что как их одежда, так и внешность порядком потрепаны. Ах, как они изменились! Под конец она решила рассказать про свои путешествия. Они слушали, смеялись, удивлялись, но комментарии их были скупы, а в вопросах не чувствовалось страстного желания услышать ответ.
Флура изо всех сил пыталась исправить положение, пыталась долго. Но они вечно были заняты своими заботами. Работа, состояние здоровья, внуки, нехватка денег и масса других проблем…
– Не обижайся на нас, – сказала ей Хелен, – мы не могли остаться прежними.
– Разумеется, не могли, – ответила Флура, – было бы ребячеством думать иначе. И все же… Хоть что-то должно остаться, стоит только подумать хорошенько…
Она позвонила школьным подругам, каким-то дядям и теткам, которые с трудом вспомнили, кто она такая. Она попыталась читать, но это непривычное занятие только взволновало ее и привело в уныние. Понять персонажей книг она не могла, чтение вызвало в ней лишь еще более острое ощущение одиночества и сознание, что жизнь проходит мимо.
У Флуры появилась привычка держать дома несколько бутылок вина, шампанского. Выпьет бокал-другой – и становится веселее и спокойнее. И чтобы всегда были цветы. Иногда ей даже не хотелось идти куда-нибудь обедать, она просто открывала бутылку, пробка весело и празднично взлетала к потолку, а Флура, сидя на диване, улыбалась с полузакрытыми глазами, пила шампанское, мысленно чокаясь с этим непонятным миром, который так сурово обошелся с ней. Она обнаружила, что выпитый утром бокал шампанского придает всему дню отблеск чего-то обещающего. Постепенно ее комната наполнялась людьми, о которых она вдруг вспомнила или которых где-то встретила, она принималась болтать с ними. Правда, заходили они ненадолго. Она приветствовала их, угощала шампанским. Ей нравилось шептаться с людьми, которые приходили и уходили, когда надоедали ей. Это забавляло ее.
Весной цветы стали дешевле, и она могла позволить себе покупать большие букеты, ей стоило только позвонить в цветочную лавку, и их приносили. Шампанское ей тоже приносили, по ящику зараз. Она старалась как можно реже выходить на улицу, здесь понастроили столько незнакомых домов, и город стал намного безобразнее городов в тех странах, где ей прежде доводилось бывать.
Изредка Флура встречала своих друзей, она старалась держаться с ними холодно и загадочно, стояла чуть нетвердо на ногах и большей частью молчала. Они начали было беспокоиться о ее состоянии и послали Хелен вразумить ее. Флура велела передать им привет, сказать, что она тронута их заботой и просила не печалиться о своем непослушном цветочке. Окружающий мир обволакивал ее все более густым и ласковым туманом. Ей стало все легче засыпать на часок утром, на пару часов днем. Вечерние сумерки, утро, ночь перестали для нее быть неумолимым течением времени, ей больше не приходилось ничего ждать.
Флура Фогельсонг, расстелив на софе соболью шубу и надев синее платье, принимала невидимых гостей и рассказывала им про свою жизнь.
– Глядя на меня, – шептала она, – можно подумать, будто я всегда была примерной замужней дамой. Ах, это вовсе не так! Вы мне не верите? Лежа на этой собольей шубе, я принимала любовников… «Ты такая хрупкая, – говорили они, – как фарфоровый цветок, до тебя едва осмеливаешься дотронуться…» Чао, хотите шампанского? Вам довелось бывать в Хуан-лес-Принсе? До чего же там весело! Там веселятся ночь напролет, разумеется, в летний сезон… Ночью взбредет тебе в голову искупаться, побежишь на берег и плаваешь при луне… нагишом… Прыгнешь в машину и помчишься в Монако через границу, казино открыто круглые сутки… Неужто вы уже собрались уходить? Нет, нет, не извиняйтесь, я, по правде говоря, жду одного человека… это очень личный визит… К тому же я хочу немного вздремнуть.
И Флура в самом деле заснула на собольей шубе. День сменился вечером, она проснулась и выпила немного шампанского, всего один бокал, чтобы в голове у нее немного прояснилось, чтобы видеть окружающий мир отчетливее.
Летняя книга
Утреннее купание
Всю ночь лил дождь, его сменил жар раннего июльского утра. Голые склоны горы уже высохли, но мох в расселинах еще хранил в себе влагу, и все краски казались сочнее обычного. Внизу, под верандой, буйствовал настоящий тропический лес, окутанный утренней дымкой. Трава и цветы, как назло, росли так густо, что того и гляди обломишь какой-нибудь стебелек, поэтому бабушка осторожно шарила между цветами, прикрывая одной рукой рот и каждую секунду рискуя потерять равновесие.
– Что ты делаешь? – спросила София, – Ничего особенного, – ответила бабушка. – То есть я хотела сказать, что ищу свою вставную челюсть, – добавила она сердито.
Девочка спустилась с веранды и деловито поинтересовалась:
– Где ты ее обронила?
– Здесь. Я стояла на этом самом месте, она и упала сюда, в пионы.
Бабушка и внучка принялись за поиски вместе.
– Давай я поищу, – сказала София. – Ведь тебе трудно стоять на четвереньках. Пусти-ка. Девочка нырнула под цветочную крышу и поползла между зелеными стеблями по мягкой черной земле. Ух, как тут было здорово, в этом запретном царстве. А вон и зубы – белые, острые, целая челюсть!
– Нашла! – София поднялась. – На, вставь их.
– Только не смотри на меня, – сказала бабушка, – я стесняюсь.
София спрятала руку с челюстью за спину.
– А я хочу посмотреть.
Тогда бабушка быстро вставила зубы, и оказалось, что ничего интересного в этом нет.
– Бабушка, а когда ты умрешь? – спросила София.
– Скоро. Но тебя это не касается.
– Почему?
Бабушка не ответила, она шла все дальше по склону к ущелью.
– Туда нельзя! – закричала София. Бабушка презрительно взглянула на нее.
– Знаю. Папа не разрешает нам ходить в ущелье. Но мы можем успеть, пока он спит.
Они медленно спускались с горы, мох скользил под ногами, солнце поднялось еще выше и высушило последнюю влагу, теперь, казалось, весь остров купался в солнечном свете. Было очень красиво.
– И тебе выроют яму? – участливо спросила София.
– Конечно, – ответила бабушка. – Большую яму. – И лукаво добавила: – Нам всем места хватит.
– Почему? Они шли к мысу.
– Так далеко я еще никогда не заходила, – сказала София. – А ты?
– И я тоже.
Вот и мыс. Гора в этом месте спускалась в воду темными террасами, и каждый такой шаг в темноту был окантован светло-зеленой бахромой из водорослей, которые то набегали с волной на каменную площадку, то снова уходили в море.
– Я хочу купаться, – сказала София. Она ждала, что бабушка возразит, но та будто и не слышала ее слов. София стала раздеваться, медленно и опасливо, не очень-то доверяя молчаливому согласию бабушки. Ледяная вода обожгла ноги.
– Холодная.
– Конечно холодная, – сказала бабушка, все еще погруженная в свои мысли. – А ты как думала?
София вошла в воду по пояс и остановилась.
– Плыви, – подбодрила ее бабушка. – Ну, что же ты?
Тут же глубоко, подумала София. Она, наверное, забыла, что я еще ни разу не плавала одна на глубине. Девочка вылезла из воды, уселась на камне и сказала как ни в чем не бывало:
– Сегодня будет отличный денек. Солнце поднялось совсем высоко. Остров и море блестели, залитые солнечными лучами, воздух казался невесомым.
– Я умею нырять, – сказала София. – А ты знаешь, как ныряют?
– Конечно, – ответила бабушка. – Нужно собраться с духом, разбежаться и прыгнуть, вот и все. Чуть заденешь ногами листья фукуса (Род бурых водорослей.), коричневые такие, знаешь, и скользишь вниз, задержав дыхание. Вода вокруг светлая и прозрачная, только пузырьки бегут наверх, а ниже все темнее и темнее. Потом поворачиваешься, поднимаешься на поверхность и делаешь вдох. Ну и плывешь. Просто плывешь к берегу.
– И все время с открытыми глазами.
– Еще бы. Ныряют всегда с открытыми глазами.
– Ты веришь, что я умею нырять, можно не показывать? – спросила София.
– Верю, верю. Одевайся, пойдем скорей домой, пока папа не проснулся.
Не много мне теперь надо, чтобы устать, подумала бабушка. Как только вернемся, прилягу отдохнуть. И не забыть бы сказать ему, что ребенок до сих пор боится глубины.
Лунный свет
Это случилось в полнолуние, в апреле, когда море было еще покрыто льдом. София проснулась и вспомнила, что они вернулись на остров и что спит она теперь на маминой кровати, потому что мама умерла. В печке вовсю полыхал огонь, языки пламени, казалось, доставали до самого потолка, к которому были подвешены для просушки сапоги. София спустила на холодный пол босые ноги и подошла к окну.
Лед был черный, и на нем, посреди этой черноты, София увидела за открытой заслонкой полыхающий в печке огонь, и даже два огня, один подле другого. Во втором окне на земле тоже горели два костра, а в третьем дважды отражалась вся комната, с чемоданами, сундуками и ящиками с откинутыми крышками, а в ящиках, чемоданах и сундуках этих было полным-полно мха, снега и пожухлой травы. И все это посреди кромешной тьмы. Софии показалось, что вдали, на горе, она разглядела рябинку, а неподалеку от нее двух детей. И темно-синее небо над ними.
София снова легла на кровать и стала смотреть на огонь, плясавший на потолке, и, пока она лежала, остров постепенно наступал на их дом, все ближе и ближе. И вот они уже спали на прибрежном лугу, на ее одеяле белели снеговые пятна, а море все наступало. Кровати заскользили по черному льду, в полу раскрылся узкий фарватер, и все их чемоданы и сундуки выплыли по нему на лунную дорожку. Полные тьмы и мха, они были открыты и покидали их дом навсегда.
София протянула руку и осторожно тронула бабушку за косу. Бабушка сразу же проснулась.
– Послушай, – прошептала София, – я видела два огня в окне. Почему там два огня, а не один?
Бабушка задумалась и ответила:
– Потому что у нас двойные рамы. Помолчав минуту, София спросила:
– Ты точно знаешь, что наша дверь заперта?
– Она открыта, – сказала бабушка. – Она всегда открыта, спи спокойно.
София завернулась в одеяло. Она подождала, пока весь остров не выплыл на лед и не стал удаляться к горизонту. А когда София уже засыпала, встал с постели папа, чтобы подбросить дров в печь.
Заколдованный лес
На противоположной стороне острова, за горой, стоял мертвый лес. Там всегда дул ветер. Вот уже много сотен лет лес пытался расти вопреки бурям и поэтому стал не похожим ни на один другой лес в мире. Проплывая мимо на лодке, можно было увидеть, как ветер ломал и корежил каждое деревце, заставляя их чуть ли не ползком ползти по земле. Постепенно некоторые деревья, не выдержав натиска, ломались и падали и, догнивая свой век, где подпирали, а где придавливали еще уцелевшие и зеленеющие верхушками – так в один клубок тесно сплетались упрямство и покорность. Земля была устлана бурой хвоей, кроме тех мест, где ели, повинуясь судьбе, стелились по земле, они росли с неуемной жадностью, влажные и блестящие, как деревья в джунглях. Этот лес называли заколдованным. За долгие годы борьбы он сам нашел себе форму, и равновесие между жизнью и смертью было столь ненадежно, что малейшее изменение таило в себе беду. Нельзя было ни вырубить просеку, ни убрать упавшие деревья – и то, и другое могло бы привести к гибели всего заколдованного леса. Невозможно было осушить почву и вырастить что-нибудь за этой плотной, непроходимой стеной. Где-то в глубине за зарослями кустарника, в вечном полумраке, жили птицы и мелкие звери, в тихую погоду оттуда доносились шуршание крыльев и торопливый топоток лап. Но редко когда можно было увидеть этих зверей и птиц. Вначале, когда семья только поселилась на острове, папа с Софией решили сделать заколдованный лес еще таинственней, чем он был. Для этого они свезли на берег старые пни и сухие ветви можжевельника с соседних островков. Эти причудливые коряги, белесые от ветра и воды, были по-своему красивы. Когда их затаскивали наверх, они трещали и обламывались, оставляя за собой широкую колею. Бабушке это занятие не нравилось, но она только молча мыла лодку, терпеливо ожидая, когда папе и Софии надоест заколдованный лес. И тогда она стала наслаждаться им в одиночестве. Она не спеша пробиралась сквозь заросли папоротника, обходя болотную воду, потом, утомившись, ложилась на землю и разглядывала небо сквозь завесу из серого мха и веток. Когда она возвращалась, и ее спрашивали, где она пропадала, бабушка отвечала, что, кажется, немного вздремнула.
За лесом, в глубине острова, наоборот, царили чистота и порядок, как в парке. На земле, пропитанной весенними дождями, не валялось ни веточки, к морю вели узкие аккуратные тропинки. Только дачник или совсем уж неотесанная деревенщина пойдет прямо по мху. Им невдомек, сколько ни повторяй, что мох самое нежное растение, какое только бывает. Наступишь на него один раз – он поднимется после дождя, наступишь второй раз – уже не поднимется. А наступишь в третий раз – умрет вовсе. Это все равно что гага: стоит спугнуть ее с гнезда три раза, и она уже никогда не вернется туда.
Где-то в середине июля надо мхом вырастает красивая высокая трава. Зацветают, развеваясь на ветру, легкие метелки, и тогда весь остров, истомленный июльской жарой, на неделю одевается в невесомое полупрозрачное покрывало. Невозможно вообразить себе ничего более первозданного и нетронутого, чем этот летний пейзаж.
В заколдованном лесу бабушка любила вырезать из дерева диковинных зверей. Ветки и сучья превращались в ее руках в звериные лапы и морды со смутным, едва понятным выражением. Фигурки таили в себе древесную душу, изгибы их спин и лап сохраняли присущие растениям необычные формы, они все еще были частицей гниющего леса. Иногда бабушка вырезала их прямо из пня или ствола. Этих деревянных существ становилось все больше и больше. Они сидели, прочно насаженные верхом на ствол, и повисали на ветвях или безмятежно дремали у корней, спустив простертые руки в болотную воду. Иногда из сумерек выглядывал только один силуэт, иногда же сразу два или три, слитые воедино в схватке или любви. Бабушка резала по старому дереву, уже нашедшему свою форму, она выбирала такие стволы и ветки, которые выражали то, что она хотела.
Однажды она нашла в песке большой позвонок какого-то животного. Позвонок был слишком тверд, чтобы его обрабатывать, но и без того красив, так что она просто принесла и оставила его в заколдованном лесу. Она нашла еще несколько костей, выброшенных морем на берег, белых или посеревших от старости.
– Чем это ты занимаешься? – спросила как-то раз София.
– Играю, – ответила бабушка. София забралась в заколдованный лес и увидела там бабушкиных чудищ.
– Это что, выставка скульптур? – спросила она.
– Ничего похожего, – ответила бабушка, – скульптуры – это совсем другое.
Они стали собирать кости вдвоем. Собирать что-нибудь – дело особое, в это время голова только тем и занята. Если, например, ищешь бруснику, взгляд твой ловит только красное, а если кости – то белое, и, где бы ты ни находился в это время, не замечаешь ничего, кроме костей. Иногда попадаются тонкие, как иглы, очень красивые и острые, такие кости несешь с большой осторожностью. А иногда наткнешься на огромную бедренную кость или каркас из ребер, похороненный в песке, похожий на шпангоут с затонувшего корабля. Этих костей существуют тысячи, и все разные.
Все свои находки бабушка с Софией относили в заколдованный лес, обычно они ходили туда вечерами. Под деревьями они складывали белые узоры, словно знаки тайнописи, а закончив, садились отдохнуть, поговорить и прислушаться к птицам, снующим в кустарнике. Один раз они увидели, как оттуда вылетел тетерев, а в другой – заметили небольшую сову, сидящую на ветке. Ее очертания были хорошо различимы на фоне вечернего неба. Раньше совы никогда не прилетали на остров.
Однажды утром София нашла потрясающий череп какого-то большого животного, нашла совершенно самостоятельно. Бабушка сказала, что это, наверно, череп тюленя. Они спрятали его до вечера в корзину. Закат в этот день был особенно ярким, зарево разлилось по всему острову, так что даже земля казалась багровой. Они затащили череп в заколдованный лес. Он стоял там, сверкая оскаленными зубами. Вдруг София заплакала.