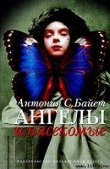Текст книги "Каракалпак - Намэ"
Автор книги: Тулепберген Каипбергенов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
12
Решили меня отдать в учение. А было мне тогда лет пять. Собрался домашний совет. Дедушка и бабушка сошлись на том, что нас с Арухан (это их последний дочь, младшая сестра моего отца, которая, разумеется, мне доводилась тетей, но я называл ее сестрицей, потому, во-первых, что сам считался как бы сыном бабушки и дедушки, а во-вторых, была она старше меня всего на пять лет) пора уже отдавать в учение. Но вот кому именно отдавать, они никак не могли решить. Дедушка говорил о школе, бабушка – о мулле. А за несколько дней до этого учитель уже заходил в наш дом и просил направить Арухан в школу, но бабушка наотрез отказалась: «Моей дочери нечего там делать». И учитель ушел ни с чем.
Дедушке это не понравилось. «Плохо, если девочка останется неучем», – говорил он.
«Успеет еще, – стояла на своем бабушка. – Сперва отдадим детей мулле. Сперва исполним свой долг перед Аллахом».
Надо объяснить, что обучение у муллы было одним из пяти условий, без неукоснительного исполнения которых человек не может считаться настоящим мусульманином.
«Да чему он сможет научить-то, твой мулла? – возражал дедушка. – Все молитвы, какие надо, я и сам заставлю их вызубрить».
Но бабушка оставалась непреклонной.
Нам с сестрицей было совершенно безразлично, у кого учиться. Мы не знали ни муллы, ни учителя, ни те науки, которые они нам преподадут. Но в школу надо было ходить днем, когда и без того всяких дел и забав вдосталь. А к мулле – на ночь глядя и втихую. Это еще приманивало нас и тайной.
В конце концов победа осталась за бабушкой, Днем она напекла целое блюдо баурсаков, а с наступлением темноты взяла нас с сестрой за руки, блюдо с баурсаками установила себе на голову и быстрой походкой направилась к дому муллы.
Был первый день уразы – мусульманского поста. Мы с утра ничего не ели, а баурсаки пахли так вкусно, что я думал только о них, а на все остальное почти не обращал внимания, поэтому, как мы вошли в дом муллы, как нас приняли и все такое прочее, этого я не помню. Помню только, что с пола поднялся безбородый старик, длинный и тощий, как ремень. Лицо красно-темное, словно старая медная пряжка. И голос у него тоже был высоким и тощим.
– Ассаляму-алейкум, бабушка Бибизада! Значит, все же привела чад своих под руку Аллаха? Пусть же бог примет твою мольбу.
– Вуалейкум-ассалам! – ответила бабушка с поклоном. – Прими детей моих в свое распоряжение. Кости их – наши, мясо – твое.
Помнится, в ту минуту бабушкино присловье меня напугало, показалось мне людоедским. Это позже я узнал, что означает оно следующее: основа – наша, а форму ты твори как сочтешь нужным. Правда, есть еще одно значение: можешь бить их, но кость не повреди, а мясо нарастет.
Правильно сделала бабушка Бибизада, что привела детей сюда. Разве в школе научат старших уважать, обычаи блюсти, бога бояться? Нет. Там все только об уме заботятся. А много ли его надо – того не разумеют. А вы вот послушайте, что мудрость-то гласит.
Мудрость, которую возгласил мулла. Сотворил бог человеков и решил проверить, сколько тем человекам ума надобно. И стал он им поочередно мозг вкладывать. Одному малую толику вложил. Другому – поболе того. Третьему еще добавил. А последнему от всей щедрости своей вложил столько, сколько в голове поместилось. После того призвал всех пред очи свои и вопросил:
– Сотворил я мир и вас, человеков, и знать желаю, довольны ли вы творением моим. Речите, рабы божьи, все по своему разумению и гнева моего не бойтесь.
– О всесильнейший и всемогущий! – воскликнули все в один голос. – Велика мудрость твоя, бесконечна благость твоя, и не нам, рабам твоим, судить деяния бога нашего.
И лишь один, самый мозговитый, вскричал:
– Полон скверны, боже, сей мир, тобой сотворенный. И скверен есть человек, сотворенный тобой!
И сказал ему Аллах:
Ты один не доволен моим творением. Тебя одного я должен исправить.
Тут подоспели господни слуги и надели на голову тому человеку волшебную черную шапку. Под той шапкой сразу умалился ум его, а вместе с умом умалилась и гордыня его, и воскликнул тот человек:
– Прости, всеблагой и всемогущий, прости мне глупые и дерзкие речи мои и не гневайся на меня, грешного!
Обещал Аллах не карать рабов своих и слово свое законом поставил. Но того черношапочника приметил и долго мольбам его не внимал, почитая их за глас умствующей гордыни. Оттого народ наш беды великие претерпел. И вот теперь, когда всевышний снова вспомнил о чадах своих, в школах отвращают детей от слова божьего. Боюсь, ах, боюсь я, как бы опять Аллах не отвернулся от нас, черношапочников.
И еще. Повелел господь слугам своим лепить человеков из глины. И замесили слуги господни два замеса: мягкий – . для тела, крутой – для головы. И стали лепить из той глины тела и головы и приставлять головы к телам. Но одной головы не хватило, и стали господни слуги снова готовить крутой замес, а тем временем тело с недостающей головой прикрыли шапкой.
Но тут явился бог, и увидел он человеков глиняных, лежащих бездыханно, и не заметил он, что один из человеков тех еще головы своей не обрел, и, не заметив этого, вдохнул Аллах жизнь во всех человеков разом.
И гласит мудрость, что тот из людей, кто не знает молитв намаза, и есть потомок того безголового. Помните это, чада, и разумейте.
Когда мы возвращались домой поздно вечером, я все отчетливо помнил, а вот уразуметь-то как раз никак не мог. Кто же я? Потомок того черношапочника, которому господь отпустил излишек ума, или потомок того безголового. Получалось, что мозговитый бога не хвалит и безмозглый – тоже. Получалось, что ум и глупость равны, а этого в свои пять лет я никоим образом уразуметь не мог. Да, признаюсь, и сегодня понимать это отказываюсь.
* * *
На следующее утро нас разбудил дедушка и велел побыстрее собираться, потому что он хочет отвести нас с сестрицей в школу.
Одевался я медленно, не спеша, поскольку учиться мне больше не хотелось. Но раз дедушка велит – значит, надо выполнять.
Под школу в ауле был отдан большой дом бывшего бая Мадияра. Он стоял в центре аула, и уже на подходе к нему мы увидели, что к дверям школы со всех сторон тянутся ребята, кто поодиночке, кто парами, а кто и целой гурьбой. Все они были заметно старше меня. В большинстве – сверстники Арухан, но некоторые еще взрослее.
К нам вышел учитель. Я его сейчас плохо помню, потому что ничего примечательного в нем не было. Среднего роста, сравнительно молод, одет обыкновенно, голос как голос, обращение вежливое. Из старших был там лишь мой дедушка, и учитель учтиво с ним поздоровался.
– Извините, уважаемый Хакимнияз, но ваш внук, по-моему, еще мал. Сколько ему лет?
– Уважаемый учитель, способности человека определяют не его высота от пяток до макушки, а то, что у него под макушкой. Уверяю вас, он поймет все, что понимают другие дети. Вот увидите.
– Хорошо, пока пусть остается, а там поглядим.
Так я впервые переступил порог школы. Но, переступив его, попал не в класс, а в столовую. Зная, что идет ураза, нас всех решили, видимо, сначала накормить, потому что какое же учение на голодный желудок, много ли усвоит голова, если живот пуст? Ребята и те из них, кого родители заставляли держать уразу, набросились на поданный нам молочный суп. Только моя сестра молча отодвинула тарелку.
Ты что, ночью ела саарлик?[25]Note25
Специальная пища, которую едят на рассвете во время поста.
[Закрыть] – спросил учитель.
– Да, – ответила она.
– Значит, ты держишь уразу?
– Бог велит поститься, – сказала сестра, не поднимая глаз.
Все ребята дружно засмеялись, и даже те, кто сам постился, боясь ослушаться родителей.
Арухан не выдержала такой обиды, словно испуганный козленок метнулась в сторону и, схватив меня за руку, побежала из школы. Дома она заявила, что больше туда не пойдет ни за что на свете. А одного меня в школу никто не отпускал.
Однако скоро мы перекочевали в другой аул. На то была своя причина.
Брат моего дедушки Бекнияз жил в нашем же ауле, но в другом доме. Однако в колхоз они записались как одна семья. И членами артели стали от дома Бекнияза его жена – тетушка Менли, а от дома Хакимнияза – мой отец, Каипберген.
Однажды у нашего двора остановился председатель артели, позвал дедушку и, не слезая с коня, стал кричать:
– Вы мне срываете все показатели. Если завтра ты со своей старухой и ваша повестка Гулхан не впишутся в колхоз, то катитесь из моего аула, и чтобы ноги вашей тут не было!
И даже замахнулся на дедушку плетью. Дедушка ответил:
– Пока в председателях такой болван, как ты, я вступать в артель не буду.
Вечером он долго совещался с братом Бекниязом, и сообща они решили, что нам надо откочевывать в другой аул. Хотя многие в семье были против этого, но дедушка не изменил своего решения.
В новом ауле пас приняли хорошо, и там мой отец с матерью тут же вступили в колхоз, а дедушку с бабушкой никто в колхоз не тянул. Оказывается, если в артели состоят молодые, то стариков вписывать в нее и необязательно.
В новом ауле дедушка снова хотел отвести нас в школу, но Арухан уперлась и, сколько ее ни уговаривали, лишь молчала, тупила глаза да пряталась за спину бабушки. А меня одного в школу не приняли. Как дедушка ни упрашивал учителя, как ни уговаривал, какие поговорки и мудрые изречения ни приводил в доказательство своей правоты, но пришлось мне ждать еще три года.
13
Однажды в середине зимы под вечер к нам в дом вошли четыре старца в сопровождении коше-бия. Их приняли как подобает, и через некоторое время паша последняя курица уже варилась в котле. Мать очистила немного джугары и принялась молоть ее, дедушка в ожидании ужина потчевал гостей разговорами, я занялся подбрасыванием топлива в очаг, а сестрица Арухан возилась в углу с малышками, чтобы они не шумели и не мешали беседе аксакалов.
Из беседы аксакалов:
– По мне, уж лучше прислуживать гостям, чем самому гостем быть, ибо все время приходится думать, а достоин ли я такого почета, который мне оказывают?..
– Известно, что кислый айран из добрых рук вкуснее сметаны из рук недобрых…
Удивительное дело: когда обычный человек идет в гости к большому начальнику, то несет с собой больше, чем тот сможет съесть, и наоборот, когда большой начальник идет в гости к обычному человеку, то является с пустыми руками, наедается досыта и еще подарок уносит…
Щедрость щедрости розни. Иной хозяин так закармливает и задаривает гостя, как будто хочет ублажить врага…
– Но таких немного. Народ-то у нас простосердечный. У каждого все на лице написано…
– Недаром предки говорили: «Лучше быть обманутым, чем обманщиком»…
– Ибн Сина говорил: «Сколько богатства ни копи, а твое лишь то, что съел. Остальное достанется другим». Верно сказано!..
– Некоторые думают, что наш закон гостеприимства заставляет хозяина улыбаться гостю и ухаживать за ним. О невежды! Наш закон гостеприимства позволяет хозяину лишний раз проявить свои лучшие качества перед людьми…
Из рассказов аксакалов. Один торговец ездил из аула в аул и продавал свой сладкий товар. В одном ауле он задержался надолго. Это пришлось не по нраву его двенадцатилетнему сыну, ибо сыну было скучно. Все люди того аула работали с утра до ночи. И дети людей того аула тоже работали со своими отцами и матерями. Сыну торговца не с кем было поиграть, и он сказал отцу:
– Отец, уедем отсюда. Тут живут скучные люди.
– Нет, – сказал ему торговец, – с такими людьми можно творить чудеса.
Сказав это, он повел сына в сарай, где хранил свой товар. Привел и приказал:
– Принеси-ка два ведра воды.
Исполнил сын отцово веление. Принес воду. Открыл торговец мешки с сахаром, разбрызгал воду, и ни единая капля не упала на пол, всю воду впитал сахар. И сказал тогда отец сыну:
– Вот видишь, сын, свершилось чудо. Два ведра, это, считай, батман. Ты принес воду, а у нас прибавилось сахару. Ни в одном другом месте я не мог сотворить такое чудо. А с этими смирными и наивными людьми смог. Так куда же мы пойдем от такого народа?
Сын торговца понял слова своего отца и заулыбался.
Говорят, что эти бесхитростные люди, которые никогда никого на свете ни в чем не подозревали, – наши предки. Есть такое предание.
Еще. Один джигит поехал на коне в соседний аул, а вернулся пешим, но при этом очень радостным.
– Сынок, где твой конь? – вопрошает его отец. – Коня украли! – ответствует джигит.
Так чему же ты возрадовался? – вопрошает отец.
– Как же мне не возрадоваться, – ответствует сын. – Ведь когда коня крали, меня на нем не было. Будь я в седле, так и меня бы украли вместе с конем, и твоя печаль, отец, была бы вдвое горше.
Отец не знал, как возблагодарить сына своего, и на радостях отдал ему новую черную шапку, сшитую специально для дорогого гостя.
Уж не тому ли джигиту доводимся мы прапраправнуками?
Еще. Жил-был один многодетный отец, и учил он своих сыновей уму-разуму и добру-помощи. Учил их любить всякую живность.
И вот однажды читал он сыновьям свои назидания, а в это время над их головами пролетела вереница белых лебедей. И тут же один из сыновей того человека отделился от остальных и побежал за лебедями, вытянув перед собой свою черную шапку.
– Эй, сынок, – крикнул отец, – далеко ли собрался?
– Не удерживай меня, отец, – отвечает тот, – Если одна из этих птиц вдруг снесет яйцо, то оно может упасть и разбиться. Такая жалость будет… А я не допущу. Я шапку-то и подставлю…
Не удивлюсь, ежели нашим предком был добросерд, что бежал за лебедями.
И еще. Говорят, что тот же многодетный отец собрал однажды сыновей зимой в холодном доме и растолковывал им всяческие премудрости жизни.
Вдруг возле дома проскакал табун. Один жеребец стукнул копытом о камень, и посыпались искры. Увидел это один из сыновей того человека, вскочил и – бегом за порог.
Вернись! – кричит ему отец. – Почему сбежал, не спросивши дозволения?
– Отец! – кричит ему сын на ходу. – В копытах этих коней много огня, а мы тут совсем закоченели, сидючи в стылом доме. Я догоню коней и принесу огонь, чтобы погреться…
Мне сдается, что как раз этот парень и был нашим предком. Потому что без еды мы жить можем, без воды – тоже, а вот каракалпакский дом без огня в очаге – не сыщете.
* * *
Мать мерными движениями месила тесто в самаре, в том самом, подаренном бабушкой. Я подбрасывал солому в очаг и слушал неторопливые разговоры аксакалов. Видимо, я устал за день, разомлел у огня и сам не заметил, как начал дремать. Вдруг ощутил резкую, жгучую боль в ноге. Открыл глаза и вижу кровь между первым и вторым пальцем на правой ступне. Я не успел даже испугаться, как мать сунула мне в руки кочергу и строго прошептала: «Не спи! Слушай, что люди говорят». И только тут понял: это ведь она ткнула острым концом кочерги мне в ногу. Сон как рукой сняло. Я не заплакал. Боялся, что если разревусь, то гости все заметят и разойдутся по домам. Мать осторожно, чтобы не видели аксакалы, взяла щепотку золы и присыпала рану. Кровь сочиться перестала, но зато между пальцами стало жечь, словно туда уголь сунули. Но я и тут сдержался, не вскрикнул и не заплакал.
А старики продолжали мирно беседовать. Один из них, такой длиннобородый и щупленький, искоса глянув на меня, произнес:
– Тут уже прозвучало четыре предания о наших предках. Но я мог бы рассказать еще три.
– Расскажите. Просим вас, уважаемый!
Так вот, – начал этот старик величаво, размеренным голосом, приняв позу, подобающую человеку, повествующему о деяниях предков. – Первое из этих преданий мой дед… забыл рассказать моему отцу. Второе – мой отец забыл рассказать мне. А третье забыл я сам. Все дружно засмеялись.
– Да, почтенный рассказчик, вы истинный потомок своего рода.
– Это точно, – согласился лукавый старец.
Все вновь расхохотались. Засмеялась и моя мать. И мне сразу стало легче.
Из рассказов аксакалов:
– Однажды хивинский хан вызвал к себе поэта Бердаха и так сказал ему: «Говорят, что ты слагаешь хорошие песни. Чем кружить соколом по степям, не лучше ли тебе стать соловьем в моем саду?»
И тогда поэт Бердах так ответил хивинскому хану: «Уж лучше кружить соколом по степи, чем оказаться курицей в твоем супе…»
– По велению того самого хана всех каракалпакских биев пригнали связанными в Хиву после того, как ханское войско подавило восстание нашего батыра Ерназара Алакоза. Привели пленников к хану, и он долго их разглядывал, все выискивал кого-то. Заметил это ханский воевода и говорит:
«О повелитель. Все предводители каракалпаков тут».
«А где Бердах?»– спросил хан.
«Но он ведь не бий, – оправдывается воевода, – и не вождь племени, и человек не знатный, не родовитый…»
«Кабы я был таким поэтом, то ни к чему бы мне и родовитость! – крикнул в гневе хан. Но тут же осекся и добавил повелительно:– До тех пор пока не приведен ко мне Бердах, не поверю, что усмирили черношапочников…»
– Мудрость гласит: «Истинный поэт – уста своего народа…»
– Если устами поэта говорит народ, значит, устами его молвит все человечество. Разве не так?
– В тот раз ханские нукеры все же схватили Бердаха и привели его в Хиву. Хан сказал ему: «А ну, сочини песню и восславь мои победоносные подвиги». Но Бердах отказался.
Тогда хан велел посадить поэта в зиндан… А стражники зиндана решили посмеяться над Бердахом и кричат ему:
«Эй, поэт! Каково тебе теперь? Место достойное тебя?»
А он им отвечает:
«Мне и теперь лучше, чем вам! Мое место достойней вашего».
«Это почему же?»– спрашивают стражники.
«А потому, что издревле известно: человек достойный лучше сам будет мучиться, чем мучить других…»
– Ц-ц-ц, – зацокал языком один из старцев. – Вот мудрость так мудрость, что значит – поэт!
– А ведомо ли вам, почтенные, как в тот раз поэт Бердах избежал казни? Коли неведомо, то слушайте.
Уразумел хан хивинский, что в сундуке знаний Бердаха всегда сыщутся такие слова, кои смогут разбередить сердца даже бесчувственных стражей зиндана. А посему не отважился хан долее томить поэта во глуби подземелья и повелел сызнова воротить его во дворец свой.
Порешил хан хивинский дух поэта сломить. И того ради заставил он поэта долго стоять в присутствии своем, покуда сам он поглощал в несметном количестве различные яства. Насытившись, молвил хан:
«Ведомо ли тебе, для чего приказал я вызволить тебя из темницы и призвать пред очи мои?»
«Тот, кто вознамерился отрубить голову, не станет отрезать язык, а потому скажу, – молвил поэт. – Ты призвал меня, дабы освободить меня».
От слов таких дерзостных злость ударила хану в лицо, но скрыл он это. Улыбкой смягчил суровость лица своего и молвил:
«Освобожу тебя, коли сможешь исполнить повеление мое. А нет – пеняй на себя. Быть тебе повешенным».
«Воля ваша, – ответствует Бердах, – но дабы не отреклись вы от слов своих, прошу произнести веление не с глазу на глаз, а прилюдно».
Засмеялся хан и повелел немедля всей свите и челяди ханской явиться пред ним. Явились они. И сызнова хан вопрошает:
«Теперь согласен выслушать повеление мое?»
«Согласен!»– молвит Бердах.
«А коли согласен, то внемли. Повелю я вынести мешок мелко толченного сахара. Повелю я взвесить сей мешок предварительно, А как только нагрянет шквал, так слуги мои развеют тот сахар по пескам моего Хорезма. Соберешь весь сахар за год – быть тебе свободным. Но помни: коли не достанет хоть одного мискала[26]Note26
Мера веса, равная примерно 5–6 граммам.
[Закрыть] – не сносить тебе головы».
«Сахар сей смогу собрать я не то что за год, а за неделю, ежели сможете дать мне помощников».
«Почему бы и не смочь, – горделиво ответствует хан хивинский. – Все в моей воле. Любая живая душа в Хорезме мне подвластна. На кого укажешь, тому и повелю идти к тебе в помощники. Проси!»
«Прикажите созвать всех муравьев, обитающих в ваших владениях. Повелите тем муравьям помочь мне, и воля ваша будет исполнена».
Померк взором хан хивинский, помрачнел, удрученно склонил голову свою и тихим голосом изрек:
«Иди. Ты свободен…»
– Ц-ц-д, – вновь зацокал тот же старец и с тем же нескрываемым восторгом повторил:– Вот поэт так поэт! Вот ведь какие слова нашел! А!..
– Да, какие только великие люди не являлись на этом свете. Помните, как сказал Машраб:[27]Note27
Узбекский поэт, жил в XVII – начале XVIII пека.
[Закрыть] «В сердце своем уместил я мир безграничный, но самому мне места нет в мире бескрайнем».
«После смерти моей не подавайте нищим на помин моей, души, я при жизни отдал им все, что имелось в душе», – говорил Махтумкули.[28]Note28
Туркменский поэт, жил в XVIII веке.
[Закрыть]
– «Если тяготы народа ты готов взвалить на плечи, если хочешь чаще плакать, хочешь радоваться реже, становись тогда поэтом», – говорил Бердах.
– А Жиен Жрау[29]Note29
Каракалпакский поэт, жил в XVIII веке.
[Закрыть] говорил: «Моя судьба – судьба народа. Судьба народа – моя судьба…»
– Однажды правитель города Чимбая решил провести состязание молодых поэтов. Среди всех ему больше прочих приглянулся молодой Бердах. Он так понравился правителю Чимбая, что тот даже расщедрился и отсчитал Вердаху целых пять золотых монет. До того часа Бердах никогда не держал в руках столько денег. Он обрадовался, конечно, и совсем уж было собрался покинуть двор правителя, да в это время ввели стражники на двор бедного рыбака в изодранной одежде.
«Почтенный правитель славного нашего города Чимбая, – сказал один из стражников. – Этот рыбак привозит рыбу с Арала, сегодня он осмелился заломить цену выше той, которую вы назначили».
«Всыпать ему десять палок», – приказал правитель.
Тут вступился Бердах. -
«Почтенный правитель славного Чимбая, – сказал он. – Вы только что одарили меня пятью золотыми монетами за стихи, которые вам понравились. Но этот человек – мой отец Гаргабай. Когда бы он не ловил и не продавал рыбу и на вырученные деньги не обучал меня, тогда бы и я не смог достичь той степени совершенства, чтобы своими стихами порадовать вас. Не наказывайте Гаргабая, а велите найти и наказать его отца, который не смог обучить своего сына, и потому он вынужден оставаться всю жизнь простым рыбаком».
«Эх, Бердах! – воскликнул восхищенно правитель, – Ну и язык у тебя! Ну и ум у тебя! Хвала тому роду, хвала тем родителям, что наградили тебя таким даром! Эй, стражники! Живо отпустите отца поэта. И подарите ему от меня дорогой халат!»
– Да, слово, сказанное к месту, как райский бальзам. От любых хворей вылечит.
– Слово, сказанное не к месту и не ко времени, падает как камень на голову, может и покалечить, и прибить насмерть…
– Есть слова, что как воздух в кулаке. Пока держишь, вроде что-то есть. Как раскрыл – фьють! Ничегошеньки…
– А есть слова как крылья. Сами на воздух возносят, на небо поднимают…
– Пусть земля будет пухом поэту Бердаху. Он всегда умел найти нужные слова…
– Дай, бог, нашим внукам тот путь, по которому шел Бердах не спотыкаясь…
Я до того увлекся рассказами аксакалов, что даже боль в ноге перестал ощущать. Я ждал от старцев новых и новых сказаний, легенд и притч и помню, что впервые в жизни с завистью нескрываемой, но высокой подумал: «Эх, кабы и мне стать таким же поэтом!»
Наверное, все это было, как говорится, написано у меня на лице, потому что дедушка, лишь глянув на меня, без труда прочел мысли внука и, помолчав, вдруг обратился к гостям:
– Почтенные аксакалы, посмотрите на моего старшего внука Тулепбергена и скажите, разве не может так случиться, что станет он поэтом, когда подрастет?
Все старцы разом обернулись ко мне.
– В какой класс ты ходишь? – спросил один из них.
– В третий.
Старец, сидевший в углу и по большей части хранивший молчание, дольше других рассматривал меня. Его белая и пушистая, как хлопок, борода закрывала полгруди и начиналась почти от самых глаз. Его глаза были огромными, каждый почти в детскую ладошку. Он глядел прямо, не мигая, и под его взглядом я невольно потупился. А он повел речь тихо и неторопливо:
– Когда мне было столько же лет, сколько теперь этому мальчику, я сложил стихи. Первые стихи в своей жизни. Я прочитал их своему отцу, и отцу моему эти стихи очень понравились. Обрадовался мой отец и в тот же день повел меня к поэту Бердаху.
Мы пришли, и я увидел человека худощавого, узколицего. Борода его была редкой и начинала серебриться. Я прочитал ему мои стихи. Он их слушал внимательно. Выслушав, сказал: «Мальчик, сложить стих – это значит попять жизнь. А жизнь понять трудно. Слова в стихах надо связывать так же, как в жизни связаны огонь и вода, день и ночь, цветок и колючка, смех и слезы, ты и я. Всякий, кто живет на свете, по-своему понимает жизнь. Всякий зрячий может сказать: «Я смотрю на мир двумя глазами». Но если это скажет поэт, то любому должно быть ясно, что видит он жизнь очами любви и очами дружбы. Всякий, если он не колченогий, может сказать: «Я стою на земле двумя ногами». Но если это скажет поэт, то любому должно стать ясно, что поэту опорой на этой земле – любовь и дружба. Поэт говорит те же слова, какие говорят и другие люди. Но в каждом слове поэта должно быть больше смысла, чем в словах других людей. Иначе он не поэт».
Услышав это, отец мой отказался от мысли просить благословения для меня у Бердаха и, простившись с поэтом, поспешил домой, прихватив меня. А я с тех пор понял, что слагать стихи – не мое дело.
– Да, – согласился другой гость, – стать поэтом не каждый может. Всем известно, что Махтумкули в детстве три дня ночевал под мостом, по которому прошли тыщи человек. И только после этого на третье утро он проснулся поэтом.
Все умолкли, и молчание длилось, как мне показалось, невыносимо долго.
Но опять выручил дедушка. Его все эти речи, похоже, нисколько не смутили. Он не собирался отступаться от своего намерения:
– Мой внук Тулепберген, коли на то пошло, может просидеть под мостом не три дня, а целую неделю. А жизнь – ну что ж, – она и есть жизнь. Это такая штука, которую любой рано или поздно понимает. Пусть по-своему, но ведь понимает. Я, скажем, понял ее лишь в пятьдесят лет. А случилось это так… Вот послушайте.
Рассказ моего дедушки. Был у меня друг, и дружили мы с самого малолетства, хотя жили в разных концах аула и были ничуточки не схожи меж собой. Я любил игры, любил слушать рассказы и предания, сам рассказывать обо всем, что видел, тоже любил, а он – молчун, вечно чем-то озабочен, куда-то спешит. Но кому не известно, что в жизни часто так случается: ничем не схожи люди, а тянет друг к другу.
В детстве мы виделись часто, но говорили редко, хотя мне нравилось, как он рассуждает, и он считался с моим мнением.
Когда из мальчиков превратились в джигитов, стали встречаться реже. Я его окликал: «Эй, Мурат, давай побеседуем». Он говорил: «Подожди, Хаким. Некогда. Мне нужно заработать на калым. Вот женюсь, тогда и побеседуем».
Прошли годы, он женился, и я тоже. Завидев его, изредка я напоминал: «Мурат, давненько мы с тобой не сидели рядом и не говорили толком». Он отвечал: «Сейчас не время, Хаким. Дети у меня маленькие. Вот поставлю их на ноги, тогда и наговоримся всласть».
Вновь прошли годы. Мои дети выросли, я решил, что и его тоже. Пошел навестить друга детства. Прихожу и узнаю, что Мурат умер. «Эх, жизнь», – сказал я себе. А потом подумал: «Каждый сам для себя решает, что она такое и из чего должна состоять». И надо каждого человека благословить на ту жизнь, которую он сам для себя выбирает.
Вот я и хочу, – продолжал дедушка, и голос его стал торжественным, – просить вас, достопочтенные аксакалы, оказавшие честь нашему дому, благословить моего внука Тулепбергена на жизнь поэта.
Опять настала тишина. Нарушил ее все тот же хлопкобородый старец, сидевший в углу.
– Любое благословение может с годами обратиться в проклятие, – сказал он, и голос его прозвучал из-под мягкой бороды тихо и невнятно, как из-под одеяла. – В детстве, если я помогал кому-то, мне говорили: «Живи долго, сынок». Или же говорили мне: «Многих лет тебе, мальчик». Я радовался. Еще и потому радовался, что мать моя умерла рано. Я ее почти не помню. Наверное, люди желали мне долгих лет искренне. Их предсказания сбылись. Живу я давно, очень давно. Больше уже не хочу. Жизнь лишилась радости, когда я пережил жену и всех сверстников своих. Я проклял свое долголетие, когда пережил последнего из сыновей моих. Я в тягость внукам и правнукам. Себе в тягость. Мои ноги меня не держат. Руки мои трясутся. Ложку не могу до рта донести. Свет глаз моих померк. Половина звуков мира не проникает в уши мои. Болят мои внутренности. А я все живу…
Все сидели притихшие и втянув головы в плечи, словно на каждого взвалили камень непомерной тяжести. А старец продолжал:
– Хакимнияз, твой сонливый внук, кажется, слушает наши речи лишь потому, что его мать, а твоя сноха кольнула кочергой его ногу. Спроси у него, Хакимнияз. Спроси своего внука, хочет ли он быть поэтом?
Услышав о дреме, я начал покрываться пунцовыми пятнами стыда и сейчас, хоть нога все еще болела, был несказанно благодарен матери за то, что она разбудила меня. Хочу ли я стать поэтом? Да, конечно, конечно, еще как…
– Хочу.
– Ну что же, – старейший из аксакалов с трудом сел на подушки, – Если так, то не кляни наше благословение потом, когда оно станет тебе в тягость. Поднимите меня.
Пока гости помогали ему встать, дедушка растормошил спящего отца, разбудил бабушку, примостившуюся в углу между внучат, поднял Арухан. Моя мать тоже поднялась со своего места. Встал и я.
– Ну, кочегар, раскрой свои ладони. Старец стоял прямой и высокий, как минарет.
– Да не падут слова наши на землю. Да вознесутся они к небесам. Благословим Тулепбергена, внука достопочтенного Хакимнияза и первенца его сына Каипбергена, на жизнь поэта.
Потом аксакалы провели ладонями по лицам, от щек к подбородку. Мы последовали их примеру.
Когда гости разошлись, я на одной ноге вприпрыжку добрался до своей кошмы, но заснуть долго не мог. Все думал о том, что такое жизнь и как я – поэт – теперь должен сказать об этом, чтобы в каждом моем слове непременно оказывалось больше смысла, чем в таких же словах других людей. Я думал об этом, пока не почувствовал, что боль в ноге поутихла, зато начала болеть голова.
Так закончился этот день, оставивший след в моей памяти, в моей жизни. А еще след на ноге. Шрам между пальцами я вижу каждый вечер, когда мою ноги, перед тем как лечь спать.