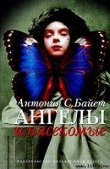Текст книги "Каракалпак - Намэ"
Автор книги: Тулепберген Каипбергенов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
1
По мнению медиков, у большинства людей к сорока годам слабеет зрение. Я, видимо, принадлежу к этому большинству, потому что в положенный срок тоже надел очки. Полезная вещь очки – они укрупняют мелочи и приближают то, что отдалено. И однажды, расфантазировавшись, я возмечтал: а вот создали бы аппарат, приближающий прошлое, создали бы этакие очки для памяти, чтобы ясно увидеть все происшедшее в детстве и юности, отчетливо припомнить все забытое…
Нет! – решил я после долгих раздумий. – Пусть лучше этот аппарат не изобретают, а то большинство людей, безусловно, погрязнет в грехах и ошибках молодости и от стыда за них, за эти юношеские благоглупости, не будет знать, куда девать глаза, и станет спотыкаться на каждом шагу. И старость окажется не временем заслуженного отдыха после долгого и трудного пути, а годами раскаяния и душевного смятения. И не то чтобы у каждого из нас в жизни проступков больше, чем достойных поступков, а просто один досадный случай, один день огорчений – это дракон, который способен заживо проглотить память о неделе, а то и о месяце радости и благополучия.
У кого из нас в душе не прячутся такие драконы?
Ведь мы люди!
«Какое семя в молодости посеешь, такой злак в старости пожнешь», – учил меня дедушка.
«Это еще смотря как сеять, – поучал коше-бий, – а то ведь бывают и такие моменты, что сажали рис, а выросла осока».
* * *
Когда я выпустил свои первые книги, у меня состоялись три встречи с неким старым знакомым. Как-то так сложилось, что на правах давнего приятельства он то ли интервьюировал, то ли допрашивал меня, притом явно подзуживая, подначивая, а я вроде бы обязан был ему отвечать. Теперь я со стыдом и смущением вспоминаю свои ответы.
Однажды он спросил:
Что ж это за работа такая – писательство?
Я отвечал:
Труд писателя тяжел, как труд чернорабочего. Но рабочий отстоял смену – и домой, на отдых. А писатель наскоро перекусит и добровольно выходит во вторую смену, а то и в третью, если надо.
Вероятно, он ожидал услышать другой ответ, а может быть, я, живописуя трудности творчества, малость перестарался, но только с тех пор приятель начал держаться со мной высокомерно, словно интеллектуал с чернорабочим. Он поучал меня, наставлял, давал советы, читал всяческие назидания и нравоучения и порядком поднадоел мне своей заносчивостью.
А между тем время шло, и я опубликовал роман, который удостоился положительных откликов в местной печати. Мы вновь с ним свиделись, и на сей раз, с той же иронично подначивающей интонацией, он спросил:
– И сколько же вас, писателей, у нас в Каракалпакии?
– Двое, – выпалил я не задумываясь.
– Это кто же? А ну, назови! – потребовал он. И я назвал:
– Каипбергенов и остальные.
– Хвастун! – сказал он зло и ушел не оборачиваясь.
Через неделю-другую мы столкнулись с ним лицом к лицу на улице. Не здороваясь и не протягивая руки, он спросил, словно продолжая прерванный разговор:
И кто же из тех двух писателей ведущий?
– Разумеется, остальные, – вновь не задумываясь выпалил я.
Какая-то самодовольно-пренебрежительная усмешка скомкала его узкие губы, и, не говоря ни слова, он пошел прочь. Больше мы не встречались. Но когда порой я вспоминаю эти разговоры с ним, у меня в душе возникает тоскливая боль, будто кто провел по сердцу напильником, провел медленно и с нажимом…
Однако и не вспоминать нельзя. Стоит ли надеяться на завтра, если не можешь оценить вчерашнее. Коли существуешь на этом свете, то дай знать о себе, но говори только правду, ибо обманывается тот, кто намерен обмануть других.
Притча коше-бия. Бродяга и беспечный весельчак, Омирбек держал маршрут пути следования через неизвестный ему аул. В ауле он увидел ребятню, которая всецело посвятила себя барахтанью в пыли и вела какую-то игру. Омирбек тут же в нее и ввязался. Не пристало конечно же взрослому человеку встревать в легкомысленные ребячьи забавы, да что с него, беспутного, возьмешь? Такой уж он уродился по характеру своего нрава.
Ребятня, заметив чужака, произвела его окружение и, гроздьями повиснув на плечах и руках, вскарабкавшись на спину, наконец свалила Омирбека и устроила кучу малу.
Омирбек, находясь в приземленном положении, не может ни выдохнуть ни вздохнуть. Глаза запорошены. Рот полон пыли дорожной. А сверху все наседают и наседают. Тут и смекнул весельчак, что в данный момент и в данном состоянии ему не до шуток. Сообразив все это, он пустился на обман при помощи хитрости.
– Эй, – кричит, – пока вы тут в пыли барахтаетесь, в соседнем ауле идет бесплатная раздача яблок. Каждому, изъявившему желание, насыпают полный подол халата.
Вся куча мала мигом рассыпалась, и с криками: «Яблоки! Яблоки дают! Даром дают!»– понеслась ребятня в соседний аул и такую пылищу босыми пятками взбила, словно табун прошел.
Поднялся Омирбек и стал приводить в порядок свой облик и внешний вид одежды. Долго отплевывался, отряхивался, палец слюнил – песчинки из глаз выуживал. Наконец прокашлялся, прочихался, проморгался и оглянулся вокруг. И что же он видит?
А видит он следующую картину: все – и стар и млад – поспешно движутся по направлению соседнего аула.
– Люди, куда вы? – задает он им закономерный вопрос.
– В соседний аул. Там бесплатно раздают яблоки. Каждому отсыпают полный подол, – получает он естественный ответ.
Тогда Омирбек рассуждает сам с собой следующим логическим образом: «Я, конечно, обманул ребят, но если это ложь, то почему столь много разных людей в нее поверило? А вдруг и впрямь раздают яблоки? Тогда надо и мне поспешить, а то как бы я один не остался в дураках и с пустым подолом».
Произведя такой мысленный расчет, Омирбек побежал следом за остальными.
«Если писатель сам не верит своему рассказу, то может ли он надеяться, что ему поверит читатель?» – часто говаривал мой учитель литературы.
* * *
В детстве я часто спрашивал у своей матери:
– Скажи, что самое трудное в мире?
Учиться у других уму-разуму, – говорила она.
Ответ казался мне совершенно верным, более того – прозорливым. Мать словно заглянула мне в душу, словно подслушала мои мысли. Ведь сколько раз я корил себя за то, что не мог перенять у других людей нечто очень нужное и полезное. И вроде бы старался… ан нет. Ничего не получалось.
Прошли годы. Я вырос, повзрослел, сам уже стал отцом и вот снова обратился к матери с тем же вопросом:
– Что самое трудное в жизни?
И на сей раз она ответила быстро и точно:
– Самое трудное – это учить других уму-разуму. Вновь ответ пришелся мне по душе. Вновь он оказался именно таким, каким я и надеялся услышать его. Ведь сколько я ни старался – только что разве из кожи не лез, – чтобы привить своим детям все самое лучшее, чтобы вразумить их, наставить на истинный путь, настроить на добрые дела, а все, казалось мне, ничего не выходит. И злился я сам на себя, да так злился, что аж внутри все горело…
Что же сейчас для меня в мире самое трудное?
Это написать книгу под названием «Каракалпак-намэ».
Почему?
Да потому, во-первых, что сейчас все – умные, грамотные, широко информированные, всесторонне осведомленные. Многие даже мечтают избавиться от избытка информации, а заодно и от излишка ума. А моя книга напоминает какого-то настырного советчика, назойливого умника.
А во-вторых, я пользуюсь народной мудростью – легендами, поговорками, притчами, но пользуюсь ими, чтобы рассказать о себе. Так велика ли надобность в подобной книге для читателя, у которого и так все услышанное и вычитанное еле-еле в мозгу умещается? Он и так уже часть знаний и памяти прячет не в голове, а в кармане – в записной книжке.
Порой тот, кто в мечтах подобно птице возносится под небеса, на самом деле лишь мельтешит, как муха.
Вот так зачастую и слова жужжат мушиным роем. А меж людей немало брезгливых: заметят, что хоть одна муха попала в котел с пищей, и – весь котел на помойку. Потому и надо следить за словами, ибо одно, всего лишь одно-единственное слово может приблизить человека ко всем живущим, породнить с народом, а может и рассорить, отдалить, отделить, да так, что хоть бросай родной очаг и беги с глаз людских долой.
Да, люди – народ разнообразный.
Одни как реки: сливаясь, образуют море. Другие как кошка с собакой: сойдясь, взъерошатся, и шипят, и рычат…
Есть отцы, что живут для блага детей. Есть дети, живущие лишь славой отцов.
Наш двадцатый век – особое время, век неисчислимых противоречий и противоположностей.
Одни люди до соседа дойти не могут, хоть под руки веди, другие, напротив – срываются с места и со сверхзвуковой скоростью мчатся из края в край, из страны в страну. На одном конце планеты мужчины, багровея от натуги, натягивают тетиву на лук, чтобы при его помощи навязать свою волю сородичам или иноплеменникам, и мастерит один из них грозное оружие и не знает, что на другом конце той же планеты другой мужчина грозит тем, что без малейших усилий может нажать ядерную кнопку, чтобы заставить все человечество считаться с его желаниями. На всей планете полная путаница: верующие живут рядом с атеистами, астрономы и физики постигают неведомые законы сущего мира, а астрологи и метафизики растолковывают сущность законов мира неведомого, лидеры демократов наносят визиты монархам, свергнутые монархи просят убежища у демократов, одни страны не знают, как поднять рождаемость, другие – как ее уменьшить, одни люди страдают от ожирения, другие – от голода.
И все это разнообразие требует твоего сочувствия, а лучше – соучастия, требует твоего личного продуманного и выстраданного мнения, твоего личностного отношения, требует твоей души, твоего ума.
И в этом сложном, напряженном, запутанном мире книга – если она лишь сборник советов, справочник назиданий – никому не нужна.
Какой бы мудрец ни явился со своими проповедями и поучениями, какие бы легенды и притчи он ни выдумал для того, чтобы укрепить в людях веру в добро, справедливость, в завтрашний день, – все это ныне вряд ли войдет в умы и сердца людей, и уж тем более вряд ли станет восприниматься как народная мудрость.
Истинная мудрость всегда народна, потому что любой человек (кто бы он ни был, каким бы он ни был) непременно отражает как зеркало и черты своего народа.
* * *
В день моего пятидесятилетия в доме у нас собрались друзья и родственники. Они много шутили, стараясь развеселить меня, что и понятно. Ведь юбилей – полвека – отнюдь не радостная дата. Значит, жизнь пошла под уклон, а на крутизне спуска легко оступиться. После пятидесяти человек должен обдумывать тщательнейше каждый свой шаг – тягостное и утомительное занятие. Одна из дружеских шуток состояла в том, что мой возраст условно разделили на два двадцатипятилетия, разделили жизнь на две половины, из одного юбилея сделали два и за каждый соответственно поднимали тост и выражали добрые пожелания.
Они старались ободрить меня. А я старался им верить.
Я всегда стараюсь верить в доброту намерений другого человека, стараюсь верить, что все, творимое людьми, творится из лучших побуждений. Случается, конечно, и ошибаться, и расплачиваться за благоверие, но если вдуматься, то в конечном счете воистину несчастным оказывается не обманутый, а обманувший. Для счастья не многое надобно: во-первых, конечно, здоровье, во-вторых, запас душевности и, в-третьих, удовлетворенность жизнью. Признак счастья – смелость. Счастлив тот, кто смело может доверять своим силам, доверять жизни, доверять другим людям. Трусость – отличительный знак несчастья. Зря считают, будто трусость – это боязнь смерти или боли. Нет. Боязнь думать и выражать свои мысли – вот истинная трусость. Да и торопливость – тоже. Недаром народная мудрость каракалпаков утверждает: «Кто говорит прежде, чем подумает, тот умрет раньше, чем заболеет».
Повторяю: привык верить людям. Не верю лишь тем, кто заявляет: «Душа человеческая – это свиной хлев». Не верю уже потому, что свою-то собственную душу они не уподобляют хлеву, хотя, разумеется, любой душе ведомы и злость, и зависть, и грязные подозрения, и нечистые помыслы. Я знаю, что внутри любого человека есть требуха, заполненная остатками непереваренной пищи, но не это, по-моему, в нем самое интересное. Каждой душе ведомы и сомнения, и опасения. Вот и я сомневаюсь сам в себе, а еще опасаюсь, как бы не оказалось слишком много сомневающихся во мне, сомневающихся в том, что я буду говорить.
Вступив на склон третьего двадцатипятилетия, я невольно размышляю и о первом своем двадцатипятилетии, и о втором. Вспоминаю все, что со мной было, и думаю, поверят ли мне, если, основываясь на виденном, слышанном, пережитом, основываясь на собственных «охах» и «ахах», произнесенных с сожалением, и на горделивом повествовании о собственных поступках, которые представляются мне достойными похвалы, то есть основываясь на опыте своей жизни, я постараюсь вывести некую философскую формулу жизни?
Поверят ли близкие? Поверят ли дальние? Дальних не знаю – судить не берусь. А близкие – вряд ли.
Притча, рассказанная моей матерью. Однажды на базаре появился мудрец. Люди узнали его и обступили в надежде услышать, что он скажет. Но мудрец говорил очень тихо. Во-первых, потому, что был стар и слаб голосом. А во-вторых, потому, что верил: мудрое слово не должно быть крикливым. Закончив свои речи, мудрец ушел, а люди стали расспрашивать того, кто ближе всех стоял к старцу:
– Скажи, что ты разобрал?
– Я разобрал, – ответил он гордо, – что у него изо рта пахнет.
«Какой кличкой нарекли теленка, такой и кличут, когда он уже в быка вырос», – говорил мой дедушка.
«Кто ж из людей будет производить поиск клада под стенами своего жилища?»– спрашивал коше-бий.
* * *
Если уподобить человеческую жизнь возведению нового здания, то окажется, что первое двадцатипятилетие – это фундамент. И какими бы крепкими и разуверенными ни были стены, как бы высоко ни вздымалась кровля, в итоге все строение держится на фундаменте, на том начальном двадцатипятилетии жизни.
Коше-бий рассказывал: А в старинные года древности каракалпаки строили свои дома без всякого основания – фундамента. Если производить наружный осмотр, то внешне создается впечатление видимости фундамента. Но это сплошной обман зрения. Стена действительно имеет приметное утолщение внизу, однако там не фундаментов прикрытая глиной осока или солома, в более редких случаях – тростник. Это просто по земле прокладывали такую линию, чтобы при проведении строительных работ стены не имели вогнутостей или выгнутостей, а тянулись прямо. А что касается самих стен, то уж их – это точно – украшать умели при помощи мастерства, фантазии и художественного вкуса. В итоге получалось следующее: в первые годы проживания в новопостроенном объекте – все хорошо, но не проходит и одного десятилетия, как стены начинает разъедать сырость, и к концу указанного срока все жилое помещение приходит в состояние негодности и угрозы разрушения с последующими материальными затратами, а то и жертвами.
Творения многих художников и поэтов напоминают мне старые каракалпакские дома. Порой красиво, даже очень, но неосновательно, не фундаментально.
А жаль.
* * *
Решив продолжить работу над этой книгой, я долго сидел и тер ладонью лоб, словно пытаясь пригладить, причесать мысли, а они всё топорщились и лохматились.
С одной стороны, вроде бы и впрямь все, что я сделал в жизни, все, что написал, в той или иной степени зависит от знаний и умений, полученных еще в детстве и юности, от того, что я услышал, увидел и прочувствовал в первое двадцатипятилетие. То есть от того, что заложено в фундаменте, в основании.
Однако стоит ли долго и тщательно описывать свое детство, стоит ли сейчас подкапывать стены дома, чтобы полюбоваться кладкой фундамента? Нет ли тут этакого запоздалого бахвальства, самолюбования? Ведь не зря коше-бий говорил: «Кичливость – признак старости». Так-то оно так, но и в старости не одни лишь плохие признаки, есть и у старости свои преимущества. И молодежь без стариков оказалась бы в этом мире как в темном городе без светильников. Ей бы пришлось пробираться ощупью.
Легенда, рассказанная дедушкой. Наши места некоторые люди называют еще и Туранской низменностью, потому что в давние-предавние времена здесь было царство, именуемое Тураном. И долгие века Ту-ранское царство враждовало с царством Иранским. Войны между ними тогда велись часто. Что те цари не могли поделить меж собой, об этом ныне люди уже не помнят. А только помнят люди, что были те царства очень схожи и в обоих существовал общий обычай: детей, которые рождались слабыми, и стариков, доживших до немощи, вывозили в безводную пустыню и оставляли там. Таково было царское повеление и в Туране, и в Иране. И ослушаться тех повелений никто не смел, ибо лютой смертью карали ослушника, поскольку оба царя считали, что оставлять на свете людей, которые не могут прокормить себя, – казне в убыток.
И вот как-то вспыхнула между царствами еще одна война. Тысячи тысяч туранских воинов вышли в пустыню Каракумы от берегов Аральского моря. Тысячи тысяч воинов Ирана вышли в пустыню Каракумы от берегов Каспия. Всадники скакали с бархана на бархан, пешие ратники шли по их следу. А сзади тянулись караваны верблюдов, неся воду меж горбов в кожаных мешках. Сошлись рати и бились долго. То одна сторона верх берет, то другая. Но одолеть никто не может. Силы оказались равны. Прошла неделя, потом другая. Но нет победы у туранского войска. Нет ее и у войска иранского. И у обоих войск нет уже воды. Кончилась вода в кожаных мешках. Нет пути вперед – враг не пускает. Нет пути назад – не выйдут из пустыни люди и кони, умрут от жажды.
Тогда цари заключили перемирие. Вчера еще были врагами, сегодня – друзья по несчастью. Сели цари рядом, сели их визири и звездочеты, сели тысячники и сотники, сели муфтии и муллы, спешившись, сели конники, опустились на раскаленный песок пешие ратники – все сидят и думают, как избежать страшной смерти. Наконец с туранской стороны поднялся один воин и, поклонившись, говорит:
– Есть один человек, который нам посоветует, как отыскать воду.
– Кто он? Говори скорей, – требует царь Турана.
– Скажу, государь, если обещаешь пощадить нас обоих – меня и его.
– Обещаю!
– Это мой престарелый отец.
Как?! – удивился царь. – Разве ты не отнес его в пустыню? Ты посмел ослушаться моего приказа? Ты не убоялся грозящей кары?!
– О мудрейший из правителей и храбрейший из витязей, – отвечает воин, – тебе ли не знать, что смелого воспитывает смелый. Мой отец первым рискнул нарушить твой указ. Я появился на свет хилым и болезненным, но он не отнес меня в пустыню, а выходил, поставил на ноги и до тех пор, пока я не вырос и не окреп, носил меня на спине в плетеном коробе. Когда же он постарел и стал немощным, я понял, что наступила моя очередь нести ношу.
С этими словами воин снял с плеч плетеный короб, бережно поставил его на землю и открыл крышку. Из короба вылез сухонький, щупленький старичок с белой и легкой, как хлопок, бородой и в черной шапке. Поклонившись царям, их свите, всем собравшимся людям, белобородый черношапочник сказал:
– Во времена моей молодости в этой пустыне тоже была большая битва. Тогда нам пришлось худо, мы вынуждены были отступить. И, набрав воды про запас, засыпали единственный в этих местах колодец, чтобы враг не смог преследовать нас.
И ты сумеешь найти и раскопать этот колодец? Найти найду, а раскопать сил не хватит. Дайте мне сто крепких мужчин, и через полдня вода будет.
Ему дали сто могучих джигитов, усадили на коня, и он поскакал в пустыню. Скоро всадники увидели песчаный холм. Старик велел: Копайте.
К вечеру на дне колодца заблестела вода.
Милость рождает милость. Цари помирились, и каждый из них издал указ, который впредь строго-настрого запрещал вывозить стариков в пустыню. Теми же указами повелевалось: пусть каждый плюнет в того, кто обидит младенца или оскорбит аксакала.
Вот и вся легенда. Но дед еще добавлял: «Ты заметил, Тулек, что на голове у старика была черная шапка? Не он ли предок всех каракалпаков?»
Моя мать часто напоминала:«Как звезды темной ночью помогают не сбиться с пути, так и знания аксакалов помогают разобраться в темноте жизни».
Преподаватель литературы говорил:«Почтение к старикам – это признание опыта минувших эпох. Однако на Западе многие проявляют высокомерие по отношению к прошлому. Это особенно ярко проявляется в оценке литературного наследия Востока.
Чтобы подняться в космос, нужно оттолкнуться от земли. Западная цивилизация достигла заметных высот, но развивалась она из восточной культуры. Разве восточная культура не древнее западной? Разве не с Востока пришла она на Запад?
Современное электричество открыто при свете коптящей лампы. Разве не на Востоке зажжена лампа научных знаний? Тот, кто отрицает это, подобен ребенку несмышленышу, который говорит: «Меня не мать родила я сам родился».
Нельзя не понимать, что классическая дидактика Востока лежит в основе всей мировой литературы, в том числе и в основе самой наисовременнейшей литературы Запада.
Любой колодец со временем заносится пылью веков. Классическая литература Востока для своей эпохи была достаточно глубока, и не надо сегодня кичливо и с пренебрежением называть ее «сухой дидактикой». Лучше сравнить ее с той самой древней глиняной лампой – светочем знаний, который многие столетия озарял людям путь сквозь тьму и до сих пор еще светит нам из глубины тысячелетий.
И не надо спрашивать: «Почему другой человек мыслит не так, как я?» Думать иначе – это не значит думать хуже, чем ты.
«Боже, спаси рабу твою от тьмы», – обычно просила моя бабушка перед сном.
«Боже, благодарю тебя, что даровал свет солнцу», – говорила она по утрам, вставая с постели.
По-моему, в мире есть два источника света, два источника жизни. Первый – Солнце. Второй – знание, сконцентрированное в книгах. Без Солнца на Земле будет тьма и холод. Без книг – умственная тьма и душевный холод.