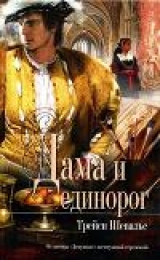
Текст книги "Дама и единорог"
Автор книги: Трейси Шевалье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
АЛИЕНОРА ДЕ ЛЯ ШАПЕЛЬ
Мужчины нашли меня в саду. Я там пропалывала землянику. Я посадила кусты на некотором расстоянии друг от друга, чтобы было где присесть, когда пойдут сорняки. Я отношусь к землянике не совсем как к растению – цветки ее не пахнут, а листья и не мягкие, и не колючие, и не тонкие, и не мясистые. Зато плоды божественные. Сейчас раннее лето, и уже появились первые ягоды, но они еще совсем крошечные, твердые и не очень-то душистые. Больше всего на свете я люблю пору, когда земляника уже зрелая. Так бы и сидела с утра до вечера возле грядок и разминала пальцами сочные ягоды, ощущая их вкус и аромат.
На тропинке между грядками послышались шаркающие шаги Филиппа – на ходу он приволакивает одну ногу, – а за ними – подпрыгивающие Никола. Когда Никола в первый раз попал ко мне в сад, он воскликнул:
– Святая Дева, это настоящий рай! Ничего подобного не видел в Париже. Там кругом дома и нет ни одного свободного клочка земли, разве что выкроишь место под грядку капусты, да и то, если очень повезет.
Впервые из его уст прозвучало, что Брюссель чем-то превосходит Париж.
Мой сад многих поражает. Он занимает шесть квадратов [16]16
Квадрат – единица площади, равная 100 квадратным футам, или 0,09 м².
[Закрыть]и имеет форму креста. По углам растут плодовые деревья – яблоки, сливы и вишни. Два квадрата отданы под овощи: капусту, лук-порей, горошек, латук, редис, сельдерей. А еще один засажен земляникой и всякими травами – как раз здесь я сейчас полола. Кроме того, у меня растут розовые кусты, я их не очень люблю из-за колючих шипов, но маму они радуют, и еще две грядки с цветами и травами.
В саду я чувствую себя абсолютно счастливой. Наверное, это самый уютный уголок на свете. Мне тут известно каждое дерево, каждая былинка каждый камешек, каждый комочек земли. Сад окружен изгородью, сплетенной из ивняка, сверху – розы с шипами, чтобы отпугивать животных и чужаков. Чаще всего я здесь бываю одна. Сюда слетаются птицы и рассаживаются по деревьям. Они воруют вишню, как только ягоды созревают. Среди цветов порхают бабочки, впрочем, в них я плохо разбираюсь. Порой, если я сижу совсем тихо, они подлетают близко-близко, и я чувствую щекой или рукой, как дрожит воздух у них под крыльями, но я ни разу не пыталась выяснить, какие эти насекомые на ощупь. Папа сказал, что крылья у них покрыты крошечными чешуйками, которые облетят, если их тронешь. Тогда бабочки не сумеют летать и их склюют птицы. Но мне даже не хочется проверять, так оно или нет.
Я улыбнулась, услышав, как Филипп прокричал:
– Это мы, Алиенора, – я и Никола. Мы здесь, возле лаванды.
Мы знакомы едва ли не с рождения, но всякий раз он меня предупреждает, где находится, как будто я без того не знаю. Об этом мне сообщает терпкий запах лаванды, которую они задевают полами одежды, идя по дорожке.
Я сажусь на корточки и поднимаю лицо к солнечным лучам. В начале лета дни становятся длиннее и солнце висит прямо над головой. Я очень люблю тепло, только огня побаиваюсь. Слишком часто опаляла себе платье.
– Не угостите ли земляничкой, барышня? – гаркнул Никола. – Пить охота.
– Она еще не поспела, – ответила я довольно резко.
Я старалась проявлять учтивость, но этот Никола внушал мне странное чувство. И потом, он разговаривает слишком громко. Зачастую люди, узнав, что я слепая, начинают кричать.
– Ничего, надеюсь, она созреет до моего отъезда в Париж.
Я опять наклонилась вперед и принялась ощупывать землю возле молодых кустиков клубники, выискивая мокричник, крестовник, пастушью сумку и одновременно разминая припекшиеся на солнце комки между пальцами. Сорняков не так много, не больше, чем саженцев, поскольку я полола здесь всего несколько дней назад. Я чувствую, что на меня устремлены обе пары глаз, они точно буравят мне спину. Чудное ощущение, ведь я понятия не имею, что такое зрение.
Я подозреваю, какие мысли бродят у них в голове: как я распознаю сорняки и откуда вообще мне известно, что это такое? Но сорняки такие же растения, как и другие, только нежеланные. У них есть листья, и цветы, и запах, и стебли, и сок. Я определяю их по запаху и по листьям, как и прочую траву.
– Алиенора, выручай, – попросил Филипп. – Мы делаем зарисовки для картона. Какие цветы, по-твоему, подойдут для мильфлёра?
Я опять присела на корточки. Мне приятно, когда у меня просят совета. Я изо всех сил стараюсь быть полезной, чтобы не быть родителям в тягость, а то, чего доброго, ушлют меня куда-нибудь.
Меня часто хвалят посторонние. «Какие ровные у тебя стежки, – не перестают восхищаться они. – Какие яркие цветы, какие красные вишни. Жаль, ты ничего этого не видишь».
Но в их голосе звучит сострадание и вместе с тем удивление, что у меня такие умелые руки. Они не представляют себе, как можно жить во тьме, точь-в-точь как я себе не представляю, что такое зрение. Мои глаза – две обычные выпуклости, я могу двигать зрачками, но для меня это примерно то же самое, что жевать или раздувать ноздри. Мир я познаю иными способами.
Например, ковры. Я чувствую каждый рубчик основы, каждую нитку утка. Знаю, где какой цветок на мильфлёре. Мои стежки ложатся строго по контуру собачьей задней лапы, или кроличьего уха, или рукава крестьянского платья. Красный цвет – гладкий и шелковистый, желтый – колючий, синий – маслянистый. Под моими пальцами целая карта, составленная из нитей.
О зрении люди говорят с таким трепетом, что мне порой приходит мысль, что, если бы я неожиданно прозрела, первой явилась бы моему взору сама Дева Мария. У нее были бы нежная кожа и теплые щеки, а платье – голубое и тонкое. От нее пахло бы земляникой. Она положила бы руки мне на плечи ласковым и вместе с тем уверенным жестом. И потом всю жизнь я бы чувствовала ее прикосновение.
Иногда у меня возникает такое ощущение, что будь я зрячей, то и мед мне казался бы слаще, и запах лаванды – резче, и лучи солнца, ласкающие лицо, – теплее.
– Опиши мне ковры, – попросила я Филиппа.
– Я уже все рассказал.
– Да, но меня интересуют разные мелочи. Куда смотрит дама – на единорога или на льва? Во что она одета? Грустная она или веселая? Уютно ли ей в саду? Что делает лев? Единорог сидит или стоит? Он доволен, что его поймали, или хочет высвободиться и убежать? Любит ли его дама?
Филипп зашуршал бумагой, раскладывая рисунки. И меня вдруг разобрала досада. Я повернулась к Никола:
– Сир, вы это рисовали, наверняка вам не требуется подсказка.
Шуршание прекратилось.
– Разумеется, барышня, – ответил Никола.
По его голосу я догадалась, что он улыбается. Под ногами у него заскрипела галька – он присел возле бордюра.
– Осторожно, мята, – вскрикнула я, когда в нос мне ударил знакомый запах.
– Прошу прощения. – Он слегка подвинулся. – Bon, [17]17
Ну хорошо ( фр.).
[Закрыть]какие будут вопросы?
У меня в голове все смешалось. Я не привыкла к мужскому вниманию.
– Сколько на коврах будет синего? – выговорила я наконец.
Мне не нравится, когда синего цвета много. Тогда к нам без конца захаживает Жак Буйвол. Терпеть не могу его грузную походку, непристойные шуточки, не говоря уже об отвратительном запахе. Никакая девушка, если она не совсем уж убогая, не вытерпит рядом с ним и полдня.
– А тебе сколько надо?
– Нисколько. Разве что вы настроены поселиться у нас, чтобы отвадить Жака Буйвола.
Никола усмехнулся:
– Дама стоит на голубой траве, островок занимает нижнюю часть шпалеры, и так на всех шести. Но если так уж нужно, давай его уменьшим. К примеру, поместим островок на красный фон и изобразим здесь главных персонажей. Великолепная мысль. Мы ведь имеем на такое право? Верно, Филипп? Это verdure.
Филипп не ответил. Я чувствовала, как он злится.
– Спасибо, – сказала я. – А как выглядит дама? Скажем, на «Вкусе».
Я намеренно выбрала даму, которая мне не понравилась.
– Почему ты спрашиваешь именно про нее?
– Хочу помучить себя. Она и впрямь очень красивая?
– Да.
Листья земляники щекотали мне лодыжки. Машинально я сорвала ягоду и отшвырнула ее прочь.
– Она улыбается?
– Только слегка. Голова ее повернута влево, лицо задумчивое.
– И о чем она думает?
– О роге единорога.
– Довольно, Никола, – вмешался Филипп.
Но меня разобрало любопытство.
– Рог единорога обладает магической силой, – продолжил Никола. – Есть такое поверье, что он очищает отравленный колодец. И не только колодец.
– Например.
Никола примолк.
– На сегодня достаточно. В другой раз доскажу.
Последнюю фразу Никола произнес со вздохом, который уловила одна я. У Филиппа не такое чуткое ухо.
– Bon. Дайте сообразить. Я бы выбрала для мильфлёра мяту, поскольку она защищает от яда. А еще – веронику, маргаритки и ноготки: они помогают при желудочных коликах. Добавила бы земляники, она ведь тоже противоядие и вместе с тем символ нашего Господа Иисуса Христа. Насколько я разбираюсь, дама и единорог олицетворяют Богоматерь и Христа. Цветы Девы Марии – это ландыш, наперстянка, водосбор, фиалки. Ну да, еще шиповник, белый – эмблема непорочности, красный – Христовой крови. На шпалере, где единорог положил передние ноги даме на колени, уместны гвоздики – слезы Божьей Матери по Сыну. Ведь это указание на благочестие. Как называется шпалера?
Я заранее знала ответ, память у меня превосходная, просто хотелось подразнить Никола с Филиппом.
Повисло молчание. Наконец Филипп выдохнул:
– «Зрение».
– Ах да, – непринужденно подхватила я. – И не забудьте про гвоздики там, где дама плетет свадебный венок.
– Это «Вкус».
– В свадебные венки иногда вплетают барвинок – эмблему верности. Можно добавить еще левкоев – это знак постоянства – и незабудок – символ истинной любви.
– Attends, Алиенора, мы за тобой не поспеваем. Пойду принесу еще бумагу и скамью.
Филипп побежал в мастерскую, а я осталась с Никола. Мне прежде не доводилось оставаться наедине с мужчинами вроде него.
– Почему тебя зовут Никола Невинный? – поинтересовалась я.
– Я живу рядом с кладбищем Невинных, возле улицы Сен-Дениз.
– Сам ты не кажешься таким уж невинным.
– Не в бровь, а в глаз, красавица, – хихикнул Никола.
– Ты не против, если я потрогаю твое лицо?
С моей стороны это было дерзостью. Даже к Филиппу я ни разу не обращалась с такой просьбой, а ведь мы знаем друг друга с детства. Но Никола – парижанин, его этим не смутишь.
– Bien sûr, – ответил он.
Он шагнул прямо на грядки, сминая мяту, мелиссу и незрелые ягоды и присел на корточки напротив меня, и я коснулась его лица. У него были мягкие волосы до плеч, колючие щеки, подбородок с ямочкой, широкий лоб. По обеим сторонам большого рта пролегли глубокие складки. Я нащупала довольно крупный тонкий нос и чуть сдавила его пальцами – он рассмеялся.
Вдруг он подскочил и в мгновение ока выкарабкался на дорожку. Когда подошел Филипп, волоча за собой скамейку, он нашел нас на наших прежних местах.
– Хотите взглянуть на цветы? – Я резко выпрямилась, отчего у меня даже закружилась голова.
– С удовольствием, – сказал Филипп.
Я выбралась на дорожку и повела их к цветочным клумбам.
– Сейчас много цветов, хотя фиалки, ландыши, барвинок уже отцвели. И купена начала опадать. Зато наперстянка и вероника только распустились. И видите, несколько желтых ноготков под сливой?
– Да, – ответил Никола. – Чего у тебя тут только нет! Столько труда, и, собственно, чего ради?
– Я сажаю цветы, чтобы ими любовались окружающие, но в первую очередь забочусь о папе. Мне хотелось, чтобы, украшая ковер цветами, он мог точно воспроизвести их форму и цвет. Так проще работать. Наша мастерская славится своим мильфлёром именно по этой причине. Кстати, а вот и левкой. Я посадила его по углам клумбы, потому что он очень пахучий и мне так проще ориентироваться. А вот водосбор, у него всего три стебелька, на каждом по три листика и три розетки – в честь Святой Троицы. Вот гвоздики, ромашки и маргаритки. Что вам еще показать?
Филипп спросил меня о других цветах, растущих на клумбе, и я присела на корточки и ощупала растения вокруг себя – голубой воробейник, камнеломку, мыльнянку. Затем Филипп устроился на скамье и стал делать зарисовки, его уголек скрипел, касаясь шершавой бумаги.
– Да, не забудьте про весенние цветы, – спохватилась я. – Подснежники и гиацинты. Они давно отцвели, но можно взглянуть на эскизы, которые делал папа, если вы плохо помните, как они выглядят. И еще нарциссы, их обязательно нужно изобразить на «Зрении», где единорог, совсем как Нарцисс, любуется своим отражением в зеркале.
– Ты прямо как Леон-старик. Он тоже находит единорога пустым и нахальным малым, – заметил Никола.
– Леон – человек мудрый, – улыбнулась я.
Со мною Леон всегда был ласков, почти как с родной дочерью. Как-то он признался, что происходит из иудеев, хоть и ходит вместе с нами на мессы, когда дела его приводят в Брюссель. Он по собственному опыту знает, что это значит – быть белой вороной и как сложно приноровиться к другим, чтобы от тебя была польза.
– Никола, принеси набросок «Слуха», я пририсую мильфлёр, – скомандовал Филипп.
Я, признаться, опасалась, что Никола ответит грубостью, но он, не говоря ни слова, отправился в мастерскую. Сама не знаю почему, но мне вдруг стадо невмоготу общество Филиппа, не дай бог заведет какой-нибудь несуразный разговор. И пока ничего такого не случилось, я быстренько улизнула к маме на кухню.
По запаху я догадалась, что готовит мама на обед: форель, молодую морковь из нашего огорода, пюре из сухих бобов и гороха.
– Никола и Филипп тоже будут обедать? – спросила я, расставляя на столе кружки.
– Надо полагать.
Что-то тяжелое глухо стукнуло о стол. Это мама поставила горшок с гороховым пюре. Затем она вернулась к очагу, и вскоре я услышала, как скворчит поджаривающаяся рыба. Я принялась разливать пиво, догадываясь по звуку, когда кружка наполняется до краев.
С огнем я не умею так ловко управляться, как с растениями. У меня душа не лежит к стремительным переменам. Зато я люблю ковры. Они ткутся долго, из месяца в месяц увеличиваясь в размере, совсем как цветы у меня в саду. Мама, когда готовит, без конца перекладывает вещи с места на место, и я вечно опасаюсь запнуться о мешок с горохом, или перевернуть горшок с яйцами, или не найти нож там, где его положила. На кухне от меня немного проку. Я не могу присматривать за огнем. Сколько раз мое рвение кончалось тем, что я подпаливала себе подол. Однажды я подбросила так много дров, что пламя вырвалось из очага, и мы бы сгорели, если бы не брат, который сбил огонь шерстью, намоченной в воде. После этого случая папа запретил мне подходить к очагу. Я не умею жарить мясо и птицу. Не могу ни снять горшок с огня, ни поставить его на огонь. Даже помешивать суп и то не могу – он брызжет мне на руки.
Зато прекрасно режу овощи. Мама говорит, кусочки моркови у меня даже чересчур ровные и аккуратные. Но иначе я не умею, а то еще палец отхвачу. И еще у меня получается чистить котлы, заправлять еду пряностями, только не очень быстро, поскольку надо время, чтобы по запаху отличить мускат от корицы или от перца, и приходится часто пробовать блюдо. Но я очень стараюсь быть хорошей помощницей.
– Как тебе Никола?
– Самовлюбленный нахал, – улыбнулась я.
– Точно. Но красив, этого не отнять. Небось в Париже не пропускает ни одной юбки. Надеюсь, у нас все обойдется без неприятных последствий. Будь с ним поосторожнее, дочка.
– Зачем ему слепая вроде меня?
– Это как раз ему все равно.
Лицо у меня зарделось. Я отвернулась в сторону и открыла деревянную хлебницу. По звуку я поняла, что внутри одни крошки. Я провела рукой по маленькому столу, затем по большому, стоящему на козлах.
– У нас есть хлеб? – спросила я наконец.
Мне всегда неприятно признаваться, что я что-то не нахожу.
– Мадлен пошла в лавку.
Я уже примирилась с мыслью, что служанку держат из-за меня. Мадлен заменяет мне глаза и делает по хозяйству то, что положено выполнять дочери, маминой помощнице. Но поскольку папина мастерская благодаря мильфлёру добилась известности и заказов с каждым годом только прибавляется, мы с мамой много помогаем в мастерской, так что совсем неплохо, что у нас есть Мадлен. Мы без Мадлен уже как без рук, хотя мама и готовит по возможности сама. Она говорит, что тушеное мясо у Мадлен выходит абсолютно пресным и живот от него болит. Но когда работы по горло, мы с удовольствием питаемся ее стряпней, моемся водой, которую она приносит, сидим возле огня, который она разводит. И хворост собирает тоже она.
Вернулась Мадлен с хлебом. Она довольно высокая, ростом с маму, но более широкая в кости. У нее здоровенные руки. И мужчины на нее засматриваются. Однажды вечером я застукала ее в саду с Жоржем-младшим. Они, верно, думали, что я не услышу, как они возятся, или не замечу, что кто-то вытоптал нарциссы возле ивовой изгороди. Конечно, я ничего никому не сказала. Да и что я могла сказать?
Следом за Мадлен явились папа с братьями – они были у торговца шерстью.
– Я заказал шерсть и шелк, – сообщил папа маме. – В Остенде остался небольшой запас. Хватит для основы и немного для утка. Заказ доставят на днях, так что можно готовить станок. Что до остального, все зависит, каким будет море и как скоро корабль доберется из Англии до нашего берега.
Мама кивнула.
– Обед поспел. Где Филипп с Никола?
– В саду, – сказала я и побежала их звать, чувствуя спиной мамин взгляд.
За обедом папа расспрашивал Никола о Париже. Мы любим послушать про чужие края. Папа бывал в Остенде и некоторых других ткацких городах, таких, например, как Лиль и Турень. Но Париж много дальше. Один раз он ездил в Антверпен и брал с собой маму с Жоржем-младшим, я же ни разу не выбиралась за городскую стену – и ладно. Зачем лишние страхи? Наш квартал – другое дело, здесь я чувствую себя как рыба в воде. Я знаю церковь Нотр-Дам де ля Шапель, поскольку наш дом совсем рядышком, и рыночную площадь перед ней, церковь Нотр-Дам на Саблоне, ворота, которые ведут на Большую площадь, рынки, кафедральный собор. Это мой привычный мир. Но я люблю слушать рассказы о разных местах и всегда пытаюсь нарисовать их себе в воображении. Например, море. Здорово, когда воздух вокруг пропитан запахом соли и рыбы, рокочут и плещутся волны, а соленые брызги летят прямо в лицо. Папа описывал море, но слова – это не совсем то, хорошо бы самой ощутить мощь необъятного водного простора.
– Как выглядит собор Парижской Богоматери? – спросил папа. – Я слыхал, он даже громаднее нашего кафедрального собора.
– Ваш собор – пастушья хижина по сравнению с ним, – усмехнулся Никола. – Собор Парижской Богоматери – это сами небеса, сошедшие на землю. У него самые стройные башни, самые звонкие колокола, самые чудесные витражи. Я бы многое отдал, если бы мне дали расписать его окна.
Я собралась было порасспросить про колокола, но вмешался Филипп:
– Мы, брюссельцы, гордимся нашим кафедральным собором. К концу года будет отстроен западный придел. Гордимся и другими нашими церквями. Церковь Нотр-Дам де ля Шапель – поистине грандиозное сооружение. Нотр-Дам на Саблоне невелика по размеру, но оттого не менее красива. И витражи у нее не хуже парижских.
– Ваши церкви, безусловно, красивы, но в них нет того величия, которым поражает собор Парижской Богоматери, – не уступал Никола. – Я часто стою под его стенами и наблюдаю за прохожими, которые задирают голову и разевают от удивления рты. Здесь полно карманников, потому что люди даже не замечают, как у них вытаскивают кошельки.
– Крадут? – удивилась мама. – И не боятся виселицы?
– В Париже казнят воров сплошь и рядом, но от этого их не становится меньше. Роскошь и богатство – непреодолимый соблазн для любителей легкой наживы. На протяжении всего дня в собор Парижской Богоматери стекаются знатные мужчины и женщины, одетые в великолепные наряды. Нигде так изящно не одеваются, как в Париже.
– А ты бывал где-нибудь еще? – поинтересовался Жорж-младший.
– Естественно.
– Где именно?
– В Лионе. Местные женщины очень соблазнительные.
– А еще?
– В Турене.
– Папа туда тоже ездил. Он сказал, замечательный город.
– Чудовищный. Ноги моей там больше не будет.
– В Турене ткут великолепные ковры, – заметил папа. – Зачастую не хуже наших, брюссельских.
– Женщины там плоские, как сковорода, и вечно хмурые, – произнес Никола, не переставая жевать.
Я насупила брови.
– А в Норидже ты бывал? – спросил папа. – Вот куда бы съездить – поглядеть на рынок, где торгуют шерстью.
– А моя мечта – Венеция, – ответил Никола.
– Почему? Тебя больше занимают шелка?
– Дело не в одних шелках. Венеция лежит на пересечении торговых путей, и через нее везут буквально все: пряности, живопись, украшения, меха. Все, что душа ни пожелает. И потом, там кого только нет: мавры, евреи, турки. Это людское смешение – настоящий праздник для глаз. – Он запнулся. – Прошу прощения, барышня.
Я пожала плечами. Только и говорят что про глаза. Я уже привыкла.
– Видимо, венецианки тебя не разочаровали, – вставил Филипп.
Мы с Мадлен прыснули. Филипп подпустил шпильку намеренно, чтобы разрядить обстановку и вернуть разговору непринужденность. Такой у него нрав.
– А какой у Жана Ле Виста дом? – поинтересовалась мама. – Небось громадный?
– Пожалуй, немаленький. Он прямо за городской стеной, неподалеку от аббатства Сен-Жермен-де-Пре – там очень красивая церковь, самая древняя в Париже. Жена Ле Виста очень религиозная женщина.
– А монсеньор Ле Вист?
– Он занятой человек, служит королю. Вряд ли у него находится время на мессы.
– Неужто бывает такое? – возмутилась мама.
– А дети у них есть? – спросила я, выскребая из миски остатки горохового пюре. От волнения у меня кусок застревал в горле.
– Три дочери.
– И ни одного сына? Надобно почаще молиться, – проговорила мама. – Остаться без наследника – такого и врагу не пожелаешь. Что бы стало с нашей мастерской, не народись у нас Жорж-младший?
Папа что-то промычал себе под нос. Он не любит, когда напоминают, что мастерская достанется Жоржу-младшему.
– Сколько времени нужно, чтобы пройти пешком Париж от края до края? – спросил Люк.
– По меньшей мере столько, сколько длятся две мессы подряд. Причем это если не заглядывать в таверны и не останавливаться поболтать со знакомыми. Днем и ночью на улицах столпотворение. И куча всякой всячины продается. Глаза разбегаются.
– Судя по твоему описанию, Париж – тот же Брюссель, только побольше и жители более разношерстные, – заметил Жорж-младший.
– Ничего общего, – фыркнул Никола.
– И в чем же разница? Не считая женщин.
– Вообще-то брюссельские девушки довольно хорошенькие. Надо только к ним приглядеться.
Я вспыхнула. Мадлен снова захихикала и заерзала на скамье, так что мне пришлось подвинуться поближе к маме.
– Может, хватит? – возмутилась мама. – Имей хоть толику уважения к этому дому. Вот получишь под зад – мы не поглядим, что ты парижский художник.
– Кристина! – воскликнул папа, а Жорж-младший и Люк прямо покатились от смеха.
– Я говорю то, что думаю. И потом, не забывай, здесь Алиенора и Мадлен, которым совершенно ни к чему слушать разглагольствования этого краснобая.
Папа хотел что-то сказать, но Никола его перебил:
– Поверьте, сударыня, у меня и в мыслях не было проявить непочтение к вам и к вашей дочери, не говоря уже о прекрасной Мадлен.
Мадлен скорчилась от хохота, пришлось легонько пнуть ее носком башмака.
– Ладно, – примирительно сказала матушка. – Хочешь продемонстрировать свое уважение, почаще ходи в церковь. А то ты там и носа не показывал с самого приезда.
– Вы правы, сударыня, это непростительное упущение. Сегодня же отправлюсь к обедне. Может, прогуляюсь до вашего Нотр-Дама на Саблоне, заодно взгляну на знаменитые витражи.
– Месса подождет, – вставил папа. – Надо срочно доделать первый эскиз, без него мы не можем начать. Так что сначала поработай с Филиппом, а когда закончишь – иди куда хочешь.
Матушка от ярости даже вздрогнула, но не произнесла ни слова. Месса для нее главнее всего, но папа – lissier, и ему решать, как поступать. Ничего, скоро она перестанет сердиться. Мама отходчивая. После обеда они с папой отправились в мастерскую. Мама, конечно, не ткет – за это гильдия папу оштрафует, – но помогает во многом другом. Ее отец был ткачом, и у него она обучилась заправлять станок, натягивать основу на раму, перематывать и сортировать шерсть, высчитывать, сколько на ковер пойдет шерсти и шелка и как долго продлится работа.
Тут я плохая помощница, зато швея из меня замечательная. Вечерами, пока ткачи отдыхают, я просиживаю часами, заметывая зазоры между соседними участками цвета. Поэтому ковры я знаю не хуже ткачей.
Конечно, когда заказчик не скупится и эскиз позволяет, папа, чтобы не оставалось зазоров, переплетает нити разных цветов между собой, делая зубцы или полоски, смыкающиеся друг с другом. Это очень кропотливый труд, который поглощает массу времени и стоит немалых денег, потому заказчики нередко предпочитают обойтись без этих изысков, как, например, это сделал монсеньор Ле Вист. Правда, по-моему, этот Ле Вист – обычный скупердяй. Впрочем, от парижского вельможи другого трудно ожидать. Так что в ближайшие месяцы мне предстоит как следует потрудиться.
Пока родители сидели в мастерской, я копошилась в саду – нужно было закончить с прополкой и еще показать мужчинам цветы, которые они нарисуют на большом холсте. Нам было хорошо втроем, в душе у меня царил покой – приятно, когда никто не ссорится.
Потом в саду появились Жорж-младший и Люк – понаблюдать за тем, как Никола с Филиппом рисуют. Солнце уже клонилось к закату. Я взяла две бадьи, чтобы набрать воды для полива, и отправилась на кухню – через нее я обычно хожу к колодцу, который находится в конце улицы. Внезапно я услышала имя Жака Буйвола. Я притаилась за дверью, ведущей в мастерскую.
– Сегодня я был у него, пообещал, что скоро закажу синюю шерсть, – говорил папа. – Он опять про нее спрашивал.
– Что за спешка, – отвечала мама. – Ей всего девятнадцать. В ее годы девушки не торопятся замуж: подыскивают подходящую партию, а те, у кого есть жених, дожидаются, пока тот выбьется в люди, или шьют себе приданое. И, помимо всего прочего, к нему невесты не выстраиваются в очередь.
– Да от вони помрут, – сказал папа.
Оба рассмеялись.
Я старалась не греметь ведрами и стояла ни жива ни мертва, боясь, что родители обнаружат мое присутствие. И вдруг я почувствовала, как кто-то вышел из сада и встал у меня за спиной.
– Как бы то ни было, никто другой пока к ней не посватался, – сказал папа. – Нельзя так просто взять и отмахнуться от его предложения.
– По-твоему, она больше ни на что не годна, кроме как быть женою вонючего красильщика? Неужто такой судьбы ты желаешь собственной дочери?
– Не так легко найти мужа для слепой.
– Она не обязана выходить замуж.
– И всю жизнь будет сидеть у нас на шее?
Я вздрогнула. Теперь ясно: я была не слишком расторопна.
Человек у меня за спиной зашевелился и тихонько выскользнул обратно в сад, а я беззвучно расплакалась. Единственное, на что способны мои глаза, – это источать слезы.








