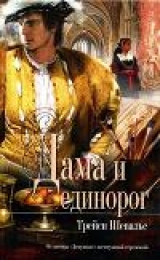
Текст книги "Дама и единорог"
Автор книги: Трейси Шевалье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Трейси Шевалье
Дама и единорог
Моей сестре Ким
ЧАСТЬ 1 ПАРИЖ
Великий пост и Пасха, 1490 год
НИКОЛА НЕВИННЫЙ
Посыльный сказал, мне надо поторапливаться. Нрав у Жана Ле Виста известный – он не любит утомлять себя ожиданием.
Ну и ладно. Я наспех промыл кисти и потопал за посыльным. В заказах от Жана Ле Виста уже одно хорошо: потом неделями не думаешь об обеде. Только король вправе говорить ему «нет», а я, поди, не король.
С другой стороны, сколько раз я летел через Сену на улицу Фур – и все впустую. Не то чтобы у Жана Ле Виста семь пятниц на неделе, совсем наоборот: он человек основательный и волевой, как его незабвенный Людовик XI. И все принимает за чистую монету. С ним не побалагуришь, да я, признаться, и не пробовал. Зато какое блаженство, выйдя от него, завалиться в ближайшую таверну: выпить, почесать языком, пощупать девчонок.
Он, конечно, знает, чего хочет. Хотя и такое бывало: прихожу я обсудить, скажем, как будет выглядеть очередной гербовый щит на камине, или узор на повозке его супруги, или витраж в часовне – злые-то языки говорят, что герб у Ле Вистов прост, как лошадиный навоз, – а он вдруг умолкнет на полуслове, покачает головой и пробурчит угрюмо: «Лишнее все это. Некогда мне забивать голову всякой ерундой. Ступай». И я ухожу, чувствуя себя виноватым, будто это мне, а не ему пришло в голову расписывать повозку.
Я бывал на улице Фур раз пять или шесть. Владение так себе. Вокруг неоглядные просторы, а дом такой тесный, как обычно в центре города строят: длинные узкие комнаты, мрачные стены, конюшни под носом. Из-за них внутри все время воняет лошадьми. В таких домах обыкновенно селятся чиновники, купившие себе титул: земли-то много, зато у черта на куличках. Жан Ле Вист, наверное, полагает, что жить в этом предместье – большая честь, а двор потешается у него за спиной. Мне все-таки кажется, что место Ле Виста – подле короля и собора Парижской Богоматери, а не за городской стеной среди болот Сен-Жермен-де-Пре.
Я постучал, и дворецкий провел меня не в увешанный картами кабинет, где Ле Вист вершил дела государственные и семейные, а в большой зал, отведенный для отдыха и приемов. Я тут оказался впервые. Это длинное помещение, в дальнем конце – огромный камин, посередине – дубовый стол. На вытяжном колпаке камина красуется лепной гербовый щит, другой щит нарисован над дверями. Больше особо смотреть было не на что, разве что потолок покрывали резные деревянные панели.
Да уж, особо не разгуляешься, подумал я, оглядываясь по сторонам. Ставни были отворены, но камина не разжигали, и от голых стен веяло холодом.
– Жди здесь. Хозяин сейчас выйдет, – буркнул дворецкий.
Такие уж люди в этом доме: либо почитают художников, либо откровенно их презирают.
Я повернулся к нему спиной и уставился в узенькое оконце, из которого открывался вид на монастырские башни Сен-Жермен-де-Пре. Поговаривают, что Жан Ле Вист перебрался в эти края из-за набожной жены: отсюда ей ближе и удобнее ходить в церковь.
Дверь отворилась, я развернулся, готовясь отвесить поклон. Но это оказалась всего лишь служанка. Завидев мою согбенную фигуру, она фыркнула. Прошла мимо, побрякивая ведром, села перед камином и принялась выгребать золу.
Она или нет? Я старательно напрягал память, но в тот вечер за конюшнями было хоть глаз выколи. Вроде та казалась похудее и не такая смурая, но мордашка недурна. Отчего бы не перекинуться словцом?
– Погоди, – сказал я, когда она тяжело поднялась и направилась к дверям. – Присядь. Я тебе расскажу одну байку.
Девушка вздрогнула и замерла:
– Про единорога?
Точно, она. Я было открыл рот, но девушка меня опередила:
– Может, расскажешь про девушку, которую обрюхатили и, того и гляди, погонят с места?
Вот оно как. Я опять отвернулся к окну:
– Поосторожнее надо быть.
– А я-то уши развесила, когда надо было взять да запихать твой поганый язык тебе в задницу.
– Ладно, иди и будь умницей. Вот держи. – Я порылся в кармане, вытащил горсть монет и бросил их на стол. – Это тебе на ребенка.
Девушка плюнула мне в лицо. Покуда я утирался, она испарилась. Монеты тоже.
В скором времени в залу вошел Ле Вист, за ним семенил Леон-старик. Многие сеньоры обращаются к торговцам вроде Леона, когда им нужны посредники, чтобы не прогадать при сделке, сочинить договор, взять взаймы, сделать какое-нибудь приобретение либо проследить за наемными мастерами. Мы уже не раз с ним сталкивались, когда я работал над гербом для Ле Виста, сценой Благовещения в комнате его супруги, витражами для часовни, что в их замке под Леоном.
Леон у Ле Вистов – правая рука. Мне старик внушает уважение, но не более. Он из выкрещенных евреев. И не только не делает из этого обстоятельства тайны, но и обращает себе на пользу. Ведь Жан Ле Вист тоже не родовит. Потому-то Леон и пришелся тут ко двору – оба выбрались из грязи в князи. Конечно, Леон ведет себя весьма осмотрительно и два или три раза в неделю появляется в соборе Парижской Богоматери, дабы показаться на людях. Жан Ле Вист тоже не упускает случая подчеркнуть свое дворянство: благоустраивает жилище, не отказывает себе в увеселениях и расшаркивается перед королем.
Леон ухмыльнулся в бороду, точно приметил у меня на лбу рог.
– Добрый день, монсеньор. Вы меня звали? – повернулся я к Ле Висту и низко поклонился – даже в голове зашумело. Низко поклонишься – не переломишься.
У Жана Ле Виста тяжелый подбородок и острый взгляд. Он быстро оглядел залу и уставился в окно за моей спиной.
– У меня для тебя заказ, Никола Невинный. – Он одернул рукава алого платья, подбитого кроличьим мехом, как у судейских. – Для этого зала.
Приняв равнодушный вид, я осмотрелся. С Жаном Ле Вистом иначе нельзя.
– Что будем делать, монсеньор?
– Шпалеры.
Как минимум две, подметил я.
– Желаете украсить двери с двух сторон коврами с вашим гербом?
Жан Ле Вист поморщился. Я прикусил язык.
– Шпалеры должны закрыть все стены.
– Все стены?
– Именно.
Я повнимательнее оглядел зал. В нем было по меньшей мере несколько десятков шагов в длину и шагов двадцать в ширину. Толстые шероховатые стены сложены из местного серого камня. Вдоль одной длинной стены шли подряд три окна, примерно половину другой занимал камин. Соткать ковры, какие он задумал, – занятие на несколько лет.
– Какие у монсеньора пожелания по поводу рисунка?
Однажды Жан Ле Вист мне уже заказывал эскиз ковра, естественно с гербом. Помнится, я справился без особого труда: увеличил герб до нужных размеров, а по фону разбросал зеленые веточки.
Жан Ле Вист скрестил на груди руки.
– В прошлом году я стал главой Высшего податного суда.
Мне эта должность ни о чем не говорила, но я знал, как надобно отвечать:
– Мои поздравления, монсеньор. Это большая честь для вас и вашей семьи.
Леон возвел глаза к резному потолку, а Жан Ле Вист замахал рукой, точно разгонял облако дыма. Что ни скажу, все невпопад.
– По случаю своего назначения я хочу заказать серию шпалер. Эта комната предназначена для крупных торжеств.
На сей раз я выжидал.
– Конечно, без фамильного герба мы не обойдемся.
– Ваша правда, монсеньор.
И тут Жан Ле Вист меня удивил.
– Но этого мало. Здесь и без того гербов предостаточно, и в остальных комнатах тоже. – Он указал на рисунок над дверью, потом на камин и даже на резной герб на потолочной балке, который я сперва не приметил. – Мне бы хотелось видеть что-нибудь более грандиозное, соразмерное положению, которое я занимаю при дворе.
– Может, шествие?
– Лучше битву.
– Битву?
– Да. Битву при Нанси.
По моему лицу блуждала задумчивая улыбка. Признаться, я мало смыслил в битвах и ничегошеньки не знал, что там стряслось при Нанси: кто и с кем воевал, кого убили, кто вышел победителем. Мне доводилось видеть картины со сражениями, но сам я по этой части полный профан. «Лошади», – мелькнуло у меня в голове. Пожалуй, чтобы занять все пространство, придется нарисовать не менее двух десятков лошадей – сплетение рук, ног, доспехов. Интересно, почему выбор Жана Ле Виста – а точнее, Леона – пал именно на меня? При дворе я известен скорее как миниатюрист, автор дамских портретов, которые мои заказчицы вручали кавалерам, чтобы те носили их как талисман. Миниатюры ценят за тонкую работу, и на них хороший спрос. Для приработка – на стаканчик вина – я разрисовывал щиты и дверцы дамских повозок, но мое истинное призвание состояло в ином: взять тонкую кисть – всего несколько щетинок – и краску, замешанную на яичном белке, и изобразить лицо размером не больше ногтя. Тут нужно иметь твердую руку, а моя рука никогда не дрожала – даже после ночных попоек в «Золотом петухе». Однако при одной мысли о двух десятках здоровенных жеребцов меня прошиб пот, хотя в комнате было прохладно.
– Так вы говорите, битва при Нанси, монсеньор? – переспросил я, подозревая, что опять сморозил какую-то глупость.
– А что такое? – нахмурился Жан Ле Вист.
– Да ничего, – залепетал я скороговоркой. – Просто это очень важная работа, и надобно убедиться, что вы выбрали именно то, что вам угодно. – Я проклинал себя за свой язык.
– Я прекрасно знаю, что мне угодно, – фыркнул Жан Ле Вист. – А ты, как я погляжу, не больно-то рвешься получить эту работу. Может, стоит порадовать какого-нибудь другого художника?
Я снова отвесил глубокий поклон:
– Монсеньор, премного благодарен за выпавшую мне честь. Мне очень лестно, что вы вспомнили обо мне. Право, я не стою вашей доброты. Не сомневайтесь, в эти ковры я вложу всю свою душу и мастерство.
Жан Ле Вист снисходительно кивнул, принимая мое раболепство как должное.
– Об остальном договоритесь с Леоном. И сделайте замеры. – Он повернулся к дверям. – Первые наброски принесешь к Пасхе – точнее, к Великому четвергу, рисунки – к Вознесению.
– Ну ты и дурень, – хихикнул Леон, когда мы остались вдвоем.
С Леоном лучше сразу переходить к делу, пропуская мимо ушей его насмешки.
– Моя цена – десять туренских ливров: четыре вперед, три – когда будут наброски и еще три – за рисунки.
– Пять парижских ливров, – возразил он. – Половину за эскизы, остальное – когда монсеньор примет твою работу.
– Так не пойдет. Я не могу работать, ничего не получив вперед. И потом, я сказал: туренские ливры.
Леон не был бы Леоном, если бы не попытался меня надуть. Парижские ливры были дешевле.
Леон пожал плечами, глаза его повеселели:
– Мы с тобой где? В Париже. Так что ведем все расчеты в парижских деньгах. Мне они как-то милее.
– Восемь туренских ливров – три сейчас, три в середине и два в конце.
– Семь. Два получишь завтра, потом еще два, а в конце три.
Я сменил тему – с торговцами порой полезно потянуть время.
– Где будут ткать шпалеры?
– На севере. Скорее всего, в Брюсселе. Лучшие ткачи там.
На севере? Я вздрогнул. Однажды я попал по делам в Турен – и до того невзлюбил местные тусклый свет и подозрительный люд, что поклялся впредь не ездить в том направлении. Впрочем, никто меня не неволит, мое дело – рисовать рисунки, а этим можно заниматься и в Париже.
– Что ты знаешь о битве при Нанси? – спросил Леон.
У меня похолодело под ложечкой.
– Битва как битва. Все они одинаковые.
– Может, тебе и все женщины на одно лицо?
– Говорю, битва как битва.
– Не завидую твоей будущей жене, – покачал головой Леон. – А теперь скажи-ка: что у тебя будет на коврах?
– Лошади, воины в доспехах, штандарты, пики, сабли, щиты, кровь.
– А как будет одет Людовик Одиннадцатый?
– В доспехи, как же еще? Может, прикреплю ему на шлем какой-нибудь особенный плюмаж. Честно говоря, я в этих делах мало что смыслю, зато у меня есть приятели, которые на этом собаку съели. Ну и еще кто-то должен держать королевский штандарт.
– Надеюсь, твои приятели не такие темные, как ты, и знают, что Людовика Одиннадцатого не было при Нанси. В этой битве швейцарцы убили Карла Смелого. Разумеется, Людовик Одиннадцатый поддерживал швейцарцев, но сам в сражении не участвовал.
Обычная манера Леона – выставлять всех вокруг дураками, конечно кроме своего хозяина. Жана Ле Виста, поди, не выставишь дураком.
Леон достал из кармана листы бумаги и разложил их на столе.
– Я уже обговорил с монсеньором сюжеты и сделал основные замеры. Потом померишь поточнее. Гляди. – Он показал на шесть скособоченных прямоугольников, нарисованных углем. – Это две большие шпалеры, это четыре поменьше. А вот ход сражения.
Он пустился в подробное описание каждой сцены – армии разбивают лагеря, первая атака, главная битва в двух видах, гибель Карла Смелого и победный марш швейцарцев. Я внимательно слушал и делал наброски, но какая-то часть меня глядела на происходящее словно со стороны, поражаясь, как меня угораздило согласиться. На коврах не будет ни женских фигур, ни изящных и тонких форм, ничего такого, на чем я набил руку. Боюсь, мне придется изрядно попотеть.
– Закончишь рисунки, – напомнил Леон, – и считай, дело сделано. Я еду на север, отдаю их ткачам, и местный картоньер увеличит твои эскизы до размеров будущих ковров.
Мне бы порадоваться, что не придется рисовать здоровенных лошадей, но вместо этого я вдруг ощутил укол ревности.
– А если картоньер окажется никудышный? Переиначит все по-своему и загубит мой труд?
– Он не посмеет отступить от эскиза, который одобрил Жан Ле Вист, а что до мелких переделок – они всегда только на пользу. Ты, кстати, сколько нарисовал эскизов, Никола? По моим подсчетам, только один – с гербом.
– Зато я все сделал самостоятельно от начала и до конца – без всякого картоньера. Справлюсь и на этот раз.
– Эти шпалеры – другое дело. Без умелого картоньера не обойтись. И еще, пока не забыл. На коврах непременно должны быть гербы Ле Виста. Таково требование сеньора.
– Сеньор действительно сражался со швейцарцами?
Леон хмыкнул:
– Во время битвы при Нанси Жан Ле Вист находился на другом конце Франции, трудился во благо короны. Но не все ли равно? Пусть его гербы украшают чьи-нибудь флаги и щиты. Ты, наверное, захочешь поглядеть на батальные картины. Разыщи печатника Жерара на улице Вьей-дю-Тампль – у него есть подходящая книга с гравюрами. Я его предупрежу. А теперь промерь как следует стены, а я, пожалуй, откланяюсь. Если что не ясно, заходи, а так жду тебя самое позднее в Вербное воскресенье. Если у меня появятся замечания, у тебя должен быть запас времени, чтобы внести поправки до встречи с монсеньором.
Леон-старик был воистину глазами Жана Ле Виста. Надо ему угодить: если он одобрит – это, считай, все равно что одобрит Ле Вист.
На языке у меня вертелся вопрос:
– Почему заказ отдали именно мне?
Леон потуже запахнул полы простого коричневого кафтана – ему не полагалось отделывать платье меховой опушкой.
– Это не мое решение. Будь моя воля, я бы присмотрел художника более опытного либо отправился прямиком к ткачу – у них имеются образцы эскизов на выбор, вполне пристойных. Так дешевле и совсем неплохо. – Леон был, как всегда, прямолинеен.
– Значит, так захотел Жан Ле Вист?
– Скоро сам узнаешь. Итак, жду тебя завтра у себя – подпишешь бумаги и получишь деньги.
– Но мы так и не договорились о цене.
– Неужели? Знаешь, Никола, бывают заказы, от которых художники не отказываются.
Он еще раз взглянул на меня и вышел.
Он прав. И какая муха меня укусила – не мне же, в конце концов, ткать эти шпалеры. Плата более или менее сносная. Леон не так уж сильно сбил мою цену. Если, конечно, речь идет не о парижских ливрах, вдруг усомнился я.
Я покосился на стены, которые мне предстояло убрать богатым покровом. Два месяца корпеть над лошадьми и всадниками! Я промерил комнату шагами, сначала вдоль, затем поперек. Получилось двенадцать на шесть. Затем вскарабкался на стул и попытался дотянуться до потолка. Безуспешно. Поставил стул на место и почесал в затылке, потом залез на дубовый стол и потянулся вверх – до потолка оставалось расстояние, равное по меньшей мере моему росту.
Я размышлял, где бы достать длинный шест, чтобы померить высоту потолка, когда у меня за спиной раздался шорох. Я обернулся. В дверях стояла девушка и глядела на меня во все глаза. Хорошенькая – матовая кожа, высокий лоб, тонкий нос, волосы цвета меда, ясные глаза. В жизни таких не видал. Я даже слегка обомлел.
– Здравствуй, красавица, – выговорил я наконец.
Девушка хихикнула и переступила с ноги на ногу.
На ней было простое голубое платье с тугим корсажем, квадратным вырезом и узкими рукавами. Добротная шерсть, ладный крой, только ткань без узоров. На голове такое же однотонное покрывало, волосы длинные, почти до пояса. Явно не прислуга: достаточно сравнить со служанкой, что чистила камин. Может, камеристка?
– Тебя хочет видеть госпожа, – сказала она и, прыснув, убежала прочь.
Я даже бровью не повел. Жизненный опыт мне подсказывал, что надо стоять где стоишь и тогда собаки, соколы и девушки обязательно вернутся обратно. Ее шаги зазвучали в соседней комнате. Потом все стихло. В следующий миг опять раздался топоток, и девушка появилась в дверях.
– Ты идешь? – улыбнулась она.
– Конечно, красавица, но только вместе с тобой. Ты уж не убегай, я ведь не дракон, чтобы от меня удирать.
Девушка фыркнула.
– Тогда пойдем. – Она поманила рукой, и я соскочил со стола.
Я едва за ней поспевал, так она мчалась. Юбка развевалась, точно снизу ее поддувал невидимый ветерок. Порой мои ноздри улавливали ее запах – сладкий и терпкий, перемешанный с запахом пота. Желваки ее ходили, как будто она что-то усердно жевала.
– Что у тебя, красавица, во рту?
– Зуб болит.
Девушка высунула язык – на розовом кончике лежал зубчик чеснока. При виде ее языка у меня в штанах затвердело. Вот бы ее взборонить.
– Бедняжка. Зачем я понадобился твоей госпоже?
Она весело взглянула на меня:
– Думаю, она сама объяснит.
Я сбавил шаг.
– Куда ты летишь? Не будет большой беды, если мы немного поболтаем.
– О чем?
Девушка свернула на винтовую лестницу. Я перемахнул через ступеньку и преградил ей путь.
– Тебе какие звери нравятся?
– Звери?
– Мне обидно, что ты видишь во мне дракона. Лучше я предстану в твоих глазах зверем, который больше тебе по сердцу.
Девушка призадумалась.
– Может, длиннохвостым попугаем? Я люблю попугайчиков. У меня их четверо. Они совершенно ручные и клюют с ладони.
Она прошмыгнула мимо меня и застыла ступенькой выше. Вот оно, пронеслось у меня в голове. Товар выложен, а любопытство возьмет свое. Ну же, милочка, иди сюда, полюбуйся на мое добро. Стисни его покрепче.
– Попугай не годится. Он кричит и всем подражает.
– Мои попугайчики совсем не крикливые. И потом, ты художник. Разве художники не подражают жизни?
– Я делаю вещи красивее, чем они есть на самом деле, хотя, девочка моя, не все на холсте преображается в лучшую сторону.
Я преодолел еще несколько ступенек и остановился – теперь она оказалась ниже. Подойдет или нет?
И она подошла. Она смотрела на меня своими ясными, широко распахнутыми глазами, но ее губы кривила понимающая улыбка. Языком она гоняла чеснок, засовывая его то за одну щеку, то за другую.
«Никуда ты от меня не денешься», – подумал я.
– Может, ты лис? У тебя волосы отливают рыжиной.
Я надул губы:
– Какая же ты злая! Я, по-твоему, хитрец? Обманываю людей? Уж скорее я пес, лежащий у ног хозяйки, верный ей до последнего вздоха.
– С собаками мороки много, – сказала девушка, – они прыгают на меня и лапами пачкают юбку.
Она двинулась вверх по лестнице.
– Давай скорее, госпожа ждет.
Надо спешить: я потерял слишком много времени не на тех зверей.
– Знаешь, каким зверем мне хочется быть? – Я тяжело дышал, едва поспевая за ее легким шагом.
– Каким?
– Единорогом. Слыхала о таком?
Девушка фыркнула. Она уже поднялась до самого верха и толкала дверь, ведущую в комнату.
– Еще бы! Они любят класть голову невинным девушкам на колени. Тебе этого хочется?
– Фу, как грубо. Единороги умеют и еще кое-что. Их рог обладает чудодейственной силой.
Девушка замедлила шаг и обернулась:
– И в чем ее чудодейственность?
– Если колодец отравлен…
– Вот и колодец! – Девушка остановилась возле окна и показала на колодец во дворе.
Девочка помладше ее, перегнувшись через край, смотрела в черную бездну, ее волосы золотились на солнце.
– Это любимое занятие Жанны. Она обожает рассматривать свое отражение.
Девочка плюнула в колодец.
– Так вот, красавица, если твой колодец отравят или заплюют, как Жанна сейчас, то придет единорог, опустит рог в воду – и колодец опять станет чистым. Что скажешь?
Девушка гоняла чесночину во рту.
– А что ты хочешь услышать?
– Хочу, чтобы ты считала меня своим единорогом. Бывают дни, когда женщины тоже нечисты, и ты, красавица, не исключение. Так уж вам определено со времен Евы. Первородный грех. Но ты можешь очиститься и очищаться из месяца в месяц, если доверишься мне. И я буду боронить тебя, пока ты не начнешь смеяться и плакать. Каждый месяц ты будешь возвращаться в Эдем.
Последняя фраза действовала на женщин безотказно – их подкупала картина примитивного рая, который я рисовал перед ними. Они разводили ноги в стороны, предвкушая неземное блаженство. Быть может, кто-то из них и обрел рай.
Девушка рассмеялась, на этот раз чуть хрипло. Готова. Я протянул руки, чтобы стиснугь ее в объятиях и скрепить нашу сделку.
– Клод? Это ты? Куда ты запропастилась?
Двери отворились, и на пороге появилась женщина, она внимательно разглядывала нас, скрестив руки на груди. Я быстренько отстранился.
– Прости, мама. Вот он.
Клод сделала шаг назад и показала жестом на меня. Я поклонился.
– Что у тебя во рту? – спросила женщина строго.
– Чеснок. От зуба.
– Пожуй мяту. Она помогает гораздо лучше.
– Хорошо, мама.
Клод опять прыснула – может, заметила выражение моего лица. И вприпрыжку выбежала, хлопнув за собой дверью. Звук ее шагов эхом прокатился по комнате.
Меня прямо в пот бросило. Оказывается, я едва не соблазнил дочь Жана Ле Виста.
За все те разы, что я бывал на улице Фур, у меня не было случая увидеть трех дочерей Ле Виста вблизи – они то резвились во дворе, то выезжали на лошадях, то направлялись вместе со свитой в монастырь Сен-Жермен-де-Пре. Девчушка у колодца, как пить дать, была их породы: и по цвету волос, и по ее манерам при желании несложно было догадаться, что они с Клод сестры. Мне бы в голову не пришло заговаривать с Клод и кормить ее байками про единорога, сообрази я вовремя, кто они такие. Но в те минуты мне было не до выяснения ее происхождения – меня заботило одно: как затащить ее в постель.
Если Клод проговорится отцу, меня выкинут вон и лишат заказа. И я больше никогда ее не увижу.
Меня потянуло к ней даже еще сильнее, но иначе, чем прежде. Хотелось, чтобы она лежала рядышком, а я бы гладил ей волосы, целовал губы, болтал о чепухе, веселил ее смешными историями. Интересно, в какую часть дома она убежала? Хотя мне туда вход все равно заказан – парижский мазила не ровня дочери дворянина.
Я тихо стоял, погруженный в эти грустные думы, и стоял так довольно долго. Женщина пошевелилась, четки, прикрепленные к поясу, тихо стукнули, зацепившись за пуговицы на рукаве. Она смотрела на меня таким взглядом, словно догадывалась, что творится у меня на душе. Без слов она распахнула дверь и проследовала в комнату, я за ней.
Я бывал во многих дамских покоях, и эти мало чем отличались от других. Кровать из каштана наполовину скрывал шелковый желто-голубой балдахин. Дубовые стулья с вышитыми подушками на сиденьях выстроились в полукруг. На столике стояли флаконы и ларец с драгоценностями, на полу – несколько сундуков с одеждой. В открытом окне, словно в раме, вырисовывались башни Сен-Жермен-де-Пре. В углу примостились несколько девушек с вышиванием. Они заученно улыбнулись, и мне сделалось стыдно, что я принял Клод за одну из них.
Женевьева де Нантерр, жена Жана Ле Виста и хозяйка дома, опустилась на стул под окном. В молодости она явно была красавицей – высокий лоб, изящный подбородок, только лицо не в форме сердечка, как у Клод, а треугольное. Пятнадцать лет супружества наложили на нее отпечаток: нежные округлости исчезли, подбородок отяжелел, лоб прорезали морщины. Если глаза Клод напоминали спелую айву, эти – черную смородину.
Но одним она затмевала дочь – своим нарядом. На ней было кремово-зеленое парчовое платье с причудливым узором из цветов и листьев. На шее сверкали драгоценности, в волосы вплетены жемчужины и шелковые ленты. Уж ее-то – в парадном наряде – не перепутаешь с камеристкой: наряд соответствует положению.
– Вы с моим мужем сейчас в большом зале обсуждали шпалеры.
– Верно, сударыня.
– Насколько я понимаю, он хочет, чтобы на них была битва.
– Да, сударыня. Битва при Нанси.
– Какие именно сцены?
– Точно не скажу, сударыня. Я только что узнал о заказе. Надо еще сделать наброски.
– Но там будут рыцари?
– Непременно.
– Лошади?
– Обязательно.
– Кровь?
– Простите, сударыня?
Женевьева де Нантерр развела руками:
– Это же битва. Будут ли раненые и убитые?
– Вероятно, сударыня. Карл Смелый погибнет.
– Ты хоть раз видел сражение, Никола Невинный?
– Нет, сударыня.
– Вообрази себе на минуту, что ты солдат.
– Я придворный художник.
– Знаю, просто вообрази: ты солдат, участник битвы при Нанси, потерял в ней руку. Ты наш с мужем гость и сидишь в большом зале. Рядом – твоя верная женушка. Она помогает тебе управляться там, где нужны обе руки: отломить хлеба, пристегнуть к поясу саблю, взобраться на лошадь.
Речь Женевьевы де Нантерр текла размеренно, словно она напевала колыбельную. Казалось, будто меня подхватило течение и несет неведомо куда.
«Может, она слегка не в себе?» – подумал я.
Женевьева де Нантерр развернулась ко мне лицом:
– Ты ешь и разглядываешь шпалеры, а на них – битва, которая тебе стоила руки. На поле битвы лежит изрубленное тело Карла Смелого, из его ран хлещет кровь. И повсюду стяги с гербом Ле Виста. Но где же сам Жан Ле Вист?
Я припомнил слова Леона:
– Монсеньор там, где король, сударыня.
– Совершенно верно. В это время оба находились в Париже и мой муж преспокойно заседал в суде. И что бы ты почувствовал на месте солдата при виде знамен Жана Ле Виста, твердо зная, что Ле Виста не было при Нанси?
– Подумал бы, что монсеньор – важная персона и его место возле короля. Порой совет значит больше, чем военная выучка.
– Весьма учтиво с твоей стороны, Никола. Ты даже более деликатен, чем мой супруг. И все-таки соберись с мыслями и скажи начистоту, что подумает солдат.
Тут я понял, куда несет меня эта река из слов. Будь что будет, подумал я и причалил к берегу:
– Он оскорбится, сударыня. Его жена тоже.
– Вот именно, – кивнула Женевьева де Нантерр.
– Но…
– И скажи на милость, зачем моим дочерям, танцуя на пирах, взирать на все эти кровавые ужасы? Ты видел Клод. Неужели ты хочешь, чтобы за едой она рассматривала раненую лошадь или всадника с отрубленной головой?
– Нет, сударыня.
– И я тоже не хочу.
Камеристки притворно улыбались в углу. Женевьева де Нантерр добилась своего. Умом она явно превосходила большинство знатных дам, чьи портреты я рисовал. Поэтому мне и захотелось ей потрафить. Но это небезопасно.
– Я не могу ослушаться монсеньора.
Женевьева де Нантерр снова опустилась на стул.
– Скажи, Никола, ты знаешь, благодаря кому получил эту работу?
– Нет, сударыня.
– Благодаря мне.
У меня глаза полезли на лоб.
– Вам?
– Я видела твои миниатюры с придворными дамами. Ты уловил нечто, что я очень ценю.
– Что именно, сударыня?
– Душу.
Удивленный, я поклонился в знак благодарности.
– Клод не помешало бы побольше заботиться о душе, но мои увещевания бесполезны, она не слушает мать.
На минуту она умолкла. Я переминался с ноги на ногу.
– Что вам угодно видеть на шпалерах вместо битвы, сударыня?
Глаза Женевьевы де Нантерр сверкнули.
– Единорога.
У меня просто челюсть отвисла.
– Даму и единорога, – пояснила она.
Она слышала наш разговор с Клод. Наверняка слышала, не может же это быть простым совпадением. Неужели она знает, что я хотел совратить ее дочь? Поди пойми по ее лицу. Она выглядела чрезвычайно довольной собой, в глазах сверкало злое торжество. Донесет на меня Жану Ле Висту – если сама Клод не наябедничала, – и про ковры можно забыть. Да что там ковры! Одно слово Женевьевы де Нантерр, и на всех моих попытках утвердиться в качестве придворного живописца можно запросто поставить крест. Не писать мне больше миниатюр.
Остается единственное – ее умаслить.
– Вам нравятся единороги?
Одна из камеристок хихикнула. Женевьева де Нантерр сурово сдвинула брови, и девица притихла.
– Я их никогда не встречала – откуда мне знать? Главное, они нравятся Клод. Она у нас старшая, и рано или поздно ковры достанутся ей. Пусть получит то, что ей приятно.
Я слышал, о чем судачили люди. В семье нет наследника, и это, судя по всему, очень тяготит Ле Виста – некому передать славный фамильный герб. Видимо, вина за рождение трех дочерей лежит на жене и давит ее тяжким бременем. Я смягчился.
– Что будет делать единорог?
– А ты как считаешь?
– На него, например, можно охотиться. Монсеньор будет рад.
– Никаких лошадей, никакой крови, – покачала она головой. – И Клод огорчится, если единорога убьют.
Я не осмелился упомянуть про чудодейственный рог. Придется повторить мысль Клод.
– Это будет пленение единорога. В лесу дама подманивает зверя музыкой, сладостями, цветами. Наконец он сдается и кладет ей голову на колени. Есть такая легенда.
– Пожалуй. Клод понравится. Девочка только-только вступает в жизнь. Дева и единорог. Ровно то, что нужно. Хотя мне лично все это в тягость – что сражение, что единорог. – Последнюю фразу она пробормотала себе под нос.
– Почему, сударыня?
– Юность, любовь, соблазн… Как все это далеко!
Она старалась казаться равнодушной, но в ее голосе сквозила тоска.
Она не делит ложе с супругом, мелькнуло у меня в голове. Произведя на свет дочерей, она исполнила свой долг. И исполнила не самым лучшим образом. Сыновей нет. Теперь, когда между ними глухая стена, жизнь ее пуста. У меня нет привычки сочувствовать знатным дамам. Ведь у них есть все: теплый очаг, сытая еда, служанки, прибегающие по первому зову. Но в этот миг мне стало ее жаль. Внезапно я увидел себя, каким буду через десять лет: изможденный долгими странствиями, студеными зимами, болезнями. Вот я одиноко лежу в холодной постели, суставы ноют, пальцы не гнутся, и мне трудно держать кисть. Не приведи боже превратиться в немощного старика! Поневоле запросишь смерти. Интересно, приходили ли ей в голову подобные мысли?
Она смотрела на меня своими умными печальными глазами.
И вдруг меня осенило. Пусть в этих коврах она найдет что-нибудь и для себя тоже. Соблазнение соблазнением, но ведь можно пойти дальше, придать сюжету двоякий смысл, и тогда история невинной девы, приручающей зверя, вберет в себя целую жизнь женщины от рассвета и до заката. Эта история расскажет об испытаниях, выпадающих на долю женщины, и о том нелегком выборе, который ей приходится совершать раз за разом. Вот что я нарисую. Я улыбнулся.








