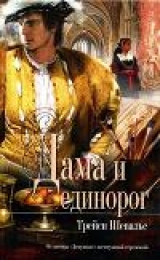
Текст книги "Дама и единорог"
Автор книги: Трейси Шевалье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Папины ноги были такими же, как он сам, – прямыми и безразличными, точно ножки стула.
– Теперь рисунки, – проговорил он.
Кто-то рылся в рисунках, двигал их по столу.
– Вот, монсеньор, – раздался голос Никола. – Удобнее смотреть в таком порядке. Здесь дама, соблазняя единорога, надевает ему на шею ожерелье. А здесь она играет ему на органе. Вот она кормит попугая – единорог подошел поближе, но все еще стоит на задних ногах, отвернувшись в сторону. Еще немного – и он покорен.
Никола чуть запнулся перед словом «кормит». Значит, я для него – «Вкус». Так попробуй меня.
– Здесь дама готовится к свадьбе и плетет венок из гвоздик. Это ее свадьба. Видите, как присмирел единорог. И наконец. – Никола пристукнул по столу, – единорог положил голову ей на колени, и они смотрят друг на друга. На последнем ковре зверь приручен: дама держит его за рог. Видите, на фоне животные в цепях – они стали пленниками любви.
Никола умолк, ожидая, что скажет отец. Но папа точно воды в рот набрал. Он часто так поступает, заставляя людей терять самообладание. Его прием возымел действие: Никола опять заговорил, довольно нервно.
– Как видите, монсеньор, пару единорогу составляет лев, который символизирует знатность, силу и храбрость – в дополнение к чистоте и воинственности единорога. Лев служит примером укрощенной дикости.
– Фон будет заткан узором мильфлёр, монсеньор, – добавил Леон. – Брюссельские ткачи сами придумают детали – это уже их дело. Никола изобразил фон в самых общих чертах.
Опять повисло молчание. Я затаила дыхание – скажет ли папа что-нибудь по поводу меня и мамы?
– Мало гербов, – изрек он наконец.
– На всех шпалерах лев и единорог держат знамена и штандарты с гербами Ле Виста, – ответил Никола.
В его голосе сквозила досада. Я протянула руку из-под стола и дернула его за ногу – нечего говорить с отцом в подобном тоне. Никола переступил с ноги на ногу.
– На этих двух рисунках всего по одному знамени, – заметил папа.
– Льву и единорогу можно пририсовать щиты, монсеньор.
Судя по всему, Никола понял намек: голос его стал спокойнее. Я погладила его по икре.
– Древки штандартов и знамен должны быть остроконечными, а не закругленными, как у тебя.
– Но… остроконечные древки носят только в бою, монсеньор.
Это замечание Никола выговорил так, словно кто-то его душил. Я хихикнула и потянулась к его бедру.
– А я хочу, чтобы концы были острыми, – повторил папа. – На коврах слишком много женщин и цветов. Добавь ради разнообразия боевые знамена и еще что-нибудь военное. Кстати, что произошло с единорогом после пленения?
К счастью, Никола не пришлось отвечать, ибо он потерял дар речи. Мои пальцы легли ему на выступ, твердый, как пенек. Я впервые трогала такое.
– Дама отведет единорога к охотнику и тот его убьет? – продолжал папа. Он любит сам отвечать на свои вопросы. – Надо добавить еще ковер, чтобы закончить историю.
– Насколько я понимаю, в большом зале больше нет места.
– Тогда выкинем кого-нибудь из женщин. Ту, что плетет венок, либо ту, которая кормит птицу.
У меня опустились руки.
– Прекрасная мысль, монсеньор, – сказал дядя Леон.
Я ахнула. Слава богу, Никола что-то забормотал и папа меня не услышал. И тут дядя Леон показал, как он умеет вести дела.
– Мысль замечательная, – повторил он. – Коварное убийство – это вам не боевые знамена, тонко подводящие к сути. Тут можно и перемудрить. Верно?
– Что ты имеешь в виду?
– Положим, идет охота – или, если вам угодно, битва, – об этом свидетельствуют остроконечные древки… Кстати, великолепная находка, монсеньор. Никола дорисует боевые щиты, может, еще что-нибудь. Дайте-ка сообразить. Как насчет шатра – наподобие того, что разбивают для короля во время сражения? Но, опять же, аллегория трудноуловима. Быть может, охотник, убивающий единорога, – лучшее решение?
– Нет. Пусть будет королевский шатер.
Пораженная, я опять присела на корточки. Дядя Леон подцепил папу на крючок, как рыбку, и выудил из него то, что хотел услышать.
– Шатер займет довольно много места, следовательно, его надо поместить на один из больших ковров, – зачастил Леон, не давая папе передумать. – К даме с ожерельем либо к даме с попугаем. Каков ваш выбор, монсеньор?
Никола попытался что-то вставить, но папа его перебил:
– К даме с ожерельем – она более величественная.
Я чуть не вскрикнула. Хорошо, что Никола задвинул ногу под стол и надавил мне на ступню. Я сидела молчком, а он постукивал мне по ноге.
– Решено. Никола, добавишь сюда шатер.
– С удовольствием, монсеньор. Будут ли у монсеньора особые распоряжения относительно орнамента на шатре?
– Герб.
– Само собой, монсеньор. Но я думал скорее о боевом девизе, говорящем, что идет битва за любовь.
– Я ничего не смыслю в любви, – проворчал папа. – У тебя есть какие-нибудь соображения? Ты по этой части вроде большой знаток.
И тут меня осенило, и я наступила Никола на ногу. В следующий миг один из рисунков скользнул под стол.
– Прошу прощения, монсеньор. Я очень неловок.
Никола нагнулся, и я шепнула ему на ухо: «C'est mon seul désir». И укусила его за мочку. Никола выпрямился.
– У тебя на ухе кровь, – сказал папа.
– Pardon, монсеньор. Поцарапался о боковину стола. Зато у меня появилась мысль. Как вам нравится – «À mon seul désir»? Это значит…
– Пусть будет по-твоему, – оборвал его папа. Этот тон был мне хорошо знаком – он означал, что совещание затянулось. – Исправления покажешь Леону. Я жду окончательных рисунков к середине июня. Не позднее. К Вознесению мы уже переберемся в замок д'Арси.
– Слушаюсь, монсеньор.
Папины ноги стали удаляться.
– Леон, пойдешь со мной, надо кое-что обговорить. Проводишь до Консьержери.
Платье Леона заколыхалось, когда он двинулся с места. Затем торговец остановился:
– Может, удобнее поговорить здесь, монсеньор? Никола сейчас уйдет.
– Конечно, только соберу рисунки.
– Нет, я тороплюсь. Пойдем. – С этими словами папа удалился.
Дядя Леон топтался в нерешительности. Ему очень не хотелось оставлять меня наедине с Никола.
– Иди, – прошипела я.
И он поспешил вслед за папой.
Я не выкарабкалась наружу, а так и стояла под столом на четвереньках. И в следующий миг ко мне заполз Никола. Мы уставились друг на друга.
– Добрый день, барышня.
Я улыбнулась. Он был не из той категории мужчин, которых мне прочили в мужья. И это меня радовало.
– Ты меня поцелуешь?
Он повалил меня на спину и прижал к себе – не успела я и глазом моргнуть. Его язык шарил у меня во рту, а пальцы мяли грудь. У меня появилось странное ощущение. Я мечтала о чем-то подобном с той самой минуты, как увидала его впервые, но сейчас, чувствуя тяжесть его тела, выпуклость, упирающуюся мне в живот, влажный язык, щекочущий ухо, к удивлению, испытывала разочарование. То есть какая-то часть меня отдавалась ласкам. Мне хотелось, чтобы он прижался ко мне покрепче и чтобы нас не разделяло множество слоев одежды. Хотелось коснуться его тела, ощупать каждую клеточку – сжать вишенку-ягодицу, промерить ладонями широкую спину. Наши губы сливались, и мне казалось, что я кусаю спелый плод.
Однако меня смущало, что его влажный язык словно чего-то жадно искал у меня во рту, тело давило и мешало дышать, руки забирались в сокровенные места, которых еще не касался ни один мужчина. Неожиданностью были и неуместные мысли, которые постоянно крутились у меня в голове: «Это еще зачем? Какой мокрый у него язык», или «Он проткнет мне бок своей пряжкой», или «Ему хорошо?».
И еще я размышляла об отце: о том, что лежу под столом в его кабинете, и о том, насколько большое значение он придает моей девственности. Способна ли я потерять голову, как Мари Селест? Все эти мысли и отравляли мне удовольствие. «Правильно ли мы делаем?» – шепнула я, когда Никола стал покусывать мою грудь через одежду.
– Да, это безумие. Но когда еще выпадет такой случай?! – Никола принялся возиться с моей юбкой. – Разве они оставят нас наедине – тебя, дочь Жана Ле Виста, и меня, простого художника?
Он задрал мне юбку и нижнее платье, и его пальцы устремились вниз.
– Теперь, красавица, это мое единственное желание.
С этими словами он коснулся моего лона, и меня пронзило такое удовольствие, что я чуть не потеряла голову.
– Клод!
Я посмотрела вбок и увидела перевернутое лицо Беатрис.
Никола выдернул руку у меня из-под юбки, но, что мне понравилось, не откатился в сторону. Он взглянул на Беатрис, потом нежно поцеловал меня и неторопливо встал на колени.
– Теперь-то я непременно выйду за тебя замуж, Никола… Помяни мое слово, – сказала Беатрис.
ЖЕНЕВЬЕВА ДЕ НАНТЕРР
Беатрис заявила, что платье на мне болтается как мешок.
– Либо кушайте больше, мадам, либо придется звать портного.
– Пошли за портным.
Мой ответ явно застал ее врасплох, и она не сводила с меня своих огромных, по-собачьи преданных карих глаз, пока я не отвернулась и не взялась за четки. Подобным образом на меня смотрела мать, когда я возила детей в Нантерр. Только взгляд у нее пытливее, чем у Беатрис. Так как у Клод разболелся живот, я велела Беатрис остаться и сказала, что я тоже страдаю желудочными коликами. Но она не поверила. Впрочем, я и сама не верила Клод. Быть может, существует такое правило: дочери лгут матерям, а те смотрят на ложь сквозь пальцы.
В глубине души я была рада, что Клод не с нами, хотя девочки умоляли ее поехать. Мы с Клод вечно цапаемся, точно две кошки. Она со мною замкнута и глядит исподлобья, будто оценивает, сравнивает себя со мной и думает, что не хочет на меня походить.
Я тоже этого не хочу.
По возвращении из Нантерра я отправилась к отцу Юго. Когда я присела рядом с ним на скамейку, он удивился:
– Vraiment, mon enfant, [6]6
Истинно, дитя мое ( фр.).
[Закрыть]неужто вы столько нагрешили за три дня, что опять пора исповедоваться?
Слова ласковые, но тон кислый. Откровенно говоря, его безразличие приводит меня в отчаяние. Я и сама от себя в полном отчаянии.
Уставившись на исцарапанную скамейку напротив, я повторила признание, которое уже делала однажды утром:
– Мое единственное желание – поступить в Шельский монастырь. Mon seul désir. Моя бабушка постриглась в монахини перед смертью, и мать, не сомневаюсь, сделает то же самое.
– Вам рано думать о смерти, mon enfant. И вашему супругу тоже. Ваша бабушка стала монахиней, овдовев.
– Вы считаете, что моя вера недостаточно крепка? Вам требуются доказательства?
– В вас говорит не вера, а желание отгородиться от жизни. Вот что меня беспокоит в первую очередь. У меня нет сомнений в вашей вере, но ваш первейший долг – служить Христу…
– Но ведь я ровно к тому и стремлюсь!
– …служить Христу, не заботясь о себе и мирской жизни. Монастырский скит не лучший способ укрыться от жизни, которую вы ненавидите…
– Терпеть ее не могу! – воскликнула я и прикусила язык.
Отец Юго, немного выждав, продолжил:
– Самые лучшие монахини получаются из женщин, счастливых в миру. Они счастливы и в монастырских стенах.
Я молча склонила голову. Было немного стыдно за то, что я наговорила. Надо набраться терпения – минуют месяцы, а может, и год-другой, прежде чем семена дадут всходы. Но когда-нибудь сердце отца Юго смягчится и он благословит мой душевный порыв. Вообще-то, не он решает, кому идти в Шель. Только аббатиса Катрин де Линьер обладает такой властью. Но мне без согласия мужа не стать монахиней, так что необходимо заручиться поддержкой влиятельных людей, которые замолвят за меня словечко.
Тут кое-что пришло мне в голову. Я разгладила юбку и откашлялась.
– Я получила довольно большое приданое, – тихо проговорила я. – Как Христова невеста я смогу пожертвовать значительную сумму церкви Сен-Жермен-де-Пре в благодарность за духовную поддержку. Если бы вы поговорили с мужем…
На сей раз умолк отец Юго. Я ждала, водя пальцем по царапине на скамейке. Когда он опять заговорил, в голосе его прозвучало неподдельное сожаление. Было неясно, чего ему больше жаль: упущенных денег или чего-то еще.
– Женевьева, вы прекрасно понимаете, что Жан Ле Вист вас не отпустит. Ему не нужна жена-монахиня.
– Но ведь ему можно объяснить, что таково мое предназначение.
– А вы сами пытались, как я предлагал?
– Он меня и слушать не станет. Вы – другое дело. С вашим мнением он не может не посчитаться.
– Я только что отпустил вам грехи, – поморщился отец Юго. – Зачем же сейчас лгать?
– Но он почитает церковь!
– К сожалению, церковь не имеет на него такого уж влияния. Оно существенно меньше, чем того хотелось бы, – сказал отец Юго осторожно.
Я молчала, с горечью думая о безбожии мужа. Будет ли он гореть в аду?
– Возвращайтесь домой, Женевьева, – продолжил он ласково. – У вас три прелестные дочери, замечательный дом и муж – правая рука короля. Вам даровано счастье, которому позавидовали бы многие женщины. Блаженны жены и матери, говорится в молитве, и Матерь Божья радуется, глядя на них с небес.
– И моему одинокому ложу радуется?
– Идите с миром, дитя мое! – Отец Юго поднялся.
Я не сразу ушла. Мне не хотелось возвращаться на улицу Фур – ловить на себе укоризненные взгляды Клод, чувствовать, что Жан старается не встречаться со мною глазами… Церковь – вот мое прибежище.
Сен-Жермен-де-Пре – древнейший собор в Париже, и мне повезло, что мы поселились неподалеку. В монастыре тихо и красиво. Из церкви открывается чудесный вид. Если выйти наружу и повернуться лицом к реке, то Париж виден как на ладони – до самого Лувра.
До переезда мы жили неподалеку от собора Парижской Богоматери, но он меня подавляет своим величием – голова кружится, когда я, задрав голову, смотрю на его башни. Жану, естественно, нравилось жить в городе, но его восхитило бы любое место, лишь бы поближе к королю. Теперь мне буквально два шага до Сен-Жермен-де-Пре, даже не нужен слуга, чтобы сопровождать меня при выходе.
Мое излюбленное место – придел Святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Она родом из Нантерра, и я названа в ее честь. После исповеди я пошла туда и опустилась на колени, наказав камеристкам оставить меня одну. Они уселись на ступеньки перед входом в придел, продолжая шушукаться, пока я на них не цыкнула:
– Это дом Божий, а не базарная площадь. Или молитесь, или ступайте вон.
Они покорно закивали. Лишь Беатрис сверкнула карими глазами, но под моим пристальным взглядом опустила голову и прикрыла глаза. Я увидела, как ее губы зашевелились, произнося молитву.
Сама я не молилась, а рассматривала витражи со сценами из жизни Девы Марии. Зрение мое с годами ослабло, контуры фигур расплывались, и я различала только цвета: голубой, красный, зеленый, коричневый. Невольно я принялась считать желтые цветочки, обрамляющие витраж, гадая, что каким цветом изображено.
Жан вот уже несколько месяцев не приходит в мою спальню. При посторонних он всегда держался со мной подчеркнуто официально, как того требовал этикет, но в постели когда-то был ласков. После рождения малышки Женевьевы он навещал меня даже чаще, чем прежде, надеясь зачать сына и наследника. Несколько раз я была тяжела, но выносить ребенка не удалось. За последние два года я так и не забеременела. Хуже того, у меня пропали регулы, хотя я ему ничего не сказала. Он сам узнал про мое несчастье – от Мари Селест или от кого другого, может, даже от Беатрис. Так в этом доме понимают преданность. Однажды ночью он явился ко мне и заявил, что ему известен мой секрет и что впредь он не коснется меня, ибо я не справилась с обязанностями жены.
Он прав. Это моя вина. Я читаю осуждение в глазах окружающих – Беатрис, камеристок, моей матери, гостей, которых мы принимаем, даже в глазах Клод, хотя она в какой-то степени плод моей неудачи. Помнится, когда ей было семь, она прибежала ко мне в спальню после рождения крошки Женевьевы. Она, вытаращив глаза, смотрела на спеленатого младенца, лежащего у меня на руках, но, услышав, что это не мальчик, фыркнула и вышла из комнаты. Конечно, она любит крошку Женевьеву, но предпочла бы иметь и довольного отца.
Я чувствую себя подстреленной птицей, которая не может взлететь.
Если бы он проявил хоть толику милосердия и позволил мне уйти в монастырь. Нет, Жан – человек не милосердный. И потом, я ему нужна. Несмотря на презрение, он хочет, чтобы я была рядом, пока он обедает, или развлекает гостей, или присутствует на приеме у короля. Кто-то непременно должен быть с ним рядом, иначе это неприлично. Да и двор его засмеет: что ж это за мужчина, от которого жена удрала в монастырь. Отец Юго прав. Может, я и опостылела Жану, но это ровным счетом ничего не меняет. Большинство мужчин таковы, поэтому в монахини стригутся вдовы, а не жены. Редкий муж добровольно расстанется со своей женой, как бы та ни была грешна.
Иногда я спускаюсь к Сене, чтобы взглянуть на Лувр, – и меня тянет броситься в воду. Поэтому камеристки не отступают от меня ни на шаг. Они все понимают. Я слышу, как одна из них у меня за спиной стонет от скуки. На долю минуты мне делается их жаль. Ходят за мной точно привязанные.
С другой стороны, благодаря мне у них есть красивые наряды, еда и теплый очаг по вечерам. Они едят сладости, а наш повар не жалеет специй: корицы, мускатного ореха и имбиря, – ведь он готовит для знати.
Я роняю четки на пол.
– Беатрис, – зову я. – Подбери.
Пока Беатрис нагибается, две камеристки помогают мне подняться.
– Мне надо переговорить с вами, госпожа, – тихо говорит Беатрис, возвращая мне четки. – Наедине.
Вероятно, по поводу Клод. Пора к ней приставить настоящую камеристку, а то за ней все еще ходит нянька, как за Жанной или малышкой Женевьевой. Я одалживала ей Беатрис, чтобы поглядеть, как они поладят. А я вполне обойдусь. У меня сейчас не такие высокие запросы. Девушке, входящей в зрелую пору, больше нужна опытная прислуга вроде Беатрис. Пока Беатрис мне все рассказывает про Клод, помогая приготовить дочь к взрослой жизни и удержать от беды. Но наступит день, и она перейдет в услужение к новой хозяйке – безвозвратно.
Я дождалась, пока мы обогнули монастырь и оказались за главными воротами.
– Пожалуй, я прогуляюсь к реке. Беатрис проводит меня. Все остальные свободны и могут идти домой. Увидите моих дочерей, передайте, чтобы попозже зашли ко мне. Мне надо с ними поговорить.
И прежде чем камеристки успели что-то сказать, я потянула Беатрис за руку налево, туда, где дорога плавно спускается вниз. А камеристки свернули направо, к дому. Они немного поворчали, но подчинились. Во всяком случае, я не заметила, чтобы кто-то пошел за нами.
Прохожие таращили глаза на знатную госпожу, гуляющую без свиты. А я чувствовала облегчение – никто не трещал у меня над ухом, точно стая сорок. Иногда эти камеристки просто несносны, особенно когда хочется покоя. Они и суток не выдержат в монастыре. Я никогда не беру их в Шель, за исключением Беатрис.
Мужчина, идущий по противоположной стороне улицы со своим писарем, завидев меня, поклонился так низко, что я его не признала. Только когда он выпрямился, я увидела, что это Мишель Орлеанский, знакомый Жана по суду. Он как-то обедал у нас.
– Госпожа Женевьева, я к вашим услугам, – произнес он. – Куда вас сопроводить? Я себе никогда не прощу, если позволю вам в одиночку гулять по улицам Парижа. Что обо мне подумает Жан Ле Вист?
Он долго смотрел мне в глаза – сколько хватило дерзости. Однажды он намекнул мне, что готов стать моим любовником, если, конечно, я не против. Я была против, но в тех редких случаях, когда наши взгляды встречаются, я читаю в его глазах прежний вопрос.
У меня никогда не было любовника, хотя у многих женщин они есть. Просто не хочу дарить Жану оружие против себя. Если я ему изменю, он сможет жениться на другой женщине и попробовать произвести на свет сына. Не до такой степени я похотлива, чтобы пожертвовать титулом.
– Благодарю, сударь, – приветливо улыбнулась я, – но я не одна, со мной служанка. Мы собираемся спуститься к реке и поглядеть на суда.
– Я с вами.
– Что вы, не стоит труда. Вижу, с вами писарь, вы наверняка спешите по важным делам. Не смею вас задерживать.
– Госпожа Женевьева, для меня нет и не может быть дела важнее, чем быть подле вас!
Я опять улыбнулась, на этот раз скорее принужденно, чем приветливо.
– Сударь, если мой муж прознает, что вы пренебрегаете службой ради прогулок со мной, он ужасно рассердится. Вы ведь не хотите навлечь на меня неприятности?
При одной мысли о гневе Жана Мишель Орлеанский попятился, вид у него был удрученный. Он несколько раз извинился и пошел своей дорогой, а мы с Беатрис аж покатились от смеха. Давно мы так не смеялись, а ведь какими когда-то были хохотушками. Мне будет очень ее недоставать, когда она сделается камеристкой Клод. При Клод она останется до той поры, пока ей не позволено будет выйти замуж и оставить службу.
Судов на реке было видимо-невидимо, они плыли вверх и вниз по течению. На другом берегу такелажники сгружали мешки с мукой, предназначавшиеся для несчетных кухонь Лувра. Некоторое время мы наблюдали за их работой. Мне всегда нравилось смотреть на Сену – она словно таила надежду на побег.
– Мне надо кое-что рассказать о Клод, – проговорила Беатрис. – Она совершила большую глупость.
Я вздохнула. Меньше всего мне хотелось разбираться в подробностях, но ничего не поделаешь, я мать.
– И что она такое натворила?
– Помните этого художника – Никола Невинного, он еще делает шпалеры для большого зала?
Я следила глазами за солнечными бликами на воде.
– Помню. И что?
– Я их застукала под столом.
– Под столом? Где?
Она смешалась, в огромных глазах мелькнул страх. Беатрис носит изящные наряды, как и все мои камеристки. Но даже тончайший шелк, затканный золотом и украшенный драгоценными камнями, не делает ее краше. У нее живые глаза, но впалые щеки, курносый нос, а кожа идет красными пятнами при малейшем волнении. Сейчас она вся пылала.
– В ее комнате? – предположила я.
– Нет.
– В большом зале?
– Нет.
Ее смущали мои догадки, а меня – ее недомолвки. Я опять бросила взгляд на реку, борясь с желанием на нее прикрикнуть. С Беатрис лучше быть терпеливой.
Неподалеку двое рыбаков, сидя в лодке, удили рыбу. Клева не было, но, казалось, их это не смущало. Они увлеченно переговаривались и над чем-то тихо подсмеивались. Нас они не заметили. И слава богу, а то, узнай они, кто мы такие, принялись бы кланяться, а потом отгребать подальше. Смотреть на радость простолюдинов – в этом есть какое-то особое удовольствие.
– В кабинете вашего мужа, – выговорила Беатрис шепотом, хотя никого, кроме меня, не было поблизости.
– Матерь Божья! – Я перекрестилась. – Как долго они оставались одни?
– Не знаю. Думаю, несколько минут. Но они… – Беатрис запнулась.
Меня так и подмывало ее встряхнуть.
– Они?
– Не то чтобы совсем…
– А ты где была, Господи Боже мой? Чья это обязанность – приглядывать за ней?!
Я намеренно не взяла Беатрис с собой, поручив ей проследить за Клод, дабы не случилось непоправимого.
– Я глядела. Но она обвела меня вокруг пальца, негодница. Послала купить… – Беатрис теребила четки. – В общем, не все ли равно. Но она не лишилась девственности, госпожа.
– Ты уверена?
– Да. Она была раздета не до конца.
– Раздета?
– Только наполовину.
Как бы сильно я ни разозлилась, дерзость Клод отчасти меня подкупала. Не дай бог, они попались бы на глаза Жану – лучше об этом даже не думать.
– И что ты сделала?
– Я выгнала его.
По ее лицу было видно, что это неправда. Никола Невинный, наверное, специально тянул время, издеваясь над Беатрис.
– Что вы думаете делать, госпожа?
– А ты что сделала? Что сказала Клод?
– Я сказала, что вы наверняка захотите с ней об этом поговорить.
– А что она? Умоляла ее не выдавать?
– Нет, – нахмурилась Беатрис, – рассмеялась в лицо и ускакала.
Я заскрежетала зубами. Клод превосходно известно, что ее девственность – величайшая ценность для Ле Вистов и что она обязана сохранить непорочность ради мужчины, который станет ее мужем. Когда-нибудь ее муж унаследует состояние Ле Вистов, а может, еще и титул. Дом на улице Фур, замок д'Арси, мебель, драгоценности, даже заказанные Жаном шпалеры – все достанется мужу Клод. Жан найдет достойную партию, но и Клод не должна ударить лицом в грязь. От нее ожидаются благочестие, почтительность и, само собой, невинность. Если бы ее застукал отец – при одной мысли о подобной вероятности меня охватила дрожь.
– Я поговорю с ней, – сказала я. Злость на Беатрис улетучилась, уступив место негодованию на Клод, которая из-за какого-то пустяка готова была запятнать наше доброе имя. – И поговорю прямо сейчас.
Когда мы с Беатрис вернулись, девочки уже поджидали меня. Малышка Женевьева и Жанна бросились мне навстречу, а Клод сидела возле окна и играла со щенком, держа его на коленях. Она даже не взглянула в мою сторону.
У меня совершенно вылетело из головы, зачем я устроила этот сбор. Но младшие – особенно малышка Женевьева – казались настолько счастливыми, что пришлось выдумывать предлог на ходу.
– Девочки, вы наверняка знаете, что скоро дороги просохнут и мы поедем в замок д'Арси на все лето.
Жанна захлопала в ладоши. Она обожала отдыхать в замке. Носилась как безумная с ребятней из ближайших деревень, почти все время – босиком.
Клод тяжко вздохнула и притянула к себе щенка за голову.
– Я бы лучше осталась в Париже, – пробормотала она.
– Перед отъездом мы справим праздник весны, – продолжила я. – Наденете свои обновки.
У меня вошло в привычку заказывать дочерям и камеристкам наряды к весенним праздникам.
Камеристки заговорили все разом, одна Беатрис молчала.
– А теперь, Клод, пойдем со мной. Я хочу взглянуть на твое платье. Меня беспокоит вырез. – Я подошла к дверям и обернулась. – Мне нужна только Клод, – пояснила я камеристкам, которые было зашевелились. – Мы ненадолго.
Клод закусила губу, но не двинулась с места, продолжая возиться с собакой – то поднимая, то опуская ей уши.
– Либо ты идешь, либо я разорву твое платье собственными руками, – вспылила я.
Камеристки зашушукались. Беатрис взглянула на меня с изумлением.
– Мамочка! – воскликнула Жанна.
Глаза у Клод расширились, лицо исказилось от злобы. Она поднялась, сбросив щенка на пол с такой грубостью, что он даже взвизгнул, и направилась прочь, глядя прямо перед собой. Я последовала за ее прямой спиной через анфиладу комнат, отделяющих мою спальню от ее.
Спальня у Клод меньше, чем у меня, и обставлена скромнее. Безусловно, у нее нет пятерых камеристок, которые проводят здесь бо́льшую часть дня. Камеристкам требуются стулья и стол, подушки, скамеечки для ног, камин, ковры на стенах, кувшины с вином. В комнате Клод все очень просто: кровать, застеленная красно-желтым шелком, стул, туалетный столик да сундук для платьев.
Ее окно выходит во двор, а мое смотрит прямо на церковь.
Клод подошла к сундуку, вытащила новое платье и швырнула его на кровать. С минуту мы обе разглядывали наряд. Платье было просто заглядение – из черного и желтого шелка, разрисованного гранатовым узором. Поверх него надевалось бледно-желтое сюрко. Мое новое нижнее платье покрывал такой же рисунок, только сюрко я заказала из красного шелка. На празднике мы бы составили великолепную пару, хотя в данную минуту я предпочла бы, чтобы наши одежды разнились, дабы не давать повода для сравнения.
– С вырезом все в порядке, – сказала я. – Я хотела поговорить о другом.
– О чем? – Клод встала возле окна.
– Если ты не прекратишь грубить, я отошлю тебя к бабушке. Там тебе быстренько напомнят, как положено вести себя с матерью. – Моя мать выпорола бы Клод за милую душу, не посмотрев, что она наследница.
Слегка помешкав, Клод пробормотала:
– Прости, мама.
– Погляди на меня, Клод.
Она подняла свои зеленые глаза, в которых читалось скорее смущение, нежели злость.
– Беатрис мне все рассказала.
– Предательница. – Глаза Клод округлились.
– Ничего подобного, она поступила совершенно правильно. Она пока еще моя камеристка и обязана выказывать преданность. Но дело не в ней. У тебя вообще голова есть на плечах? Да еще в комнате отца?
– Я хочу его, мама. – Лицо Клод просветлело, как будто на нем бушевала гроза, а потом налетел ветер и разогнал тучи.
– Не говори ерунды, – фыркнула я. – Что ты об этом знаешь?
Тучи опять сгустились.
– А что ты знаешь обо мне?
– Я знаю, что тебе не к лицу путаться со всякими проходимцами. Художник не многим высокороднее крестьянина!
– Неправда.
– Разве тебе не ясно, что ты выйдешь замуж за человека, которого выберет отец, – дворянина, достойного породниться с дворянской дочерью. Ни к чему ломать себе судьбу из-за художника или кого-то там еще.
На лице Клод появилась гримаса отвращения.
– Я не обязана походить на старую высушенную грушу только потому, что вы с папой не делите ложе.
Меня так и подмывало ударить ее по пухлым красным губам так, чтобы из них потекла кровь. Я сделала глубокий вдох.
– Доченька, похоже, это ты меня совершенно не знаешь. – Я распахнула дверь. – Беатрис!
Я крикнула очень громко – на весь дом. Мой крик наверняка слышали дворецкий в кладовых, повар на кухне, конюший в конюшне, служанки на лестнице. Если Жан дома, он, несомненно, тоже слышал, сидя у себя в кабинете.
Наступила тишина, более напоминающая кратковременное затишье перед вспышкой молнии и ударом грома. А затем дверь в соседнюю комнату рывком распахнулась и вбежала Беатрис, за ней – камеристки. При виде меня Беатрис сбавила шаг, а камеристки застыли как вкопанные на равном расстоянии друг от друга, точно жемчужины на нитке. В дверном проеме встали Жанна и малышка Женевьева, заглядывая внутрь.
Я схватила Клод за руку и грубо подтащила ее к дверям, так что она очутилась лицом к лицу с Беатрис.
– Беатрис, отныне ты служишь моей дочери. Не спускай с нее глаз ни днем ни ночью. Куда бы она ни пошла, следуй за ней: на мессу, на рынок, в гости, к портному, на уроки танцев. Ты будешь с ней, когда она ест, катается верхом или спит, и не в одной комнате, а в одной постели. Ни на миг не выпускай ее из виду. Стой рядом, когда она отправляет малую нужду.
Одна из камеристок разинула рот от удивления.
– Докладывай мне, если она вдруг чихнет, рыгнет или пустит газы.
Клод рыдала.
– Ты обязана знать, когда ей пора расчесать волосы, когда у нее месячные, когда она плачет. Беатрис и все прочие, вам наказано проследить, чтобы во время весеннего пира ни один мужчина не приблизился к Клод даже на пушечный выстрел. Никаких разговоров, никаких танцев, никаких стояний рядом. Отныне моей дочери нет доверия. Для нее это будет скверный праздник. Но главное, Клод должна обучиться почитать родителей. Поэтому она безотлагательно отправляется на неделю в Нантерр к моей матери, а я посылаю нарочного с предупреждением: пусть при необходимости пустит в ход розги.
– Мамочка, – шептала Клод, – ну пожалуйста.
– Тихо. – Я бросила суровый взгляд на Беатрис. – Беатрис, собери вещи Клод.








